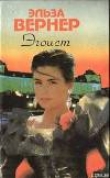Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
– В чем?
– В чем, в чем… Они говорят: у тебя специальность, и хоть мы не хотели (они не хотели-то дочку выдавать), но раз уж в цирке, так давай уж в цирке – дело, во всяком случае. А ювелир, говорят, это еще вилами на воде, и вообще сомнительно. Да, здесь еще и не так сомнительно станет. Значит, по-твоему, Бенвенуто Челлини – это так, а на арене это, значит, дело? А у меня руки… Я тонкость руками чувствую. И потом, я себя воспитываю, привычки, например, культивирую.
– А зачем культивировать? – вставил я, но он не ответил, а потупил глаза и некоторое время молчал; потом поднял глаза и посмотрел в мои с пристальностью:
– Знаешь, – решительно заговорил он, – скажу тебе без страха, откроюсь, то есть. Я, видишь ли, совсем и не Коробкин, – он остановился, подождал – ни скажу ли я чего – и продолжал: – Да, я не Коробкин. Это жены фамилия. Но что мне было делать! – он придвинулся ко мне и тронул за руку. – Мне ведь на арену, афиши и прочее. А здесь… Коробкин тоже, – он пожевал губами, – как сам понимаешь, не блеск. Но своя-то у меня… Да, трудно с судьбой совладать. Да, видишь ли, судьба.
– А какая твоя?
– Моя? Моя, если хочешь знать… Моя – Жидкий.
– Как? – переспросил я.
– Жидкий, говорю, – произнес он внятно и посмотрел на меня почему-то с победоносной гордостью.
– Ну и что? – сказал я как можно более равнодушно.
– Как?! – он даже испугался моего равнодушия. – Да ты что, не понимаешь?! Мне ведь жить. А как? Каждому не объяснишь. Я вот и матери говорил: «Что это, говорю, у нас за фамилия такая?» А она, видишь ли, обиделась: «Жили, говорит, сынок, и не хуже других были, ничем себя не замарали, наша фамилия, говорит, без пятна». Да я разве об этом. В школе дразнили – ладно: там к любому что хочешь прилепят. Но здесь… общество. Мой тесть, понимаешь, – он опять повел глаза к небу. – Всякие люди приходят, и прочее. А здесь – Жидкий, и все тут тебе, как хочешь, так и пляши. Может, знаешь, что «Петр» означает? Петр – это камень, твердость то есть. А фамилия – в обратном состоянии. Вот и получается: «твердый жидкий».
– А «Челлини» что означает? – спросил я.
– При чем здесь это, – он досадливо махнул рукой. – Я тебе про жизнь толкую, а ты… Между прочим, чтобы все точки поставить, открою тебе еще: я не Жидкий, а Житкий, у меня «т» в середине. Но разве это учитывают! Не будешь каждому объяснять: где «т», а где «д». Одному так объяснял – вроде и интеллигентный был человек – а он мне: «Как, говорит, ни крути, а смысл один».
– И что теперь?
– Что теперь? Живу, как видишь, борюсь с судьбой. Подожди, еще не поздно, как говорится. Мне бы, – он вздохнул, – «ювелиркой» заняться, я бы тогда… Так что – жизнь трудна, – заключил он; я согласительно покачал головой. – Ладно, – сказал он решительно и отступил на шаг, – ты к себе иди, а мне еще купаться надо.
– Так холодно уже, – сказал я, оглядевшись, – и темнеет.
– Каждому свое, – проговорил он почти скорбно. – Привычка – понять нужно.
Он поднял мне в приветствии руку, слабо махнул, развернулся так, будто находился в узком пространстве и боялся задеть что-то, и, сутулясь, пошел по дорожке. Я не долго смотрел ему вслед.
Поднявшись на веранду, я постучал в дверь Алексея Михайловича, потом дернул дверь, но она была заперта. Я чувствовал усталость, разделся и лег (хотя не было еще и восьми часов); и так проспал до самого позднего утра.
Проснулся я около девяти, только успел умыться и одеться, как в дверь постучали: стук был короткий и еле слышный, а затем дверь растворилась. Вошел Владимир Федорович Никонов. Его посещения, да еще в такой ранний час, я совсем не мог ожидать, а потому, не приглашая его войти, стоял молча посреди комнаты и смотрел на него. Но он, как видно, не нуждался в моем приглашении и вошел, и сел, хотя совершал каждое движение с какою-то особенной деликатностью. Минуту, наверное, или даже больше, мы молчали. Он не разглядывал комнаты, вообще не глядел в стороны, а – только на меня; изучающе.
– Вы что-то хотели? – проговорил я, стараясь скрыть почему-то подступившее ко мне волнение.
– Ничего особенного, – отвечал он, вставая. – Хотел спросить про вашего соседа, да вы, наверно, и сами не знаете.
– Что спросить?
– Да нет, так, извините. Еще увидимся.
И он вышел, мягко прикрыв за собой дверь. Я постоял некоторое время, пытаясь что-то такое в себе прояснить, но прояснить ничего не смог. Время было идти на завтрак. Я зашел к Алексею Михайловичу, хотел было рассказать ему о визите старика, но – ничего не сказал: вид Алексея Михайловича был какой-то скрыто-удрученно-усталый. Я подождал несколько минут, пока он собирался: все он делал медленно и словно бы и не знал, что ему нужно было делать. Но наконец он собрался, и мы отправились в столовую.
3Столовая располагалась возле основного корпуса. Мы вышли на густо поросшую кустарником аллейку. Кустарник был давно не стрижен, а деревья за ним стояли часто, солнце едва проникало сквозь листву; на дорожке лежали сетчатые тени, на кустах они обращались в сумрак, а дальше, меж стволов, так уж настоящая мгла стояла.
Зал был просторный, гулкий, с высоким потолком и люстрой в центре – стеклянные льдинки и капли пышно свисали с нее. Столы не обычные – прямоугольником, а треугольные, с овальными углами. Мы прошли в конец зала, Алексей Михайлович сел лицом к залу, указал мое место:
– Теперь твое. Твой предшественник вчера благополучно уехал, – и он впервые за все время улыбнулся.
Я стал глядеть по сторонам, но все как-то мимоходом, ни на ком не останавливаясь взглядом. Отдыхающие занимались приемом пиши, ожиданием приема и разговорами. Я подумал, что надо научиться смотреть со смыслом, подмечательно, если уж смотреть; и не для отдыха же рассеянного я в самом деле сюда приехал. Сказав себе это, я сразу остановил взгляд на молодой женщине, правда, сидевшей далеко и почти спиной, да еще наполовину прикрывало ее плечо мужчины за соседним столиком. Я чуть подался вперед, чтобы выглянуть из-за этого мешающего сосредоточению плеча, как до этого безучастно сидевший и что-то чертивший пальцем на скатерти Алексей Михайлович проговорил:
– Это Леночка из основного, первая красавица нашего срока. Приехала с мужем: вон он сидит, с бородой. У них здесь компания человек в шесть: сходки вроде какие-то устраиваются, кажется, что-то философическое. У них там как клуб, а муж ее вроде председателя. Туда, как я понял, многие войти стараются, да не всех принимают: Леночка, кажется, притягательнее философии. Но муж, судя по всему, человек принципиальный. Впрочем, при такой разнице в возрасте станешь принципиальным. Ты тоже к ним попробуй. А? Ты ведь как будто к философичности не равнодушен?
– Да я не в этом смысле… – начал я, но Алексей Михайлович меня перебил:
– Извини, и я не в том.
Не успел я что-либо придумать в ответ, как, выразительно помахав еще издали рукой, к нам подходил Никонов. Подошедши к нашему столу, он распрямился подчеркнуто и столь же подчеркнуто приблизил правую ладонь к виску, в отдаленном подобии отдания воинской чести.
– Рад приветствовать и прошу принять, – воскликнул он; бодрое это восклицание, после того, что я видел вчера и сегодня утром, прозвучало странно.
– Садитесь, – с безразличием в голосе, но чуть поджав губы, сказал Алексей Михайлович, – только…
– Он не придет, потому как уже отобедал, – быстро сказал Никонов, усаживаясь, – за моим столиком. Я с ним по обоюдной договоренности поменялся, чтобы к вам, согласно… простите, намеренно.
– А-а, – протянул Алексей Михайлович, – понятно. Целеустремленность ваша… Ладно, оставим это. Раз уж пришли…
– К вашим услугам, – поклонился Никонов.
– Вот-вот, именно, к услугам, – проговорил Алексей Михайлович, снимая с подноса подошедшей официантки тарелку и внимательно рассматривая содержимое.
– Шутить все изволите, уважаемый Алексей Михайлович, – примирительно улыбнулся Никонов. – А молодой человек совсем по-другому ваши слова понять может.
– Никак он не может, – буркнул Алексей Михайлович и обернулся ко мне: – Так?
– Я… не знаю, – сказал я.
– Это еще как сказать! – воскликнул старик, поднимая палец кверху и поведя им из стороны в сторону.
– Слушайте, Владимир Федорович! – отозвался Алексей Михайлович, отрывая глаза от тарелки. – Да что же вы! Вы сказали: «к вашим услугам». Ведь не так просто сказали?! Вы, как я понимаю, ничего просто так не говорите. То есть уже успел понять.
– Да помилуйте, Алексей Михайлович, мое замечание совсем случайное, и оно не имеет…
– Ну хорошо, пусть не имеет, – сказал Алексей Михайлович, подбирая коркой хлеба остатки соуса, в то время как мы еще и не притрагивались к еде. – Вы уж извините, но какая вам такая радость эти разговоры здесь заводить – хоть здесь-то можно было и потерпеть. И при вашей проницательности, и уме тоже, вы бы могли понять…
Никонов пожевал губами, постукал тихонько ножом о вилку, наклонил голову, отчего многочисленные его морщины стали еще заметнее, потом резко поднял голову:
– Вы правы, – сказал он, чуть разводя в стороны руки и помахав столовыми принадлежностями, – но – только отчасти. Не принимаю ваше замечание о моем уме как ироническое. Что же касается разговоров, как вы выражаетесь, неуместных, то вы сами меня на таковые подвигаете, отказываясь – и упорно – говорить по существу.
– А, вы опять за старое. – Алексей Михайлович постучал по дну стакана, выбивая прилипшую к стенке ягоду. – Но я вам уже сказал, что все это несерьезно. Скажу даже – вообще несерьезно. Но если вы думаете иначе, то предложите кому-нибудь еще. Хоть на пробу. Вот ему, – он кивнул в мою сторону, – к примеру, предложите. Да вы не беспокойтесь, я лишнего не скажу, не в моих привычках.
– Понимаю. Понимаю и верю. – Никонов покачал головой. – Но еще раз убедительно вас прошу… Нет-нет, не подумать вас прошу, а еще раз выслушать, – он покосился в мою сторону. – Ведь вы понимаете, как это серьезно и какие могут… последствия. И подчеркиваю, совсем не для меня одного. Я понимаю: ваша ирония вас защищает, но посудите сами, каково мне, когда я вас выбрал, – тут он сделал извинительное движение, почти дотронувшись до рукава Алексея Михайловича кончиком ножа. – Извините, я не так выразился: не я выбирал, а, так сказать, обстоятельства… жизни.
– Ну вот, опять вы за свое, – обтерев руки салфеткой и вставая, вздохнул Алексей Михайлович. – Ставите меня и себя в такое положение. Вот и Александр что подумает. Ну, хорошо, хорошо, не обижайтесь, я просто устал. Пойду. В другой раз… поговорим. Выслушаю, если так хотите. Только ничего не изменится оттого. Поймите, странный вы человек, – ничего.
Он попрощался, махнул мне рукой и ушел.
Никонов опять пожевал губами, пробормотал: «Да, еще раз», потом поковырял вилкой в тарелке, отложил вилку и повернулся ко мне.
– Такие вот дела получаются, – проговорил он, глядя в мою сторону, но мимо моих глаз, – такие вот. А вы, Саша, надолго? Ох, простите, что-то заговариваюсь я. Алексей Михайлович меня расстроил. Даже больше, чем расстроил. Да. Вот так-то.
Я не знал, что мне нужно было отвечать, и не отвечал ничего. Из странного их разговора я понял только, что старик что-то предлагает упорно Алексею Михайловичу, а тот отказывается почти категорически. Вроде бы – какое мне дело до их разговоров! Не специально же я напросился к ним в соседи! И совсем к другим мог попасть. Мог попасть, но попал к ним. И я почувствовал, что уже втянут в какую-то историю и что недаром старик подсел к нашему столу при мне и при мне же все это завел. Я даже и любопытства острого не испытывал, законного в такой ситуации. Я почему-то уже знал, что все раскроется само собой, что «дело» откроется по естественному своему течению и что в деле этом (поверьте, я еще и приблизительно не мог предполагать его сути) я буду играть определенную роль. Хотя и неизвестно – кем определенную. Но верно, что определенную мне не сейчас, здесь, за столом, не во второй день моего пребывания здесь и знакомства с этими людьми, а определенную давно и давно, может быть, и совсем давным-давно.
Понятно, что для таких заключений по первому впечатлению слишком мало, что называется, материала, и – одно из двух: или я все это приписал себе задним числом для того, чтобы оттенить мою проницательность, или же никакой проницательности я не проявил, а одну лишь романтическую наивность. Впрочем: и то и другое возможно, как и слияние в сегодняшнем моем сознании – и того и другого. Делаю эту оговорку не просто так, а для того, чтобы пояснить форму последующего изложения событий. Сейчас мне кажется, что я присутствовал в каждом эпизоде, даже и в таких, где присутствовать никак не мог (потому что одни происходили в одно и то же время, но далеко друг от друга, а другие – те и вообще в такие времена, когда меня не было на свете, и матери моей не было на свете, и отца, то есть я сам, как свидетель, не только не существовал, но и вообще находился в некотором «ничто»). Но скажите мне: разве это главное? Но ответьте мне: разве домысел всегда одна только пустая фантазия? Тем более, что домысел мой никого не хочет ввести в заблуждение, но наоборот – стремится наиболее выпукло выказать правду, идею, в конце концов. Разве он не стоит того, чтобы жить!
Но слышу, слышу со всех сторон умные голоса и смущаюсь душой. И понимаю, что есть в них правота, хотя, честно говоря, давно мне известная, как и всем, впрочем. «Что ж, – говорят мне, – голубчик, в том-то и суть литературного мастерства, таланта, наконец, что любой вымысел, даже и самый фантастический, так умело должен быть изложен, чтобы не только от правды не отличался, но и правдивее всякой правды был». «А меня самого куда девать?» – кричу я. «А себя самого можешь, как принято, в третьем лице изобразить, в любом из персонажей, на выбор. Даже в нескольких сразу», – подсказывают еще. «И в первом лице можешь, но тогда в документальном повествовании», – подсказывают еще другие. «Можно и не в документальном, а в любом, хоть в научной фантастике, хоть в ненаучной, чтобы только так все изложить, чтобы так – как в жизни». И много, много еще справедливого скажут. И смутившись душой, я покаюсь в невольном своем грехе, и пообещаю все, что требуется, и сам подумаю искренне (в тот момент), что обещание выполню. И уйду прощенный и приободренный. И направленный уйду. Но шагнув за дверь, вдруг подумаю и произнесу про себя испуганно, и два раза оглянусь. Подумаю: «А как в жизни?» И моя эта ересь о домысле – она ведь в жизни. Если думаю так и смущаюсь, то значит и живу, то значит и – в жизни, и – как в жизни. Значит – одно из двух: или замкнутый круг какой-то получается, или нечего чужие голоса слушать и душой смущаться. И захочется мне вернуться, чтобы еще и об этом доспросить. Но как-то ноги сами (или почти сами) сделают еще шаг, потом еще и еще шаги, и возвращаться теперь уже неловко, да и ушли, может быть, все, рассредоточились на время, до нового суда. И я пойду, сначала благоразумно сдерживая безрассудные шаги моих самовольных ног, медленно, потом и не сдерживая – быстрее, и – попытаюсь не оглянуться ни разу, в страхе, что вот вдруг оглянешься да и станешь столбом на дороге, хорошо, если в стороне, а то по самой середине: ни пройти никому, ни проехать.
Но это только к слову. А Владимир Федорович Никонов, новый мой знакомый и сосед по столу, сидел в глубокой задумчивости, отодвинув так и не тронутое им блюдо, а я, закончив завтрак, сидел в ожидании того, когда он из задумчивости своей выйдет. Сказать мне было нечего, а вставать первому – неудобно.
Наконец, он поднял голову:
– Ах да, вы здесь. Простите.
– Вы ничего не ели, – сказал я.
– Ничего? Да, ничего. Но не это суть важно.
Он опять опустил голову и замолчал. Я ждал: зал опустел, и кроме нас двоих, кажется, уже никого не было. Я подождал еще и, решив, что вежливость мною соблюдена вполне, проговорил вставая:
– Извините, я пойду. Мне еще нужно… и дела.
Никонов, словно со сна разбуженный резким криком над самым ухом, резко поднял голову и некоторое время глядел на меня непонимающе. Потом лицо его прояснилось – впрочем, от недоумения и испуга только до грусти, не более. Он поднял руку в протестующем, хотя и мягком жесте:
– Как? И вы хотите меня покинуть. Даже и вы? Прошу вас, останьтесь. Хотя нет – что ж – выйдем вместе, Только вы сразу не уходите, прошу вас.
И, выйдя торопливо из-за стола, он крепко подхватил меня под локоть и повел к дверям.
Я был смущен: и этими его почти драматическими фразами не к месту и тем, что пришлось на глазах у официантов выходить под руку с этим стариком.
Так мы вышли из здания столовой, так же свернули на боковую аллею, благо там была тень и народу – ни души: он крепко держал мою руку (из моих слабых поползновений освободиться ничего не вышло, да он, казалось, и не замечал ничего), голова же его почти касалась моего плеча. Но этого мало: он молчал. «Да он сумасшедший!» – вдруг ясно сказалось во мне. Я остановился и, не поворачивая головы, глядя искоса, стал осторожно, но твердо высвобождать свою руку. И вдруг – он сам отпустил меня. И даже сделал шаг в сторону. Я же повернулся к нему и встал в несколько независимую позу, даже излишне независимую. А он стоял и смотрел на меня. Я снова смутился: и позе своей «излишней», и его такому «нормальному» взгляду. Он так несколько секунд смотрел на меня, потом развел руки и слегка полол плечами:
– Простите, я вел себя не лучшим образом и, кажется, напугал вас.
– Да, – сказал я и почувствовал, что лицу моему сделалось горячо, – то есть нет. Только я не понимаю, а так… я готов.
Этот мой невнятный ответ еще больше смутил меня самого. Но он не смутил старика:
– Да и не можете понимать. Как вы меня еще за сумасшедшего не приняли. А может, уже приняли? А? Признайтесь.
Я передернул плечами.
– Скажу вам по секрету, – он вдруг подмигнул, – я очень стар. Совсем, понимаете, старик. Я даже больший старик, чем вы это могли определить по моему виду, – здесь он оглянулся и ткнул пальцем вправо от себя. – Вот скамейка здесь имеется. Сядем давайте, – и он поманил меня рукой.
Скамейка и в самом деле имелась. Стояла в тени, у самой стены кустов. Он прошел к ней и сел. Я, чуть помедлив, сделал то же самое.
– Вы, Саша, справедливо, и я это подчеркиваю, могли думать, что я по-стариковски пристаю ко всем подряд. Во всяком случае, из нашего с Алексеем Михайловичем, так сказать, общения вполне могли заключить. Но это совсем не так. Совсем не так. Я не только не пристаю, но еще и очень желаю, чтобы меня самого оставили в покое.
Он сделал паузу, подождал. Но я ничего не отвечал. Тогда он вздохнул прерывисто и продолжил:
– Заявление мое о покое вам может опять-таки показаться странным. И чтобы не оставлять вас в недоумении, чего я как раз меньше всего желаю, попытаюсь только в общих чертах, только контурно обрисовать вам, так сказать, форму моего поведения.
Он опять прервался, но на этот раз не смотрел в мою сторону, а я подумал, что как бы было хорошо, если бы я смог набраться смелости, встал бы сейчас, сказал бы ему что-нибудь резкое, вроде того, что нечего меня за дурачка держать, и – ушел. Или даже просто бы молча ушел. Но смелости этой набраться не смог, потому что такой смелости у меня и не было. Сидел же я с вполне вежливым видом. И хорошо, что смелости не набрался. Как оказалось – очень даже кстати, потому что он вдруг сказал странное:
– Потому что у меня есть тайна.
Сказал он это просто, и я вдруг в единый миг, не попытавшись еще ни в чем таком разобраться, поверил, что она есть, эта тайна, и что не какая-то незначительная, для одного его только важная, но самая настоящая, может быть, и во все пять заглавных букв.
Сказал он это просто, и никакого особенного выражения лицо его при этом не приняло. Но я почему-то поразился. И показалось мне тогда, что все это не просто. Тоже, впрочем, как-то уж очень просто показалось.
Я потом много над этим первым впечатлением думал: все его с разных сторон рассматривал. Даже полагать начал, что, неизвестно по какой причине, внутренне уже подготовлен, чтобы серьезное (очень серьезное) воспринять. Но это уже как-то вроде и мистикой попахивает. А может, и не мистикой. А если и мистикой, то, может быть, ничего плохого в этом и нет. Что же касается того, что слово это почти ругательным сделалось, то еще неизвестно, что… Но все это получаются одни только слова. Я же сейчас думаю, что главное в том было заключено, что старик был у в е р е н. Он так в важность своего тайного верил, что как ни скажи – все со значением выйдет. Так и вышло: сказалось просто, а произнеслось со значением. Потому что вера была. То есть, если сам твердо веришь, то тогда и слов подбирать не надо, всяким словом другого убедить сможешь.
– Вы знаете, что такое бриллианты? – проговорил старик, склонив чуть набок голову и глядя на меня снизу вверх; при этом он странно улыбнулся. Я же не удивился вопросу о таком для меня незнакомом предмете, но, не удивившись, и на улыбку никак не отвечал.
– Конечно же, знаете. Кто об этом не знает, – продолжал он, не дожидаясь моего ответа. – Кое-что об этом всякий сказать может. И достаточно этого «кое-чего» для несведущего. Все остальное – для специалистов. Я же спросил вас не в специальном, так сказать, смысле, а… в человеческом. Представьте себе огромную силу, которая в огромной сумме выражается. И эта огромная сила, вы только представьте себе – содержится в горстке камней. Ну как бы: огромная энергия в маленьком зарядном устройстве (не больше, к примеру, пресс-папье), а может в единый миг полгорода разрушить. Только, – и здесь он мелко засмеялся, а вернее, захихикал, – только та сила, что в этом пресс-папье, она только для разрушения пригодна, а эта, что в камешках – она для разного: кто с какой стороны возьмется. Вот вам начальная обрисовка дела, то есть ввод.
Здесь он быстро протянул руку и легко коснулся моего колена. Я вздрогнул. А он как будто только этого и ждал и еще более мелко засмеялся. Это было обидно – с одной стороны, и это было неожиданно – с другой. «Да в себе ли он?» – опять мелькнуло у меня, и я невольно выговорил вслух: «Наверное». Слово это вырвалось нечаянно, и совсем не относилось к моей догадке, и ничего особенно значимого в себе не несло. Но старик как будто бы обрадовался его произнесению.
– Ага! – воскликнул он. – Ага! Вот и вы с тем же. И Алексей Михайлович тоже что-то подобное выговорил. Сумасшедший старик! Сумасшедший старик! Никонов – чудной и сумасшедший старик. Чудной только чуть-чуть, а во всем остальном – сумасшедший. Так! Так? – он радостно оживился и несколько раз звонко прихлопнул ладонями, а после последнего прихлопа сложил их прямыми вместе и притянул к нижней губе; при этом прикосновении оживленность его как-то сразу свернулась, и я заметил капельки пота на его морщинистом лбу.
Это было уже совсем неожиданно, и я невольно подался телом в его сторону, а рука моя сама собой потянулась к его плечу. Я подчеркиваю, что все это сделалось невольно.
Но рука моя до его плеча не дотянулась: он резко, словно отмахиваясь от чего-то, развернул ко мне лицо, и мне показалось, что я наткнулся на невидимую и твердую преграду; пальцы же больно заломило. Глаза старика как будто поменяли свой цвет, он загустел до блеска.
– И ты!.. – выговорил он с трудом, но твердо и не отрывая от меня взгляда; скулы же его застыли в напряжении.
– Вам бы успокоиться, Владимир Федорович, – сказал я как можно более осторожно и тоже не сводя с него глаз. – Да и жарко теперь. Печет.
– Что? Печет? Нет! – воскликнул он и как бы удалился от меня; и по мере удаления цвет его глаз принимал естественный свой тон.
Но вдруг он встрепенулся и почти вскрикнул обеспокоенно:
– Что это вы на меня так смотрите? Не надо на меня так смотреть. А? Я что-то сказал вам? А? – и добавил, оборвавшись на мгновение, мягко и устало: – Извините, я задумался: бывает, знаете. Да и жарко.
– Бывает, – подтвердил я.
– Вот видите?! Да… А я ведь вам про камушки не досказал, про бриллианты, то есть, совсем ничего не сказал – только начал. А это – дело серьезное, даже более, чем вы можете себе предположить, то есть представить. Да, да, более серьезное, чем вы можете себе представить, хотя я понимаю, что мой вид… что он не располагает. Но вы подумайте, вы вспомните, что самое столетнее вино может храниться в весьма неприглядных сосудах. Хотя, – он слабо улыбнулся, – хотя и уксус тоже. Но вы поверьте, что у меня вино. Вот Алексей Михайлович – он поверил, я знаю, только он признаться не хочет: великой трезвенности человеком себя полагает. В том смысле, что ничего загадочного не признает. А ведь в моем деле никакой мистики нет – почти один, так сказать, голый реализм. Ну, признаться, не совсем уже и голый, а, скорее, вполне прилично одетый, но… Но – шутки в сторону. И у меня мало времени. Мне надо спешить.
– Так, может быть, для другого раза оставим, – неуверенно предложил я.
– Нельзя до другого раза, – деловито и совсем не обратив внимания на явно выраженное мной желание отвечал он. – Я имел в виду не сиюминутный смысл, когда сказал: «мало времени», а, если хотите, в масштабе жизни. Но сейчас не в этом дело – когда-нибудь и до этого вопроса дойдем. А сейчас… – но здесь он перебил сам себя и, поведя в мою сторону мягко рукой, спросил: – А вы временем, надеюсь, располагаете?
Но здесь я сплоховал, и предыдущая моя фраза никакой поддержки не получила: я только пожал плечами. Впрочем, кажется, красноречиво. Но красноречие моего пожатия плечами, как видно, не могло быть принято в расчет, и он произнес то, что и должен был произнести:
– Вот и прекрасно. Тогда продолжим.
Он поудобнее расположился на скамейке, закинув руки за спинку так, что почти касался моего плеча; я же сидел вполоборота к нему, глядя на носки его туфель светло-коричневой кожи; следует добавить, что туфли были самого модного фасона. И хотя первое впечатление от его сообщения о тайне как-то поразмякло во мне, я решил выслушать его до конца, тем более что другого выхода у меня теперь не было. Он же, сделав паузу, словно для того только, чтобы я мог про себя все это промыслить, начал:
– Должен сделать еще одно пояснение, необходимое. Я несколько удивлен, признаюсь, тем, что вы не задали мне необходимого, во всяком случае, естественного вопроса: почему я выбрал вас? и почему вы должны брать на себя знание моей тайны? Вы не задали его (что говорит о вашей деликатности), но мне все равно необходимо на него ответить. Так вот: мне нужны не вы, мне нужен Алексей Михайлович. Но сам я с э т и м справиться не могу, тем более что нахожусь в двойной опасности (о чем – позже), и хочу просить вас быть мне помощником. Вернее, не мне – что я сам! – а делу. Только у меня одно условие. Вы его, надеюсь, пожелаете выслушать?
Я сдернул взгляд с носков его туфель и повел вверх, но, доведя только до переносицы, остановился и сказал: «Да».
– Прекрасно. Условие же мое таково: если вы посвящаетесь в мою тайну, то тем самым и обязываетесь помогать. Если же отказываетесь, то делайте это сейчас, так сказать, до посвящения. И тогда – вы свободны…
Он опять замолчал, а я поднял взгляд к его глазам. Они смотрели внимательно, и я опять почувствовал в себе прежнее волнение. Да и любопытство тоже, но любопытство – в последнюю очередь. И как это ни странно мне самому, я понял, что должен вот сейчас принять в а ж н о е решение и что его слова о посвящении – есть не просто слова, а мой ответ будет – не просто ответом.
Вот ведь как повернулось: и двух дней не прошло, как я знаком с этим человеком, и десяти минут не прошло, как я в последний раз подумал, что он, конечно же, не в себе, и минуты не прошло, как я раздумывал о способе прекратить этот разговор – а вот уже и волнение во мне поднялось настоящее, и решение я должен принять важное, и в дело могу вступить таинственное (я уже в таинственности не сомневался). Вот ведь как все поворачивается. Вот и думай, что человек может предполагать. А главное, что и любопытство, такое естественное чувство в моем положении, на последнем месте, только, может быть, самый краешек и виден, а если не знать, что там, за этим краешком, продолжается, то и того не заметишь.
– Так вы готовы дать ответ? – несколько торжественно произнес старик. Но и эта торжественность не показалась мне ложной.
– Я дам… – отвечал я, стараясь говорить ровно. – То есть, конечно же, я готов, но…
– Да, да, вы правы, – перебил он меня. – Я упустил еще одно обстоятельство. Конечно, если дело покажется вам… безнравственным или, так сказать, несоответствующим вашим убеждениям – чего, уверяю вас, быть не может – то тогда, конечно, я снимаю свое условие. Но только в одном случае. Только в этом одном. Я правильно вас понял?
– Да, правильно, – я вздохнул. – Только вы мне, если можно, все же поясните сначала: почему вы, как вы говорите, меня именно выбрали? Мы ведь… то есть я… мы мало знакомы. И, я хочу сказать, это все-таки риск для…
– Для моего дела, – закончил он за меня. – Да, риск, это так. Но «выбрал» я вас потому, что у меня нет выбора. Вы простите мой каламбур – случайно. Во-первых, вы оказались, скажем, приятелем Алексея Михайловича…
– Но мы только еще два дня, – начал я, но он не дал мне говорить.
– Это не имеет значения, – проговорил он строго. – Во-вторых, я смотрел в ваши глаза. И хотя аргументы, как можете сами судить, слабые, но… Я вам уже говорил, что две опасности меня подстерегают, и, заметьте себе, реальные. Первая – время, его у меня немного, а вторая – не знаю, которая из них опаснее – вторая… один человек. Вот и все мои пока объяснения. Да, к слову: об опасностях вы один теперь знаете только, – во всяком случае, о второй, относительно первой могут быть догадки, – и Алексей Михайлович не должен знать совсем. Об этом я заранее вас предупреждаю, до дела еще. Помните, прошу вас, об этом.
Во второй уже раз он упоминал об опасностях. Сначала я подумал, что это так, к слову только, лирическая вставка. Но вот теперь он сказал достаточно определенно: «один человек». И если такой человек существует, а я уже и не сомневался в его существовании, и если он находится где-то недалеко, и если в самом деле от него исходит опасность (а не неприятность, например), вторая по счету старика, то тогда первая опасность, время, тоже может стать вполне реальной. И если я поверю во все это… дело, если приму условие старика, то… Нет, кажется, у меня излишне криминальная направленность. Но…
– А что, Владимир Федорович, этот человек, о котором вы сейчас упомянули, он что, в самом деле опасен для… – сказал я и запнулся.