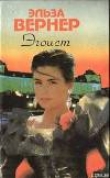Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
– Что какая? – выдавил я, делая те же усилия.
– Какая, спрашиваю, рубашка – синтетическая?
– Синтетическая, – подтвердил я.
– Вот говорят же, что вредна для тела, а выходит, что и вообще вредна.
Я не ответил, хотя и подумал про себя, что во время бури крепкость синтетической как раз на пользу.
Прекратив напрасные действия, мы уже не разговаривали, сомнениями и страхами своими не делились, надеждами тоже. Мы лежали в недвижной воде, привязанные к поплавкам, и делали то, что нам одно оставалось делать – ждали. Чего? Чего-нибудь. Иногда казалось, что что-то страшное и враждебное подкрадывается снизу, и я судорожно дергал ногами. Мы перестали уже и смотреть по сторонам, перестали прислушиваться – лежали тихие и безучастные к себе и миру.
Так прошло много времени, во всяком случае, мне так казалось, что много. Может быть, мы впали в полузабытье, но я уже не держался руками за поплавок, а висел на рубашке, и глаза мои закрывались сами по себе и сами по себе открывались.
И когда я услышал приближающийся шум мотора, я тоже не сразу открыл глаза – я уже не доверял собственному слуху. Но слух не обманул, потому что катер (а это был катер: я приподнял голову и увидел его) быстро приближался.
Это был достаточно больших размеров катер, высоко сидящий на воде; он шел прямо на нас (я это понял и подчеркиваю, что он шел к нам не потому, что искал и заметил, но шел на нас, потому что знал) на хорошей скорости. Катер резко завернул рядом с аппаратом, тот закачался от его волн, и я увидел, что у руля стоит Думчев, в своей неизменной шляпе, надвинутой на самые уши, в тенниске с коротким рукавом, в шортах с двумя накладными карманами спереди. Он сделал возле нас полукруг и на повороте лихо застопорил двигатель. Коробкин тоже поднял голову, но на лице его было уныние.
– Приветствую потерпевших бедствие и счастливо спасенных! – провозгласил Думчев, одной рукой держась за штурвал, а другую вытянув перед собой наподобие римского приветствия (он некоторое время еще подержал руку, но видя, что на нас это не производит впечатления, опустил).
– Ладно, – сказал он, – тогда будем спасаться. Ну, кто первый, полезай!
Но никто из нас не имел возможности «полезть». Коробкин хлопнул ладонью по воде:
– По вашей милости мы здесь… а еще издевается. Нож давайте.
– Во-первых, не по моей милости, – резонно заметил Думчев. – Я вас предупреждал. А во-вторых, с чего это я буду давать вам нож на свою голову.
– Да не на вашу, – устало сказал я, – нам отвязаться, то есть отрезаться нужно.
– А-а, – протянул Думчев, внимательно оглядев нас, – понимаю. Так сказать, «Плот «Медуза».
Он достал большой кухонный нож и, перегнувшись через борт, протянул его Коробкину. Тот долго возился с узлом, потом передал нож мне. С помощью Думчева мы поднялись на борт. Наш перевернутый аппарат с завязанными на каждом из поплавков лоскутами – красным и белым – отсюда представлял собой жалкое зрелище.
– Ну что – вперед! – провозгласил Думчев и снова поднял руку в характерном жесте.
– Куда вперед?! – ворчливо отозвался Коробкин и ткнул пальцем в сторону нашего аппарата. – А это? За него, между прочим, деньги придется платить.
– Деньги? Что деньги! – элегически проговорил Думчев, – тлен, так сказать, и возбудитель томления духа.
– Если у вас этого возбудителя много, то сами и заплатите, дядя, – сказал Коробкин.
– Нет, у меня не много, – серьезно отвечал Думчев.
Они еще попререкались в несколько фраз, но все закончилось тем, что нам пришлось снова прыгать в воду, переворачивать наш аппарат и привязывать его к катеру для буксировки. С помощью Думчева мы с этим успешно справились. Можно было отправляться. Думчев запустил двигатель, и мы, буксируя наш аппарат, средним ходом двинулись обратно. Изрезанные наши рубашки были непригодны по их прямому назначению, и хотя Думчев советовал нам оставить их себе на память, мы решили подарить их морю и с некоторой даже торжественностью, развернув, бросили за борт; красное и белое пятно только мелькнули на мгновение в пенистой дорожке от винта.
Мы сели на лавку позади Думчева, который, расставив широко ноги и уперев взгляд в пространство перед собой, очень живописно смотрелся за штурвалом. Время от времени он поворачивался к нам, и взгляд его был строгим.
Так мы сидели, но вот Коробкин, легонько подтолкнув меня в плечо и многозначительно подмигнув, сказал громко:
– Я вот о чем подумал, не скинуть ли нам дядю за борт и не продолжить ли приятную прогулку в одиночестве? Очень уж дядя любит подводное плаванье – почему бы нам ему не сделать удовольствие?!
Думчев повернулся к нам: рулевого колеса он по известным причинам не выпустил из рук, но встал боком и так, словно к нему могла подоспеть подмога, оглянулся по сторонам.
– Вы чего это – шутите? – кивнул он головой и опять огляделся.
– Чего бы это нам шутить! – изобразив кровожадность на лице, ответил Коробкин. – Это вы большой любитель шуток, дядя.
– Но-но, – подняв палец, независимо, но еще дальше отодвигаясь за штурвал, сказал Думчев, – вы это бросьте, я такие…
Но Коробкин перебил его:
– Еще как бросим, – проговорил он, вставая.
Но здесь, что называется, в мгновенье ока, Думчев выхватил откуда-то из-за штурвала нож и воинственно поднял его над головой. Произошло все так быстро и нешуточно, что Коробкин машинально шагнул назад, а я быстро поднялся.
– Со мной, так сказать, шутки плохи, – прокричал Думчев и взмахнул ножом. – Я сам быстро отправлю… того.
– Да вы что, Андрей Ильич, – сказал я примирительно и выставил перед собой руки, – он же шутит.
Думчев внимательно глянул мне в глаза и опустил нож:
– Такие шутки, знаете… того… кончаются…
– Ладно-ладно, дядя, – сказал из-за моей спины Коробкин, поднимая вверх руки, – беру обратно… – и добавил, снова усаживаясь: – Преступление, дядя, налицо, а вот наказания, как видно, не предвидится.
– Какое преступление? – ворчливо спросил Думчев.
– Как какое? А буря? Кто бурю вызвал?
– Во-первых, не бурю, а только сильный и кратковременный ветер, – пояснил Думчев. – Во-вторых, не я его вызвал.
– Не знали?
– Знал.
– И уняли.
– Ходатайствовал, – сказал Думчев со вздохом, словно жалел о содеянном.
– Так вы с теми силами, – как и в тот раз покрутил руками перед собой Коробкин, – знаетесь. Вы, дядя, может, бес? А?
– Не бес, – пожевав губами, сказал Думчев и повторил решительно, чуть помедлив: – Нет, не бес.
– Но с с и л а м и-то знаетесь?
Думчев вздохнул:
– Какая разница?
– Эх, дядя, великий вы, как я понимаю, грешник. Моя бабка, информированная в таких делах, между прочим, старушка – она бы вам объяснила, как в аду грешникам пятки подпаливают и всякие другие удовольствия.
– А вы что, верите в ад? – быстро спросил Думчев.
– Ну, как сказать, скорее – отвлеченно.
– Значит, не верите. Так, – сказал Думчев профессорским тоном. – А напрасно – прелюбопытная вещь. Могу пояснить.
– Давайте, дядя, – подмигнув мне, согласился Коробкин.
– Потусторонняя жизнь, – начал Думчев, – она ведь на две категории, как вам должно быть известно, подразделяется: райскую и адовую. Понятно, что в раю праведники, а в аду, так сказать, – все остальные. С раем все понятно: там элита, что называется, чистые праведники. Не могу сказать точно, по какому принципу туда зачисляют, но принцип есть. Что же касается второй категории, то там все непросто: наряду с откровенными грешниками (их в общем немного), туда попадают разного рода заблуждавшиеся в этой жизни элементы, как-то: думавшие праведно, но потихоньку грешившие, те, кто поносили все время управляющего злом и восхваляли управляющего добром, а сами – и вашим и нашим. Ну и так далее. Вот этим – и вы правильно говорите со слов вашей почтенной бабушки, им не только пятки – это мелочь – им там… Но – не будем об ужасном. Управителю зла они не нужны, там и так переполнено, но он в некотором смысле просто демократичнее управителя добра, да и, как-никак, рангом пониже, хотя, подчеркиваю, широко автономен. Ясно, за что там всяких половинчатых грешников мучают. Но, посудите сами: за что же мучать грешников откровенных, честных, так сказать, в своем грехе. Если цель управителя зла (а это его цель) сеять зло повсюду, то почему же он должен наказывать впоследствии своих же собственных последователей и почитателей? Если раем награждают цельных праведников, то адом награждают (и я совершенно отвечаю за слово «награждают») – цельных грешников. Цельность в человеке – вот главное и достойное уважения качество, даже и на самом высочайшем уровне.
Этим Думчев заключил небольшую свою речь.
Коробкин с начала речи все порывался вставить вопрос и подмигивал мне, но потом как-то заскучал, а в конце и совсем стих. Видно, события последних часов не прошли даром. Заключительных слов Думчева он, кажется, уже не слышал.
Подведя катер к ограничительному буйку, кажется, тому самому, от которого все и началось, Думчев выключил мотор и, повернувшись к нам, кивнул в сторону аппарата. Мы поняли и, ни слова не говоря, подтянули его поближе к корме, и – покинули борт.
Думчев дождался, пока мы отплыли на достаточное расстояние. Я оглянулся только тогда, когда катер, шедший вдоль побережья, превратился в точку.
Закончив все дела с передачей водного велосипеда, мы вернулись к камню, сели возле него и стали смотреть на море. Оказывается, наше путешествие продолжалось всего около двух часов. Теперь, сидя на горячем песке и глядя на блестевшую в лучах еще высокого солнца воду, я думал: «А было ли вообще все это? Или привиделось, прислышалось, придумалось, открылось в сознании и – мгновенно ушло за черту, только дав знать нам, что все может с человеком случиться на свете и что смерть, хотя и невидима, но всегда рядом».
И еще я думал, что совсем и невозможно ежеминутно помнить, что смерть всегда рядом. Ежеминутно помнят об этом только смертельно больные, монахи да поэты. И здесь я опять вспомнил о Марте, и смешная, на сторонний взгляд, пришла ко мне мысль: «А что, если бы я не вернулся бы сейчас, а погиб бы в море вместе с Коробкиным: плавали бы, плавали бы так, привязанные рубашками к поплавкам, а потом и погибли бы. А Марта бы узнала, что я погиб – что бы тогда? А ведь ничего. Почти ничего. Так, вежливое сострадание, как ко всякой смерти постороннего, как ко всякой посторонней смерти. А я, я сам, думал бы я в последние минуты о ней? Нет, наверное, не думал бы. Может быть, о маме? Не знаю, может быть. Что же получается: она бы не пожалела, я бы не вспомнил. Но если так, то для чего же сейчас я вспоминаю о ней? Значит, и это все напрасно. И в моих думах о ней, и в моем разговоре с ней, и в ее слезах при мне – во всем этом нет ни капли смысла, а есть только сиюминутные и бесполезные движения. Души? Наверное, не души. Но неужели от этих моих дум о ней или от этих ее слез при мне, неужели от этого, хоть на самую наимельчайшую часть, ничего не изменилось в мире? Неужели хоть какой-нибудь малой пылинки не добавило это миру? Но это страшно, если – ничего. Но этого не может быть. Не может быть, чтобы после – ничего, если все-таки что-то было.
Я посмотрел на Коробкина: он сидел, обхватив руками колени и упершись в них подбородком.
– Ну что, – сказал я, – на вечер не передумал?
– Нет, – ответил он, не повернув головы.
– Хорошо. Тогда так: в половине восьмого буду ждать тебя на скамейке – от главного корпуса прямо по аллее, потом направо. Там и буду.
– Угу, – кивнул он и тихо добавил: – Буду.
Когда я уже поднимался по лестнице к набережной, я обернулся: Коробкин лежал возле камня, на спине, от шеи до икр – простыня, на голове – платок с узелками на концах. Все было так же, как и два часа назад. Только камень был голый – не было на нем аккуратно расстеленной рубашки красного цвета. И мне показалось, что этого красного пятна сейчас недостает пляжу; может быть, недоставало и всему побережью; может быть, и всему… Но я не продолжил и отвернулся.
На набережной я еще раз оглянулся на море, и – вот ведь как, только сейчас пришло, что никто из нас, а главное, я сам, не удивился, что Думчев плавал с аквалангом, и что была эта буря, которую он предсказал, и откуда-то явился этот катер, и куда-то ушел. Я постоял минуту на месте, но так ничего и не понял, а понял только, что ничего понимать не хочу; и не буду.
4Иногда мне представляется, что вот хорошо бы было ускорять время и существовал бы для этого простой способ: закрывание глаз. Чувствуешь, к примеру, что предстоящего события не вынести или для предстоящего вопроса не найдешь ответ – взял, закрыл глаза (лежа ли, стоя ли, сидя ли – все равно) и пустил время как бы мимо себя: глаза твои закрыты, ничего ты не чувствуешь, а под веками – только темная теплота; и за пять минут, положим, пяти месяцев как не бывало. А потом откроешь глаза и – продолжай жить дальше. При этом возможны два варианта: первый, это такой, где, пока ты стоишь с закрытыми глазами и в событиях не участвуешь, но знаешь, что происходит; второй, это такой, когда время проходит, события совершаются и ты не только в них не участвуешь, но и совсем о них ничего не знаешь, а когда открываешь глаза, то получаешь только результат этого твоего отрезка жизни (вдруг с удивлением обнаруживаешь, что у тебя появилась жена и даже теща, что тебя повысили по службе или, наоборот, уволили по статье). Но и при первом и при втором вариантах есть одно положение, можно назвать его вариантом третьим, когда ты вообще не сможешь открыть глаза. Минет это неудобное для тебя время, но окажется, что открыть глаза невозможно, потому что ты неделю (месяц, день, минуту) назад скоропостижно скончался от сердечного приступа, или попал под машину, или… Да не все ли равно.
Казалось бы – какая разница, если тебя уже нет – что было в том отрезке твоей жизни, которой ты не видел своими глазами? Но страшно подумать (то есть перед лицом смерти страшно подумать), что ты из страха ли перед неразрешимым, заботясь ли о себе, что-то вычеркнул. Пусть и самое страшное. Пусть. Но – живое. И всякая минута, пока есть она у тебя, всякое мгновение, это все не только твое и не только такое, без чего твой образ в этом мире уже непоправимо ущербен, но и мир, весь огромный мир, он тоже без этого, твоего, тобой утраченного мгновения, искажен и неполон.
Я прошел набережную и направился к дому Мозолевской – мне еще раз нужно было увидеть Марту. Я попробовал придумать причину своему визиту, но ничего придумать не смог. Скажу, что хотел видеть – вот и все. А там – пусть будет как будет.
Подходя, еще с противоположной стороны улицы, я приглядывался к дому: что-то мне хотелось увидеть заранее, как будто изменения внутри меня должны были изменить внешнюю обстановку. Разумеется, все было по-прежнему.
Я постучал в дверь, и, как и в прошлый раз, мне ответил лай собаки: сначала из дальних комнат, потом у самой двери. Дверь отворилась, и прежде чем я успел что-либо сказать, Ирина Аркадьевна всплеснула руками и воскликнула:
– Наконец-то!
Признаться, такой встречи я никак ожидать не мог, а потому не только ничего не ответил, но и стоял не шевелясь.
– Да, господи, проходи, что же ты встал! Пойдем. Надо же, и не додумался раньше прийти, – говорила она, ухватив меня за руку и дергая ее вниз; собака возле заливалась озлобленным лаем.
Наконец Ирина Аркадьевна втянула меня внутрь. При этом она говорила не переставая, но в словах ее не было последовательности, она только восклицала, и кажется, сама не могла сквозь свои восклицания пробиться.
– Что случилось? – сумел я таки вставить вопрос.
Она внезапно замолкла, смотрела на меня сверху вниз (я уже сидел за столом, а она стояла рядом), неотрывно и словно не понимая; и только через несколько секунд проговорила:
– А вот что случилось: Марту увели.
И хотя «увели» прозвучало как-то легкомысленно и с Мартой плохо было сопоставимо, и несмотря на тон, каким это было произнесено, и всю немного комическую монументальность осанки Ирины Аркадьевны со сложенными на груди большими руками, несмотря на все это, ничего еще толком не осознав, я принял известие серьезно.
– Да-да, увели, – сказала она. – Пришел и забрал.
– Кто? – спросил я, хотя уже понял кто; кому же еще возможно было «забрать».
– Этот, в штанах, – пояснила она, словно я обязательно должен был узнать человека по этой характерной примете.
Она подождала вопросов, но – что я у нее мог спросить?!
– Пришел. Я сразу поняла и строго ему говорю: «Вам что?» – начала она строго, так, словно я был виноват в его приходе. – «Ваша квартирантка нужна, говорит, пришел вас от нее освободить». Я ему: «В ваших шутках не нуждаюсь». А он: «И не нуждайтесь себе на здоровье, я в свое удовольствие шучу». Я уже хотела без разговоров дверь закрыть, но тут Марта вышла и так из-за моей спины тихонечко говорит, тихонечко так и виновато: «Это ко мне, Ирина Аркадьевна, пустите его». Да только я сразу поняла, что пускать не надо, и ей: «Не пущу. А ты иди в свою комнату». А она стоит, молчит и в пол смотрит. А этот… и улыбка у него еще такая, все не унимается. «У вас что, говорит, мамаша, монастырь?» Ну, я уж «мамашу» не стерпела, выдала ему. Ты не смотри, я умею, когда надо. Только этот-то та-акой! Я дверь закрываю, а он ногу поставил и не дает. А ему… а он только ухмыляется. И знаешь, что противно: я, как струна, а он все играючи, все с шуточками.
– А Марта?
– А ничего. Что Марта? Стоит себе и в пол смотрит. Представь себе: я дверь закрываю, он не пускает, Мери моя заливается, а Марта стоит и в пол смотрит. Как будто я обязана, – Ирина Аркадьевна махнула рукой. – Да мне что, я бы его и стукнуть сумела бы, ты не смотри… а только она стоит за спиной у меня, и я не знаю, как тебе сказать… ну, будто я виновата.
Она замолчала, рассеянно глядя перед собой, повернулась, взяла стул, поставила напротив, проволочив ножками по полу, села.
– И ушла, – сказала она, разглаживая складки юбки на коленях.
– С ним? – спросил я для того только, чтобы не молчать.
– С ним, – она вздохнула. – Он-таки ушел, не все ж ему ногой дверь подпирать. Я к ней: «Пойдем, говорю». А она головой мотает. Я ее уговаривала и тебя поминала… Потом подняла ко мне лицо – и вся такая потерянная, что смотреть жалко. Говорит: «Я пойду, Ирина Аркадьевна, теперь уже все равно». – «Да куда же ты пойдешь, говорю, и этот, твой, ушел. Что, разыскивать его будешь?» А она: «Не надо его разыскивать, он где-то здесь, возле дома меня ждет». – «Как это ждет?» А она: «Ждет. Потому что знает, что я не смогу не выйти. Я и пойду». Я ей стала говорить, что гордости у нее нет, и всякое такое. «Ты что, говорю, жена ему законная, или он на тебя права имеет?» А она молча в свою комнату ушла, вижу, свое собирает. Я ей: «Ты иди, если не можешь, но вещи-то зачем собирать? Или не вернешься?» – «Нет, говорит, не вернусь. Поздно». Да что поздно, что поздно! Но разве у нее добьешься. Извинилась передо мной, как будто я чужая, и ушла.
– И что?
– А ничего. Ушла, и нет теперь. Сижу здесь, как дура. И ты не приходишь. Ты почему не приходил?
– Не мог. И я не знал…
– Ах, ты не знал! Вот и выходит: ты не знал, а он знал. Что теперь делать? Где ее искать?
– А зачем ее искать? Не маленькая: с кем хотела, с тем и ушла. Ей виднее, в конце концов.
– Как! – воскликнула Ирина Аркадьевна, почти отшатнувшись от меня, во всяком случае откинулась на спинку стула. – Ты что это?
Но разве я знал: что я? Я сказал так, потому что злость на Марту поднялась во мне и тоска – одновременно. Я почувствовал себя так, как если бы все происходившее вокруг происходило не в воздухе, а в вате. Все делаешь то же самое, как если бы и в воздухе, но только замедленно, словно бы в тяжком сне: все кругом передвигается медленно и лениво, и кажется – стоит схватить, остановить, упредить, но… С удивлением понимаешь, как только начинаешь движение, что и ты в вате, что рука твоя медленно тянется к медленно же ускользающей руке и что медлительность движений не просто твоя или других, но общая, всеобщая.
– Ты что это? – повторила Ирина Аркадьевна, теперь уже испуганно на меня глядя, как на внезапно заболевшего. – Ты что это говоришь?
– А что я говорю? – не унимался я, от понимания всего еще больше ожесточаясь. – Ну что, ну побегу, ну, найду ее – что же мне, ее от злодея вырвать? Мало того, что «злодей» не допустит, но ведь и она не захочет.
– Что значит – не захочет?!
– А так, не захочет, и все! Она, может быть, вам не говорила, а мне она говорила, что пусть он хоть кто будет, а ей все равно… Она, может быть, вам не говорила…
Но я оборвал себя вдруг, потому что лицо Ирины Аркадьевны сделалось д р у г и м; в нем, в ее лице, изменилось не выражение, в нем изменился смысл.
– Говорила, – произнесла она тихо и с расстановкой.
– Как говорила?
– Так и сказала, что ей все равно, хоть бы он кто был.
– Ну так же не может быть! – воскликнул я; мне показалось, что Ирина Аркадьевна не слышит меня, и я тронул ее за руку.
– Я слышу, – отозвалась она. – Да, не должно быть.
– И вы так просто это говорите! – продолжал я, позабыв предыдущее свое настроение и сейчас озабоченный только внезапным равнодушием Ирины Аркадьевны. – Как же так, что вы ее отпустили. Надо было не пускать, запереть. Вы же знали…
– Знала.
Но здесь я как бы очнулся. «Господи, – подумал я, – что же это я такое говорю!»
– Вы простите, – сказал я и опять тронул ее руку. – Я сам не знаю, как это у меня…
– Я понимаю, – тихо отвечала она и добавила просительно: – Не надо.
– Я найду ее, – сказал я, стараясь быть как можно более убедительным, словно для того только обещая разыскать Марту, чтобы утешить Ирину Аркадьевну.
Да может, так оно мне и представлялось теперь: разыскать Марту и этим утешить Ирину Аркадьевну. Нет, я не обманывал себя, я был искренен. То есть обманывал, конечно, но все равно был искренен.
Как ни говори, но нужна была причина: одни чувства сами по себе хоть и наиглавнейшая причина, но внутренняя, как бы еще только твоя личная. И чтобы действовать по чувству, даже для того, чтобы только высказать его, для этого нужна причина внешняя. И внешняя не значит, что какая-то поверхностная или обманная. Здесь нет лукавства, и расчета здесь нет, а есть естественное недоверие, но не к чувству, а к самому себе: достоин, не достоин, имею право, не имею права. А такие сомнения мешают действовать. Вот тут-то и необходима причина внешняя. И я ее для себя отыскал: «Какие могут быть сомнения, когда нужно утешить Ирину Аркадьевну!»
– А Леночка, она может знать? – спросил я.
Ирина Аркадьевна отвернула лицо и всплеснула руками:
– Оставь эту Леночку – что она вообще может знать! Выдумала себе этого философа, как его – Мирика, а теперь только собой и озабочена. А Мирик этот – ты не смотри – хват еще тот.
– В чем же он «хват»? – улыбнулся я, представив себе Мирика с засученными по локоть рукавами, хватающим грациозно ускользающую Леночку.
– Да ты не смейся, не смейся, он-то себе хорошую жизнь придумал: как денежки зарабатывать, так он модный врач, а как отдыхать, так он не от мира сего. Я здесь их приглашала, были у меня. Он сначала, как вещать начал, так всех нас «завещал»: мол, довольствуйтесь малым, мол, о совершенствовании своем заботьтесь, и прочее. А как за стол сели, так он не только, что все мясо с суповой кости ободрал, но и мозг доставать стал – так стучал о тарелку, думала, расколет.
– И достал?
– Достал. Выбить-то не выбил, а как дуть стал, то и выдул. Наелся, сел на мягкое и опять начал; только теперь о том, что не нужно человеку постов и положений добиваться, что все это иллюзии и, мол, суета. А я на него смотрю, а сама думаю: «Конечно, десяточки со своих психов настрелял, так тебе и никаких постов не требуется».
– А Леночка?
– А что Леночка, чего ей не жить! С какой хочешь философией свыкнешься, когда каждый год на курорты ездишь, да дома сидишь, да еще и женщина прибирать приходит. Только теперь я замечаю, что пресытилась она, ей теперь страстей роковых не мешает до полного…
Я вспомнил свой разговор с Леночкой и покачал головой.
– А все-таки я к ним зайду.
– Зайди, может, что и узнаешь. Только думается мне, что если и знают, то ничего не скажут.
– Почему?
– А так. Для спокойствия. Когда Леночка еще Марту привела, она мне про этого, в штанах…
– Про Ванокина.
– Мне что про Нокина, что про Мокина – все одно. Она еще тогда мне его расписала. А теперь и сама вижу – с такими лучше не связываться. Такие, что с улыбочкой, они вреднее всего. А Мирик себя бережет, он связываться не станет. Уж не знаю, как он тогда Марту сюда привести позволил. Видно, от неожиданности.
Я почувствовал, что разговор о Мирике угрожающе затягивается, а потому, дождавшись удобной минуты, сказал, что пора идти и что лучше, если я застану Леночку одну, без мужа, который, как известно, в пять пойдет на свою прогулку. Ирина Аркадьевна согласилась, что и в самом деле лучше, если без Мирика… и тут же опять стала говорить о нем. Но на этот раз я не стал ждать удобной минуты, а, невежливо ее прервав на полуслове, сказал, что пора.
– А как же я? – проговорила уже у дверей Ирина Аркадьевна.
Я взглянул на ее потерянное лицо, и мне стало жаль ее, и я простил ее неумеренную словоохотливость и пообещал, что о ходе своих поисков уведомлю не позже завтрашнего дня.
– Как – только завтра? – произнесла она нараспев и взяла меня за руку. – Как же я до завтра?
И здесь – сам не знаю почему, я вернулся в комнату, сел на прежнее место и рассказал ей все, что знал. Я рассказал ей о своих подозрениях, и о письме, которое показал мне старик, и об Алексее Михайловиче, и даже о ценностях.
Она слушала меня внимательно и ни разу не перебила; это мне было непривычно (я даже делал паузы и при этом вопросительно смотрел на нее – она же только качала головой).
Так я проговорил, примерно, с час: путался, конечно, повторялся, здесь же и строил свои догадки, здесь же их и опровергал. Собственный мой рассказ захватил меня самого. Заключил я тем, что вот сегодня пойду к старику (про сидение за портьерой я постеснялся сказать), куда придет автор письма, и что я почти наверное знаю, кто это, и что сегодня, может быть, все и решится.
– Так ты думаешь, что Марта его… дочь? – проговорила Ирина Аркадьевна после моего «вот и все».
Я пожал плечами.
– Не хотелось бы… – сказала она и добавила, помолчав: – Нет, не хотелось бы.
Я ничего не ответил, потому что не знал: могло ли этого хотеться или не могло? Я и вообще не задумывался над этим. Марта для меня стояла как-то отдельно от всего, то есть, хотя она и была среди всего, но как-то сама по себе.
– Слушай, – сказала Ирина Аркадьевна, легонько стукнув меня указательным пальцем по колену, – я вот о чем подумала: что, если тебе этому старику все рассказать. А?
Я подумал о Никонове, вспомнил, как открывал мне дверь и как закрывал ее за мной, и вспомнил глаза его сквозь узкую дверную щель.
– Я не смогу, – проговорил я, ожидая, что Ирина Аркадьевна будет меня убеждать в обратном.
Но она не стала меня ни в чем убеждать, а проговорила задумчиво:
– Понятно.
Разговор наш дальше не продолжался. Я решительно встал, время прогулки Мирика уже подступило, и нужно было спешить.
– Ты вот что, – сказала мне у калитки Ирина Аркадьевна, – ты мне корпус назови и номер комнаты.
– Зачем вам?
Она улыбнулась невесело:
– Мало ли что.
До поворота улицы я шел быстро и заставил себя не оглядываться, но чувствовал, что Ирина Аркадьевна смотрит мне в спину.