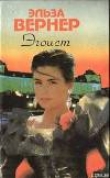Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
С Коробкиным мы расстались сразу, как только обогнули холм. Я сказал, что иду к Ирине Аркадьевне, что там, по-видимому, задержусь и что он сам должен понимать… и так далее. Он сказал, что очень понимает и что ему тоже пора идти, но все-таки на прощание не утерпел спросить: дойду ли я на этот раз и не заблужусь ли? Я сухо ответил, что не заблужусь, и, не продолжая больше бесполезный обмен словами, направился в свою сторону, то есть к Ирине Аркадьевне. Уже подходя к дому, я вспомнил последнюю фразу Коробкина и подумал, что вот дойти-то я дошел, а застану ли на месте – неизвестно. Впрочем, для разрешения этой неизвестности оставалось всего несколько шагов.
Я постучал, и дверь мне открыли так сразу, словно ждали только моего сигнала. Я говорю сигнала, а не стука, потому что не только выражение лица, но и весь вид показавшейся на пороге Ирины Аркадьевны говорил о некоем только нам двоим доступном знании; в придачу к этому она, запирая за мной дверь (на ключ, чего раньше, как я мог заметить, никогда не делала), она еще и внимательно оглядела видную часть улицы.
– Ну, садись, – сказала она деловито, указывая на стул. – Рассказывай. Как?
Не знаю: то ли ее этот вид, то ли деловитый тон, то ли что другое, но я как-то сразу раздражился и словами ее, и вопросом, и даже движением руки, каким она указала мне стул.
– Что как? – сказал я, сев и принявшись рассматривать свои руки. – Что мне рассказывать? «Как» – это у вас, а не у меня.
– А что это ты такой сердитый? – чуть повышая тон, спросила она.
– А оружие у вас откуда? – спросил я без перехода.
– Пистолет? Перепугала я там всех, – усмехнулась она. – Да откуда же еще – мужнин. Он, я тебе говорила, по оборонному делу работал. А пистолет не настоящий – модель, то есть копия; внутри ничего не раскрывается, вроде болванки.
– Хороша болванка: с нею и ограбить можно по-настоящему.
– Да я ведь не грабила, – она опять улыбнулась.
– А зачем с собой брали?
– А кто его знает, зачем, – она пожала плечами. – Да и поздно уже было, а у нас здесь темень, а я одна, – она лукаво на меня посмотрела. – А может, и знала – зачем. Сам ты мне такие страхи поведал. И потом: хорошо, что взяла, еще неизвестно до чего бы вы человека довести могли своими… Я когда осталась, он почти что не в себе был. И заговаривался. Только уже к утру выправляться стал.
– И что?
– А то: с ним что-то внутри произошло, как будто сломалось. Он равнодушным стал.
– К чему равнодушным?
– А ко всему. Вообще. Говорит: «Вот теперь моя жизнь закончилась, на сколько инерции хватит, еще подышу, да надеюсь, что ненадолго».
– А!
– Не «а», а точно тебе говорю, – внушительно произнесла Ирина Аркадьевна. – Он со мной говорил. Но не в разговоре дело, а видно и так. Он вообще-то не слабый физически, и здоров, и врачу не захотел показываться. «Смерть моя не от нездоровья», – говорит. Как будто уже наступила она. Я его все наблюдала и думаю, что он прав – она уже наступила. Живые так не живут.
– Как «не живут»?
– Не знаю. Не могу объяснить. Но вижу сама. И это его сидение у моря…
– Слышал уже.
– Догадываюсь. Этот твой приятель, когда я старика проводила, в воде сидел, как шпион какой-то.
– Он не шпион.
– А если не шпион, то чего же прятался? Все высматривал и виды всякие делал. Да не важно: не от кого было прятаться. Старик мне говорит: «Я попрощаться хочу». Я ему: «С кем же прощаться?» А он только на меня посмотрел и головой покачал. И сидит, видишь ли, целый день на солнце, камешки в воду бросает. Пока я за едой ходила, он целую кучу набрал; да все такие красивые, маленькие – хоть в перстень вставляй. А он их в море. Повертит в пальцах и – туда же. Я ему говорю ради шутки: «Хоть несколько бы мне подарили». А он на меня так серьезно посмотрел и отвечает: «Их здесь, на берегу, без счета – сами и выберите». А я продолжаю: «Из ваших рук, может быть, особая им ценность». Поверишь, без задней мысли говорила, а получилось как бы с намеком. Он долго не отвечал, все на море смотрел, думала, и забыл уже. А он не забыл и говорит: «Может быть, и ценность, только кому это нужно?» Я больше, правда, ничего такого не говорила: знаешь, всякое слово можно с намеком принять, когда в состоянии особом. А у него таки – особое состояние.
– А он вам не удивлялся? Ну, что незнакомы, а тут… и все такое.
– Представь, что не удивлялся. Я так иногда сама себе удивляюсь: чувствую, что какая-то я родственница его и приехала будто бы откуда-то из родных его мест, по телеграмме, например, за больным ходить. Он мне даже сказал: «Никто не знает, кто ему глаза закроет или последний стакан воды подаст. Я так думал всю жизнь, говорит, что никого не будет или какая-нибудь, по крайней мере, медицинская сестра. А вот видите, совсем и не медицинская». Я понимаю, что он так меня сестрой хотел назвать. Но самого слова не выговорил. А он человек непростой, очень он непростой, скажу тебе, человек. Как ни говори, а всю жизнь одного держался. Многие ли так смогут? Вот и видно, что не многие.
– Не многие, – согласился я, но все-таки не мог не добавить: – А зачем?
– Что «зачем»? – сразу не поняла Ирина Аркадьевна.
– Одного держался зачем? – пояснил я. – Можно ведь всю жизнь одного фасона… например, шляпы держаться – а что толку? Ни людям, ни себе.
– Ну, про шляпу, это ты не туда… И потом, еще неизвестно, в его случае, что будет и…
– «Как слово наше отзовется»? – помог я.
– Хотя бы и так, – отвечала она серьезно. – А судить всегда легко, а вот пожалеть – трудно.
– Так я ведь не об этом, а о смысле, и… вообще.
– Вот и выходит, что весь смысл в «вообще». А пожалеть – это уже наполовину и понять. Ты подожди, подожди, знаю, что ответишь. Только я «понять» не в умственном смысле беру, а в другом.
– В душевном, – скучно проговорил я.
– А что же, если и в душевном. Ничего здесь зазорного не вижу.
– Я не о зазорном, я…
– О глупом и наивном, – подсказала она. – Если от разума идти, то глупость – с этим согласна. Только разум этот, когда он сам по себе и самим собой питается – еще большая глупость. Разумная, – она усмехнулась, – если хочешь знать, глупость. А он ведь деньги свои не копил, Владимир-то Федорович, на себя ни копейки не истратил. Жил, можно сказать, как монах.
– И на других ни копейки тоже не истратил – это примите во внимание, – не удержался я. – Да и не было у него этой «копейки». Получается, что когда у человека рубль, то легко разменять, чтобы половину отдать, допустим, а когда сотенная бумажка, то и не во всяком месте разменяют: или все отдавать, или при себе оставить, в сундук положить.
Ирина Аркадьевна долго на меня смотрела не отвечая, потом задумчиво покачала головой:
– Вот вы, молодежь, все смысла ищете, и чтобы этот смысл обязательно в действии проявлялся…
– А как же без действия?! – быстро сказал я. – В бездействии никакого смысла быть не может.
– Подожди, – остановила она меня. – Во-первых, и в бездействии может. Но не об этом сейчас. Я ведь не просто так говорю, так ты послушай. Мне старик, как вы его называете, вот что сказал, когда я ему о действии: мол, так сидеть нельзя, а нужно что-то делать, действовать. Так вот, знаешь, что он мне ответил? Он мне вот что сказал: «А вы знаете, что такое – действие? Знаете, что самое-то настоящее действие тогда, когда внутри покой». Понимаешь теперь: когда внутри покой. Не успокоенность и не равнодушие – нет! – а когда покой. Я тоже сначала спросила: какой покой? А он мне: «Как это – какой?! Высокий». И ничего объяснять больше не стал. Да я и не спрашивала – и так понятно. Так что – как ты там ни думай, а он совсем не простой человек. Только жаль его.
– Почему жаль, если не простой? – со слабой иронией спросил я.
Но Ирина Аркадьевна иронии замечать не хотела (или не заметила):
– А потому, что одинокий.. И не только, как говорится, внутри, это дело такое… а вообще одинокий, я бы сказала – абсолютно. Я так чувствую в себе, и ты не смейся. Я чувствую, что, может быть, во всем мире для него ни одной родной души не найдется.
– А… вы? – чуть невнятно и с осторожностью сказал я.
– Я? Да что я? Я сама… И потом, это сейчас, потому что ему все все равно и он как бы все окончил. А если бы раньше, то и я – чужая. Может быть, и чужее других. Я ведь одинокая… тоже. А он… он другим жил, ему, может быть, ч е л о в е к и не нужен был… рядом. Да что ты меня выспрашиваешь! – почти с болью воскликнула вдруг она. – Ничего я толком не знаю.
Она опустила голову и сидела так, кажется, несколько минут: не просто расстроенная, а какая-то замороженная как будто, словно вдруг, внезапно, потеряла самого близкого себе на свете человека.
– А Марта уезжает, – проговорил я тихо.
– Куда уезжает? – как сквозь сон выговорила она.
Я пожал плечами, хотя этого Ирина Аркадьевна видеть не могла, и сказал:
– Не знаю, домой, наверное. Я был у нее сейчас.
– И что? – Ирина Аркадьевна подняла грустные глаза. – Опять наговорила?
– Наговорила, – согласился я и вздохнул.
– Ты небось у нее про это… про него спрашивал?
– Спрашивал, – сказал я. – То есть не то чтобы спрашивал, а говорил… Но все это…
– Что, знать не хочет?
– Не хочет.
– Оно, конечно, – задумчиво сказала Ирина Аркадьевна, – какой он ей отец, если разобраться. Да и вообще, если все это соответствует… Какой он ей отец!
– А что – не соответствует?.. – спросил я как-то невежливо живо.
– Разве в этом дело?! – отвечала она. – Дело не в этом. А в том, что Марта знать не хочет. Она, если разобраться, вообще знать не хочет, и себя в том числе.
– Как это? – невольно вырвалось у меня.
– А так, что ни себя ни к кому приложить не умеет, ни других к себе. Ее можно назвать искательницей… счастья. Одни ждут счастья, другие ищут, а она, прости за грубость, рыщет. И если бы еще бой-баба была, это бы еще ничего, понятно, во всяком случае. А то… Внутри хлипко, а снаружи все ходуном ходит. Любой, кто встретится ей – да не только в жизни, а так, на прогулке или в гостях – она того не как человека рассматривает, а как счастье это или нет, можно его к чему-нибудь в себе приложить или обращать внимания не стоит. Ты не подумай, я не об эгоизме говорю – она женщина хорошая, только как будто на шарнирах: сама не знает, где это счастье, что это такое. Главное, не знает, а так, чувствует, что, может быть, оно где-то в небе летает, а вдруг как-то к ней слетит.
– Может быть, вы не совсем правы? – слабо возразил я.
– Может быть, и не совсем, – ответила она недовольно. – Только все равно – права. А ты-то что? Тебе-то что до нее? Любовь, что ли?
– Не любовь.
– А хоть бы и любовь, – продолжала она, – что из того? Таких, как она, может быть, ухватить и можно, но удержать никак нельзя. Этот ее длинный – так тот не удерживает – сам такой, вот и лепятся друг к дружке. Тоже, как я понимаю, искатель счастья. Со стариком-то сорвалось, вот он теперь и в печали.
– Он сам отказался.
– Небось не выходило, так и отказался: тут всегда лучше самому, гордость не так страдает. Это как женщины иные: держится за мужчину, цепляется изо всех сил, и унижаться готова, и на все почти готова. А вдруг, как по голове, абсолютное прояснение – не удержать. Тут-то она сама и уходит. А потом подругам говорит эдак лукаво (до того может ночами беспрерывно в подушку плакать): «Он был невыносим, я его оставила». Так и тут. А ты: «Сам отказался».
– А старик про Марту вспоминал? – спросил я.
– Вспоминал, – отвечала она неохотно. – То же самое, что и она. Да что тут говорить: какой он ей отец!
– Как это – какой?! Что же получается: от отцовства один физиологический смысл? Она, получается, счастья ищет, ей не до отца. А он, получается, над своей жизнью горюет, ему не до дочери. Так выходит? Так вообще никакого родства у человека может не быть. Как же он других любить будет, если забудет, откуда вышел и кого породил.
– Получается, получается, – ворчливо проговорила Ирина Аркадьевна, – много у тебя всякого получается.
Она помолчала, потом, как бы решившись, взмахнула рукой, подержала руку и совсем по-мужски (что, впрочем, ей даже шло) хлопнула ладонью по коленке.
– Ладно, – провозгласила она, – слушай. Не хотела говорить, но раз уж так, то слушай. Тем более что и ты мне тогда все поведал. Ладно. Не знаю, как старик твой меня, так сказать, душевно воспринял (это оставим ему: душевно – не душевно), только он мне вдруг все и рассказал. Кажется, начистоту (что хотел, конечно). Так, историю свою кратко пересказал. Мало того, что рассказал, он еще две тетради свои дал, что-то вроде записок. «Отдаю, говорит, вам потому, как вы в последний мой жизненный час явились. Делайте, говорит, с ними, что хотите, мне теперь все равно». Они теперь у меня, я тебе покажу. Просмотрела я, это вроде как рассуждения отрывочные – сам увидишь. Но прежде другое послушай, про жизнь, про плоть, можно сказать, а уж потом про душу, то есть тетради посмотришь.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1Владимир Федорович Никонов происходил, как это тогда называлось, из кухаркиных детей. Но дело в том, что он и в самом деле был сыном кухарки. Мать его служила у купца Федора Дмитриевича Аникина. Купец был богатый, и не просто купец, но предприниматель, как сам он себя называл иногда. Жил он в Саратове, пароходы его ходили по всей Волге, из конца в конец. Разбогател он быстро, и лет двадцать назад еще (а Аникину было уже за пятьдесят) никто бы не признал в скромном приказчике скобяной лавки у небогатого хозяина будущего и скорого чуть ли не миллионщика. Поговаривали в городе, что не все тут чисто и что скоропалительное это возвышение очень чем-то знакомым отдает. «Деньги не пахнут, говорили, это которые не пахнут, а от иных такое, что хоть месяц в Волге вымачивай». Слухи же ходили от того, что прежний хозяин Аникина внезапно («и здоровый был человек, и трезвый») умер, и не просто, а сгорел в собственном доме при странных обстоятельствах и в нетрезвом состоянии находясь. Странность еще была и в том, что дом загорелся сразу, как бы со всех четырех концов, и пожарная команда (кстати, располагавшаяся через три дома, за углом) ничего не сумела сделать, кроме того, что растаскивала потом обуглившиеся бревна и вытащила тела хозяина и хозяйки, совсем обгоревшие. Железный же ящик, вделанный в стену (как показал срочно вызванный из другого города взрослый сын хозяина), исчез совсем, то есть был грубо выломан из стены и унесен. В числе подозреваемых был и Аникин (впрочем, число это состояло из двух: был еще Егор, что-то вроде грузчика, почти дурачок, исполнявший у лавочника еще и обязанность истопника и дворника). Но выяснилось, что Аникин ездил в тот день в деревню, к матери (хотя день-то был будний; но показал на допросе, что отпустил хозяин), и там пил вечером у дружка, где и заночевал (дружок же был личностью совсем опустившейся – известный в округе пьяница и лентяй; так что к его показаниям доверие было зыбкое). Аникин же вернулся наутро той ночи, когда и случилось несчастье. Но самое загадочное состояло в том, что исчез Егор: исчез бесследно, хотя в последний вечер перед случившимся его видели многие свидетели. Но если можно было еще предположить, что Егор (намеренно или, скорее всего, по слабому состоянию ума) запалил дом, то никак нельзя было думать, что этот тщедушный дурачок мог выломать и унести большой и тяжелый (не менее шести пудов) железный ящик. Предположить же, что у него могли быть сообщники, было еще более невозможно, потому что дурачок и в простых вещах был мало понятлив, тем более что нрава кроткого, а храбрости чуть меньше заячьей.
Много здесь было странного и непонятного, и как ни бился следователь, ничего не выходило сколь-нибудь определенного – все улики будто сгорели той злосчастной ночью; Аникин же твердо стоял на своем: «Хозяин отпустил, пил всю ночь, ничего добавить не имею; а хозяина жалко». Начали было со стороны сына хозяина, но тот ничего конкретного показать не мог, хотя и повторял все время с напором: «Кому же еще!»
Так это дело невыясненным и осталось. Сын побыл еще некоторое время в городе и уехал; уехал и Аникин в свою деревню, что была всего в семи верстах от города.
Прошло четыре года, и Аникин вернулся. Вернулся он не просто так, в приказчики не пошел, а открыл свое дело. «Дело» это было небольшое, за четыре года про Аникина забыли, так что никаких препятствий ему на новом месте жительства пока не было. Но не прошло и года, как «дело» очень уж заметно разрослось как-то вширь: появились две баржи, и склад на берегу, и работники. Сам же Аникин был уже не тем скромным приказчиком в лавке скобяных товаров; внешность его преобразилась: жилет хорошего сукна, блестящие легкой кожи сапоги, картуз с широким козырьком, серебряная цепь часов, походка твердая, взгляд острый, с чуть повелительным прищуром, голос высокий, но не звонкий, а отчетливо-сдержанный; даже и борода, прежде кустистая – клочками и проплешинами – пошла теперь ровно, окладисто, витым русым волосом. Скорости богатения, впрочем, не удивлялись – и не такие скачки от «ничего» до «высокого» видели в городе, тем более что Федор Дмитриевич (а иначе уже его и никто не называл) обладал с верхом жесткой хозяйственной сметкой, отменной подвижностью и способностью вникать в самые даже незначительные стороны дела.
Были, правда, и такие, что помнили (а иные и вспоминали) то самое происшествие с пожаром и кражей, и его безрезультатное окончание, и странность дела, и прежнего приказчика, а кое-кто сметливо сопоставил то давнишнее дело с внезапно возникшим и разросшимся «делом» Аникина, и – потянулись шепоты и тихие разговоры с понимающим покачиванием голов. Может статься, что не одни только сметливые и любопытные покачивали головами, но и те, кому по службе положено не покачивать головами, а причины, побуждающие это покачивание, выяснять. Во всяком случае, и такие слухи ходили, тем более что для них была своя пища. Говорили, что следователь, ведший это дело четыре года назад, приватно и тайно посетил Аникина в собственном доме. Дом был выстроен большой, каменный, в два этажа, с пристройками, обширным садом, с тремя грозными, редкой породы кобелями, что сидели днем в специально для них предназначенной с сетчатыми стенами будке, а на ночь выпускались во двор, ходили по проволоке из конца в конец и даже до края сада и хрипло ворчали на проходящих по улице.
Разговор Аникина со следователем остался, конечно же, неизвестным, а известно было только то (и люди видели), что последний как-то очень уж скоро вышел, и что хозяин его не провожал, и что лицо следователя было в красных пятнах, и он, может быть, и вследствие чрезмерной своей полноты и скорых шагов, дышал с видимой затрудненностью.
Так это дело и кончилось, а разговоры затихли сами собой.
К тому времени Аникин женился. Взял немолодую, лицом рябоватую полную женщину, жившую уже пять лет вдовой; правда, бездетную. Говорили, что кроме остатков «дела» (магазин, лавка и склад на берегу), порядком захиревшего после смерти мужа, принесла она в приданое весьма круглую сумму. Как видно, так оно и было, хотя размер этой суммы, по оценкам всегда сведущих в таких вопросах людей, мог быть и очень преувеличен. Свадьбу сыграли (по причине возраста «молодых» и вдовства невесты) не шумную, но солидную, скорее, как домашнее торжество с приглашением немногочисленных, но избранных гостей; среди гостей были председатель кредитного банка и один миллионщик.
«Дело» Аникина разрасталось, и уже через десяток лет он входил в первую пятерку знатных людей города: богачей и благотворителей. Так и жил.
В доме с ним, еще со времени женитьбы, жила мать, вскоре, правда, умершая, и единственная сестра Глафира. Жена Аникина была женщиной тихой, слабой глазами (после воскресной службы, неизменно раздавая на паперти копейки и пятаки, подносила к глазам маленький в ее большой пухлой руке шелковый платочек с синим ободком и умилялась), слова выговаривала округло, любила летом дремать в саду, в беседке, в окружении толстых, с пышной шерстью, и тоже, как и хозяйка, умильно дремлющих кошек; мужа попервоначалу все пыталась называть всякими ласковыми именами, уменьшая их до грамматической невозможности, но вскоре оставила эти попытки, потому как не могла при этом выносить холодный, пронизывающий (как она говорила, жалуясь жившей в их доме старушке-родственнице, «аж до самых глубоких внутренностей») взгляд мужа, робела, вытаскивала платок, и опускала к нему лицо, и не поднимала лица, пока муж не уходил. Дни ее проходили сыто, лениво, скучно и томительно. Из дому она выходила редко, но воскресной службы не пропускала, хотя выстоять до конца никогда не могла от духоты, которую переносила трудно, краснея лицом и прижимая руки к высоко вздымавшейся груди, и от того, что болели ноги. Все никак (хотя и делала многократные попытки) не могла сойтись с сестрой мужа, Глафирой, слезно жаловалась на ее неблагодарность старушке-родственнице и осторожно мужу: «Разве я ей враг? Холодная она, Глафира, таит она про себя что-то. Я к ней лаской, лаской, а она отвернется – и слова не скажет. Холодная она». Муж отвечал кратко и обидно: «И что, что холодная?! Что вам – греть друг дружку? У печки грейся. Дом большой, слава богу, разойдитесь в разные комнаты – вот и друзья».
Сестру, Глафиру, и в самом деле можно было назвать холодной. Нет, не холодной – так ее называла невестка – она, скорее, была странной. Странность же эта была одна и легко видимая со стороны – нелюдимость.
Когда еще дома жила, у матери (отец их умер еще в раннем возрасте детей), то все, далее и мать, почитали ее за блаженную. Работала она, правда, справно, но тоже совсем без интереса: не поймешь, притомилась ли, тяжело ли ей, радостно ли? К сверстницам на посиделки не ходила, к парням была равнодушна. Одно было у нее – бог. Могла часами стоять перед старинной, еще дедовской иконой, глядя на мерцающий огонек лампадки, но никто и никогда не слышал от нее ни слова молитвы (но и вообще слышали от нее мало слов). Не раз, вставая с рассветом, видела мать, что стоит дочь на коленях, на голом полу, и, может быть, так простояла всю ночь. Мать корила Глафиру, иной раз и рукой прикладывала в сердцах, но все было напрасно: ни возражения, ни боязни, ни звука, а сама – все то же, все то же. Из дома почти не выходила, только по рабочей надобности, и как мать ни билась, чтобы пристроить дочь (сначала еще думала: «За кого бы», потом и думать перестала: «За кого бы», а только думала: «Хоть бы кто-нибудь, хоть какой-нибудь самый завалящий»), – ничего не выходило – какие уж тут женихи!
Один Федор как будто что-то понимал, матери говорил, чтобы не трогала сестру, что нельзя неволить человека, и нельзя принуждать, и попрекать нельзя, потому только, что непохож он на других и живет своей, хоть и странной жизнью, тем более что вреда никому нет («А польза? Ты мне скажи, Федор, польза-то какая с утра до вечера на коленках стоять – ить не монашка какая-нибудь!» – просительно, всегда боясь перечить сыну, и чуть виновато говорила мать), а работу исполняет справно; что же до того, что говорит мало и в девках, как видно, жить надумала, то это дело хоть, может быть, и нашего разумения, но не нашей власти – пусть живет, как живет. Так говорил Федор и, бывши сам человеком, что называется, «в себе» и на ласку скупой, никогда и словом не обижал сестру, и ничего «такого» при себе о ней никому говорить не дозволял, а порою, впрочем, в самые редкие минуты, беседовал с сестрой, а вернее, советовался с ней о своей жизни, делах, думах. Разговоры эти были… можно сказать, что совсем и не разговоры: он говорил, серьезно и вдумчиво, и откровенно (от одной ее, как видно, умел ничего не скрывать), и подолгу, возвращаясь к уже говоренному, рассказывая о заветном вслух, а она… она слушала, молчала, то смотрела в его глаза, то на свои руки, и, кажется, никогда ему не только ни в чем не возразила или с чем-то согласилась, но и вообще не произнесла никакого слова. («Все равно, что в стенку говорить, все равно, что в стенку», – говорила жена Федора старушке-родственнице, блестя глазами и отвернувшись к стене.) Но разговоры эти брата с сестрой, хоть и были странными, но совсем «не в стенку», потому что выходил Федор от сестры всегда, если и не просветленным (таковым, кажется, лицо его вообще не могло быть), то, во всяком случае, с проясненными глазами и уже не столь тяжелым взглядом. И Глафира любила брата: по-своему и в себе, всякое его желание умела угадывать.
Имела она в доме (переехала с матерью сразу, как и был выстроен дом) свою отдельную комнатку (не захотела в просторную, как брат предлагал) под самой крышей, куда вела узкая крутая лестница. Стол, старенький узкий диванчик, образа в углу, запах свечей и будто чистых с морозу (даже и летом) простынь (к чистоте Глафира относилась тоже словно с убеждением; даже и пол скоблила ножом каждую неделю). Жилище Глафиры жена Федора называла просто чердаком, а сам Федор обычно никак не называл, говорил «у сестры», а когда в хорошем настроении пребывал, то называл «кельюшкой» или светелкой.
Супруги Аникины жили меж собой холодно, а вернее, никак не жили: ни холодно, ни тепло. С самых начальных дней женитьбы словно по обязанности переносил Федор Дмитриевич вселение нового человека. Но дома бывал редко: уйдет утром, а только вечером возвращается, усталый и угрюмый. В первое время еще пыталась жена и приласкаться и угодить. Но ласки он принимал хмуро, а угождения вообще не замечал. Хотя и ласкалась жена очень уж по-девичьи, по-молодому, и при этом второй подбородок ее был особенно заметен, а полные, чуть с желтизной щеки вздрагивали от резких движений особенно неприятно. Жена во всем винила свекровь (напрасно винила, и сама знала, что напрасно, потому что мать все никак, до самой своей смерти, не могла прижиться в очень уж большом и богатом доме с грузной мебелью, с сытым и беззаботным житьем, пышными и тяжелыми нарядами невестки; всех, даже и сына, сторонилась, а глядела всегда жалко и извинительно), а когда свекровь умерла, вина перешла на сестру («Все молчит, молчит, а известно, как думает – одна порода»). И в самом деле, если внимательно присматриваться, то брат и сестра очень были похожи, но – никто-то не присматривался, тем более внимательно.
Как ни богат становился Федор Аникин, а роскоши не любил: еду предпочитал самую простую, пальцы перстнями не утруждал, собрания ресторанные не устраивал и в юбилеи разные, да и приглашения такого рода принимал редко, только если очень уж для дела было нужно; любил он ходить пешком, а если уж надо было ехать, то для такой надобности имел бричку парой, довольно неказистую, с дребезжащими на булыжной мостовой, и в двух местах помятыми крыльями; сам же и правил; одежду, правда, носил добротную, но не потому, что слабость к нарядам имел, а потому что по положению его так было необходимо («Солдату, – любил говорить, – свое сукно, генералу – красная подкладка»). Прислуги в доме тоже было мало, а вернее сказать, всего два человека: дворник Ефим, он же и садовник, он же и на многие другие дела, и Катерина, Катя, кухарка. Пришла она уже после смерти матери (а что до нее была женщина, то как раз рассчиталась, да и еще ушла не подобру. Говорила: «С такой хозяйкой жить и зверь лесной ни за какие деньги не захочет».) Хотя про «зверя лесного» было явное женское преувеличение от обиды, но то, что с хозяйкой было жить нелегко – то была правда. Нет, она не кричала, словами обидными не бросалась, – нет, этого не было. Но было другое: она обижалась. Собственно, «обижалась» она не на одну только кухарку, но и на всех в доме (в меньшей, пожалуй, степени только на старушку-родственницу, но та была почти совсем глухая и зрением слаба, так что и мало что из этих обид слышать и замечать могла): и на мужа, и на золовку, и на дворника Ефима, и на мух, что тревожили летом, и на богомольцев, что не с тою, которую она ждала и которая заслужена была мягким ее сердцем, благодарностью кланялись, принимая милостыню; и на жизнь.
Но свекровь умерла, мужа она боялась, с невесткой виделась редко, да и то мельком, старуха-родственница совсем уже разваливалась, Ефим во дворе занимался, был неопрятен, а она дурной запах переносить не могла, и – оставалась кухарка: женщина лет средних, характера бойкого, старательная в меру, хотя готовила хорошо. Обиды хозяйки были разного рода и проявлялись во множестве. Обычно за столом, в настроении особенных обид, она просто не притрагивалась к еде (которую сама с вечера и заказывала), поджимала полные губы, а щеки наливала краской аж до шеи, осторожно, двумя пальцами (не брезгливо, но как-то очень осторожно) отодвигала блюдо, вздыхала тяжело и тянулась к хлебнице, откуда доставала ломтик ржаного хлеба и медленно жевала, глядя в одну точку на столе перед собой. Потом вставала и тихо приказывала отдать обед собакам. Кухарка, если присутствовала при этом, что-то обидчиво произносила, а когда была на кухне и узнавала об очередной «обиде», то кричала громко, неплотно прикрыв дверь, разные обидные слова, из коих некоторые даже трудно употребить на письме. Хозяйка слышала, но в ответ не выступала и уходила в сад или спальню, садилась на мягкий стул или ложилась на мягкую, с пружинным матрасом, постель (муж спал отдельно, в своем кабинете на диване), старуха-родственница приносила чай и сладкие булочки, до которых хозяйка была большой охотницей. И ждала вечера, ужина, где могло все повториться (если Федор Дмитриевич к ужину не возвратится) снова. Однако кухарка прожила долго, и как-то обе стороны к взаимным выпадам словно попривыкли, хотя «обиды» с подчеркнутым однообразием все повторялись и повторялись до непереносимой уже монотонности. Кухарка давно бы и ушла, но Федор Дмитриевич работникам платил щедро, да и работы было не много. Впрочем, и ушла она потому, что нашла лучшее место, а про «лесного зверя» больше говорила назло, чем от обиды.
Вот тогда-то, после ухода прежней кухарки, взяли Катерину. Было ей тогда восемнадцать лет, была она сиротой, жила у чужих людей (кажется, дальней родни) с самого раннего детства, да, видно (и слухи потом ходили), не сладко жилось. Красавицей ее назвать было нельзя в том смысле, что ничего в ней особенно с первого разу в глаза не бросалось; хотя со второго или третьего раза – тоже: худенькая, больше похожая на четырнадцатилетнего подростка, соломенного цвета волосы заплетены в тугую косу – тугую, но тонкую, и доставала коса разве что до середины заметно выдававшихся лопаток. Отвечала тихо (порой так тихо, что нужно было переспрашивать), глаза на говорящего поднимала редко, взгляд выражал виноватость («Как у матери», – думал про себя Федор Дмитриевич). Что бы ни было, а виноватость эта всегда присутствовала. Еще было в ее взгляде… но нужно было всматриваться – а никому это было не нужно. Во взгляде же была надежда. И не простая девичья – хорошо выйти замуж, да лучше за непьющего, да лучше бы еще и с достатком, – а какая-то другая, как бы к окружающей жизни не относившаяся. К чему же относившаяся? Это, впрочем, трудно было разгадать.