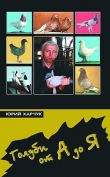Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц)
Лида сидела недвижно, завороженно слушая музыку торжественных и печальных слов, а Варька победно глядела то на сестру, то на учителя, и взгляд ее говорил: «Это все ради меня, понятно?».
Потом Лида сбегала к соседке за гитарой. Петр Михайлович быстро щипал струны, а Варька пела низким грудным голосом частушки. Голос у нее был такой силищи, что стаканы позванивали и по клеенке стола ползали легкие алюминиевые ложки.
И хотя в частушках не было ничего особенного, Лида слушала их с неудовольствием. Ей казалось: Варька специально придумала эти частушки, чтобы уязвить сестру и о чем-то намекнуть Петру Михайловичу.
Милый мой, замучили
Твои глаза мигучие!
А еще замучили
Поцелуи жгучие!
Варька сверкала нахальными зелеными глазами, притопывала ногой:
Не гулять – так бабы судят,
И гулять – так укорят
Мы гулять, сестренка, будем,
Пусть побольше говорят!
«Боже мой! – думала Лида. – О чем она поет!».
А Варька, стоя за спиной учителя, раздувала ноздри, склонялась к Петру Михайловичу и, почти задевая его волосы высокой грудью, частила:
У мило́го черны брючки
И такой же пиджачок.
Подмигнет ему другая —
Он бежит, как дурачок.
Учитель неловко отставлял стул, пытался повернуться к Варьке лицом, но она, пританцовывая, снова оказывалась за его спиной.
Меня милый обошел,
Чернобровую нашел,
А она седые брови
Подвела карандашом.
Варька узила глаза, пронзительно смотрела на сестру. «У меня же не черные брови, – вдруг подумала Лида и вздрогнула: – А при чем тут я?»
Я любить-то не любила,
Только лицемерила,
От души не говорила
И ему не верила...
Милый бросил – наплевать:
На примете еще пять,
Неужели из пяти
Лучше Пети не найти?..
Варька резко оборвала песню и, посмеиваясь, села на свое место.
Петр Михайлович, растерянно улыбаясь, снял очки и, протирая их платком, мягко глядел на Лиду с таким выражением, будто хотел сказать: «Вы уж не сердитесь, пожалуйста, на сестру – она же еще молоденькая, глупенькая».
– Налейте мне еще, Петр Михайлович, – попросила Варька, – или не заслужила?
– Варя, довольно, – нахмурилась Лида, – у тебя и так уже язык размок.
– Налей, – обняла Варька сестру, – или жалко?
Отхлебнув из стакана, она внезапно вскочила, кивнула Петру Михайловичу:
– Сыграйте, я последнюю спою.
Учитель потрогал струны, а Варька закружилась по комнате, озорно помаргивая глазами:
Я девчонка боевая,
В девках не остануся,
Но и горе тому будет,
Кому я достануся!
– Все, – выдохнула она, устало опустившись на стул, – хорошо?
– Неплохо, – согласился учитель. – У вас сильный голос. А отчего бы не пойти в самодеятельность?
– Куда? – засмеялась Варька. – Там же не платят.
– Конечно, – удивился учитель. – А зачем деньги?
– Мы с ней сироты – и приданое сами себе зарабатываем. Нас мужья не голыми возьмут.
«Стыд какой! – думала Лида, торопливо выходя на кухню. Но сейчас же вернулась. – Как бы она без меня совсем с рельс не сошла».
Петру Михайловичу тоже было, видно, не по себе, и он поспешно спросил:
– А есть у вас любимая книжка, Варя?
Но Варьку не так-то легко было сбить с ее дорожки. И она, посмеиваясь, кинула учителю:
– А то как же! Есть любимая книжка. Сберегательная!
– Что это вы все о деньгах? – окончательно сконфузился учитель.
Варька сощурила глаза, даже немного побледнела и произнесла совершенно трезво:
– Денег нет – век дура.
Лида вмешалась в разговор.
– Вы знаете, Петр Михайлович, – вздохнула она, – мы намедни новую марку варили. Высоколегированная сталь. И не вышло.
– Я слышал об этом, – кивнул учитель. – Очень сложный состав. Жаль, если не получится.
– Расчет неточный был. И потому – большой угар углерода.
Лида упрямо тряхнула головой:
– Все равно получится Мы сейчас за коммунистическое звание деремся. Нельзя, чтоб не получилось.
– А что такое коммунизьм? – вяло поинтересовалась Варька. – Это когда всем хорошо?
– Примерно.
– Ну, я сама себе это устрою.
– Одной себе – скучно, Варя, – не согласился учитель.
– Погодите... – запоздало спохватилась Лида. – А откуда знаете, что мы сейчас варим?
Учитель торопливо взял папиросу из коробки, сломал несколько спичек, прикуривая:
– В цеху давеча случайно был. И вас видел. Вы очень храбрая, Лида.
– Это почему же? – краснея от похвалы, спросила девушка.
– Ну как же? На такой высотище работаете. Небось, метров десять?
– Ну уж и десять! Еле-еле девять наберется...
– Все равно.
– И ничего сложного нет: катаюсь по шихтовому пролету и загружаю мульды. Только и всего.
– «Только и всего»! – засмеялся учитель. – Мы бы с Варей, чай, струсили!
Ходики на стене показывали полночь, и Петр Михайлович стал прощаться.
– Спасибо. Не откажете – еще приду.
Варька пошла проводить гостя.
Вернувшись, обняла сестру и потащила ее к зеркалу.
В большом волнистом стекле они видели себя до пояса. Варька шептала на ухо сестре какие-то нетрезвые пустяки, а сама все поглядывала в зеркало, и Лиде казалось, сравнивает.
– Ладно, пойдем спать – нам завтра географию учить.
– Черт с ней, с географией – выходной ведь.
– Все одно – учить надо.
– А зачем мужней бабе география? – раздеваясь, спросила Варька. – Пироги с нею печь лучше?
– Это не ты первая спрашиваешь.
– А кто еще?
– Митрофанушка. Недоросль.
– Завистливая ты, Лидка. Обидно, что ли, что Петр Михайлович ко мне ходит?
– А почему к тебе? Может, к обеим?
– К обеим! Ты же старше его на три года, и в зеркало погляди – сохлая, как осенний лист!
– Это уже слышала и в зеркало глядела. А откуда взяла, что я старше?
– В кадры бегала. Знакомая у меня там.
– Ну, спи. К тебе, так к тебе.
Петр Михайлович зачастил к сестрам. Каждую субботу он приносил . с собой шоколадные конфеты или фруктовый торт, стесняясь, отдавал их Варьке. Та хозяйственно складывала конфеты в тарелку, ставила на стол, предлагала Петру Михайловичу:
– Вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь. И нам тоже хватит.
– Я, если позволите, лучше покурю, – лез за портсигаром учитель.
Однажды Лида задержалась на комсомольском бюро и пришла домой уже затемно. Войдя в комнату, увидела: Варька гладит учителя подлинным льняным волосам, а тот что-то говорит прерывающимся голосом.
С этого раза Лида старалась проводить субботние вечера у подруг. Под глазами у нее появились синие тени, и она старалась уверить себя, что это от усталости. Чтобы Варька не заметила перемены, Лида припудривала лицо и норовила сидеть в тени.
– Ну как у вас – все хорошо? – иногда спрашивала она сестру.
– Все, – небрежно роняла Варька. – Только робкий он, будто немой. Молчит и руки за спину прячет.
– Что ты говоришь! – вспыхивала Лида. – Отчего же это?
– А кто его знает! Недотепа какой-то. Самой все приходится.
– А что «все»? – холодела Лида.
– Много будешь знать – скоро помрешь.
Как-то ночью, ворочаясь в кровати, Варька завела с Лидой серьезный разговор. Речь шла о том, что у сестер одна комнатка, и если Варька выйдет замуж – как тогда?
– Не волнуйся, – вяло отозвалась Лида, – уйду в общежитие. А разве у Петра Михайловича нет комнаты?
– Он же только институт кончил, ему не скоро жилплощадь дадут. Угол снимает.
– Я уйду, не беспокойся, – повторила Лида.
– Понятно... Еще попросить хочу...
– О чем?
– Я у тебя штапельное платье совсем заносила. Ты отдай его мне...
Поколебалась немного, добавила:
– Потом, когда разбогатею – верну. И отблагодарю, ты не думай.
– Зачем торговаться? – вздохнула Лида. – Мы же сестры. Бери.
Варька соскочила с постели, обняла Лиду, покружила по комнате:
– Ты не уходи по субботам. Я же вижу. Сиди с нами.
– А зачем?
– Петя при тебе поживей языком мелет.
– Ладно, если будет свободное время.
– Ты найди. Для сестры все же. А то он такой, что и во сне, чай, комара не убьет.
Петр Михайлович продолжал исправно приходить в комнатку сестер. Разглядывая его исподтишка, Лида с удивлением замечала, что он не смотрит ни на нее, ни на Варьку. Глядел учитель куда-то прямо перед собой, будто читал на белой стене не видимые никому, кроме него, письмена.
Оживлялся Петр Михайлович только тогда, когда разговор заходил о литературе или цеховых делах.
– А что вам – цех? – фыркнула как-то Варька. – Вы, небось, нержавейку только в ложках видели?
– Не только, – покачал головой Петр Михайлович. – Я до института здесь работал, во втором мартеновском. Четвертым подручным сталевара.
Лида смутилась:
– Как это? Вы же тогда совсем мальчик были.
– Разумеется. В ремесленном учился – и практику проходил.
– Скажи-ка, – удивилась Варька, – рабочий класс получается.
– Получается...
– Вы, говорят, стихи пишете? – внезапно кинула Варька и искоса взглянула на сестру: «Мне и это известно о Петре Михайловиче».
– Пишу, – покраснел учитель, – только плохие.
– Ужас как трудно, небось, – подбодрила Варька. – Читайте же!
– Хорошо. А вы потом честно скажете – совсем никуда не годное или как?
Петр Михайлович вперил взгляд в стену, сильно покраснел, отчего его волосы стали казаться еще светлее, сказал:
– Я о детстве прочту. А то теперь у меня все какие-то не такие получаются. Даже читать неловко... Только стоя лучше... я уж стоя...
И он стал читать нараспев, так, как читают свои стихи почти все поэты:
Зеленый мир звенит, кипит и плещет,
Зеленый мир утраченного детства,
Осыпанный густой щетиной хвои
И брызгами обветренных озер.
Вот первые сомненья и раздумья,
Внезапные. Да, детство скрылось.
Нам ведь немного жалко
Его забав и развлечений милых;
Его причудливых смешных проделок;
Его багрянца, красящего щеки
В минуты кратковременного гнева;
Обид, которые, как дождь, непостоянны.
Нам детство мило Все плохое стерто
Теченьем времени. Нам кажется прекрасным
Его так быстро отцветающий огонь...
Петр Михайлович остановился, вытер лоб платком:
– Плохо?
– Нет, – заторопилась Лида. – Вы настоящий поэт. Не ожидала.
– Это здорово, – поддержала Варька, бросив быстрый взгляд на сестру. – Точно, как у Маяковского.
– У Маяковского лучше, – вздохнул учитель. – Мне так век не писать.
– И верно, – быстро согласилась Варька. – Рифмы нету и ничего другого...
– Это белые стихи, – забеспокоился учитель. – Тут рифма не нужна.
Лида, хмурясь, посмотрела на Варьку. Та перехватила взгляд и вся сжалась. «Еще треснет по шее, – подумала она, – бешеная какая-то стала».
Учитель еще почитал немного, торопливо простился и ушел.
– Не обязательно словами сыпать, – заметила Лида, – можно и помолчать, если чего не знаешь.
В понедельник, вернувшись позже обычного с работы, Варька спрятала деньги в коробку и раздраженно сказала сестре:
– Чудак он какой-то, учитель этот: тебя нет – молчит, при тебе – слова из него, как пиво из бочки, хлещут. Почему?
– Не знаю. Компанию, верно, любит.
– Ко-ом-панию... – уколола Варька. – Ты губы крась, бледные совсем.
– А зачем?
– Он на тебя такую посмотрит, и я разонравлюсь.
– Ты не разонравишься, ты вон какая нахальная.
– Не нахальная, просто практичная. Размазня никому не нужна.
Варька все чаще и чаще заговаривала с Лидой о комнате.
– Ты попросила бы в цеху, – выговаривала она сестре, – пусть какую-никакую комнатешку выделят. Не втроем же нам жить.
– Не стану я просить, – хмурилась Лида. – Выйдешь замуж – в общежитие уйду.
– Ну, твое дело.
Как-то Лида спросила:
– У вас что-нибудь с Петром Михайловичем было?
– А что должно быть?
– Ну, говорила ты с ним о женитьбе и вообще... Встречалась?.. Гуляла?..
– Ни к чему это. Я скажу, он на веревочке за мной побежит.
В пятницу Варька, возбужденная, прибежала домой, бросила сестре:
– Завтра оденься покрасивше, я к тебе Петра Михайловича пораньше пришлю. Знаешь, о чем говорить-то надо?
– Знаю, – побледнела Лида. – Присылай.
Петр Михайлович явился, действительно, раньше обычного. Одет он был в новый, еще не облежавшийся на нем костюм, темно-синий, с белой искоркой. Серую велюровую шляпу держал так неловко, точно она обжигала ему руку.
– Я пришел, – сказал он, спотыкаясь языком, – поговорить о важном для меня, Лидия Андреевна Вам Варя говорила?.. Может, не вовремя?..
– Нет, отчего же.. Об этом всегда вовремя, – сухо сказала Лида.
Расстались они через полчаса, и девушка бессильно опустилась на стул, тихо заплакала. Но как только пришла сестра, утерла слезы.
Варька явилась взвинченная, прохаживалась по комнате, ворчала:
– Мебели кот наплакал... Ну, говорил о женитьбе?
– Говорил.
– Не врешь?
– Не вру.
– Ну и ладненько. Я тебе завтра помогу в общежитие перебраться.
Еще раз внимательно осмотрела комнату, ровно сказала сестре:
– Нет, не думай, что я черствая какая-нибудь. Ты мне много помогала, я помню. Только ведь втроем никакой жизни не может быть.
– Почему же?
– Господи! Не девочка, чай!
Посмотрела на сестру и, вдруг решив, вероятно, что та может заупрямиться и не уйти в общежитие, бросила почти с ненавистью:
– Хватит! Натерпелась я всякого от тебя, святая!
Лида не выдержала. Прикрыв глаза ладонями, будто от удара, вскочила со стула. Лицо ее стало мертвенно-бледным. Она пыталась сдержать слезы, готовые вот-вот закапать из глаз, кусала губы.
Медленно подошла вплотную к Варьке и, поколебавшись несколько мгновений, вдруг прокричала в лицо этой измотавшей ей душу девчонке:
– Ты не очень-то фасонь, Варька! Не очень! Я, может, за Петра Михайловича замуж выхожу! Вот как!
Варька пристально взглянула на сестру и поняла, что та говорит правду. Судорожно открыла рот, глотнула воздух и внезапно, как это бывает у людей наглых, но слабых духом, заревела отчаянно и визгливо:
– Что же я теперь, отец-мать, делать буду?
Впрочем, она быстро успокоилась, вытерла слезы и кинула сестре через плечо:
– Черт с вами! Очень он мне нужен, христос этот!.
Вечером пришла с работы, молча увязала в простыню свои вещи.
– Ты куда? – спросила Лида. – Или тебе тут места мало?
– Ничего, – усмехнулась Варька, – не пропаду. У меня еще один на примете есть.
– Ну смотри. Тебя же никто не гонит.
– А чего я тут не видела? Как ты с этим иудой лизаться будешь?
– Почему «иуда»? – нахмурилась Лида. – Он же тебе ничего не обещал. И сло́ва об этом не было.
– Все одно – дурень, и понятия в нем никакого нету, – нахально заключила Варька.
И она, закинув узел за спину, понесла его к выходу.
БЕДНЯК И ЦАРЕВНА
Есть красота, которая всем видна: лицо возьми или фигуру. А есть красота незримая – красота ума. Ее не всегда сразу заметишь... Старый Гафур-ока мягко поглаживает белую редкую бороду, глаза его, потускневшие за долгую жизнь, начинают тихо светиться от волнения.
– Не стареет она, как лицо, красота эта. Лучше ее нет ничего на земле, – заканчивает он свою мысль.
Мы сидим возле бывшего ханского дворца в Хиве, прикрывшись ватными халатами от лучей палящего солнца. Неподалеку от нас, как заведенный, ходит по кругу верблюд. Он так ходит всю жизнь, поднимая чигирем воду в сады хивинцев.
Чуть подальше разгуливают по земле легкие азиатские голуби. Здесь можно увидеть знаменитого бухарского трубача, шоколадных ташкентских птиц величиной с кулак, самаркандских багровых «павлинов», синих почтарей родом из Ашхабада.
Гафур-ока останавливает свой взгляд на маленькой голубке, будто отлитой из темной бронзы, что-то бормочет про себя и внезапно спрашивает:
– Ты приехал с Урала к нам?
– Да, Гафур-ока, – отвечаю я, не понимая хода его мыслей. – Я с юга этой горной страны.
– Тогда расскажу тебе одну историю о любви. Хочешь?
– Да.
Гафур-ока достает баночку с насваем, отправляет щепотку этого табака за щеку и задумывается. Старик бросает рассеянные взгляды на Ак-мечеть, на мавзолей Пахлавана Махмуда, подольше задерживается на голубых и темно-зеленых изразцах минарета Кальта-минар. Он так и остался недостроенным, этот минарет, как свидетельство внезапных жизненных бурь, пронесшихся когда-то над столицей ханства.
– Нет на земле людей, которые не слышали бы имени Тимура, – внезапно говорит старик, освободившись от насвая. – Шесть столетий назад это имя наводило страх, и не было никого, кто мог бы одолеть хромоногого царя, прозванного Тамерланом.
В молодости он был правителем провинции Кет, но его жестокий и сильный ум сжигало тщеславие. Он хотел большего И Тимур исчез. Где он был – никто не может точно сказать. Легенды говорят: Тимура видели в пустыне, простершейся от Бухары до Хивы, где он летал, подобно ветру, с джигитами и разбойничал – кровожадный и жестокий.
И вот наконец он взял себе титул великого эмира страны, лежавшей за Оксусом Так в то время называли Аму-Дарью. Столицей Тимура стал Самарканд.
Ты, конечно, знаешь: он не был ханом и не мог им стать – в его жилах не текла царская кровь Чингисхана. Но это никого не могло обмануть – многие цари мечтали о силе и владениях Тимурленга. Подставные ханы из рода Чингиса ловили каждое его слово, и он был над ними царь, а не они над ним.
Много походов совершил железный хромец. Но мой рассказ только об одной битве. Тимур вел ее против хана Синей или Золотой Орды; и хан уже знал, и все знали, что его часы и часы его войск сочтены.
Это знал и Джанибек, джигит Золотой Орды, юноша, которому Аллах дал все, что может пожелать человек.
Ум, красота и сила его волновали женщин.
Он мог слагать стихи, и это не были холодные и гладкие строчки, которые без конца сочиняли придворные певцы. Нет, каждая строка была наполнена мыслью и чувством, и люди любили слушать Джанибека.
Пальцы его могли разогнуть конскую подкову, но никогда его сила не была угрозой слабому.
А глаза! Прекрасные глаза были у этого юноши, и горел в них постоянно огонь раздумья. Это была красота ума – лучшее в человеке.
Никому не давал пощады в бою хромоногий Тимур. И жестокий разгром постиг Золотую Орду.
Тамерлан сошелся в поединке с ханом и, распалясь гневом, зарубил его. Он рубил левой рукой, – правая рука и правая нога были обессилены старыми ранами.
Даже охнуть не успел под саблей железного хромца хан – рухнул под копыта своего коня.
И тогда дрогнула и побежала Золотая Орда.
Только один человек продолжал бой. Джанибек.
Уже многие люди Тимура погибли от руки бесстрашного юноши, а Джанибек будто не чувствовал усталости.
И тогда Тимур сказал свите:
– Не убивайте его, а возьмите в плен. Мои джигиты могут поучиться мужеству у этого мальчишки.
Всадники убили под Джанибеком коня и толпой бросились на юношу.
Утром перед шатром Тимура вырыли глубокую яму и посадили туда Джанибека. Железная цепь оплела его руки.
И вот Тимур пришел к яме. И заглянул в нее.
Он улыбнулся и промолвил спокойно:
– Я ценю твою храбрость. И я могу подарить тебе пощаду, чтобы ты всю жизнь славил железное имя Тимура.
– Уйди, царь, – сказал Джанибек. – У меня и так мало света в яме.
Но старый Тимур не обиделся.
– Когда твое сердце, – произнес он, – остынет в этой яме и слова твои будут благоразумнее, ты скажешь страже. Она позовет меня.
И два воина стали сторожить пленника.
Прошел месяц, и еще месяц, но сердце Джанибека по-прежнему было крепкое, как кремень, которым высекают огонь.
По стану великого Тамерлана зашелестел шепот злобы и восхищения.
– Его надо убить, отрезав ему раньше язык, – говорили одни. – Он, как зараза, этот мальчишка.
– Его надо отпустить с почетом. Мужество пленника прекрасно, ибо он один среди врагов, – говорили другие.
И слухи эти пришли к дочери Тимура.
Она была красива – и знала это. Но девушку мало радовали ее гибкая фигура и прекрасное лицо. Кому нужна красота только для себя? А царевна не видела рядом никого, кто мог понравиться ей.
В льстецах и рабах не было недостатка, и те и другие часто отличались красотой. Но не от кого было услышать разумное смелое слово, слово наперекор. А ведь только настоящий человек может спорить с сильными.
Жизнь не сохранила нам имени царевны, и позволь мне назвать ее Саодат.
Тимур любил дочь сильно и нежно. Он долго не хотел брать ее в путь, говоря:
– Зачем мне одному и слава и власть? Я согнусь под их тяжестью, если не разделю ее с теми, кого люблю. В бою умирают, и если ты умрешь, что мне останется в жизни, кроме горя?
– Ты говоришь неразумно, отец, – возражала Саодат. – Тебя тоже могут убить враги. И я тоже люблю тебя.
И царь вынужден был согласиться.
Шло время. В походном шатре Саодат, куда она возвращалась из боя, жили две пары голубей. Это были редкие птицы. Их привезли из стран, покоренных Тимуром.
Царевна проводила с птицами все свободное время. В тихие вечера прислужницы поднимали полог шатра, и голуби медленно плавали в воздухе. Царевна следила за их полетом и завидовала им, имеющим крылья...
Старый Гафур-ока на минуту замолчал, покопался в карманах халата и, отыскав там немного конопли, бросил ее голубям. Птицы стали спокойно клевать зерно.
– Я уже сказал: слухи о Джанибеке пришли к царевне. Она захотела увидеть пленника.
Когда наступила ночь, Саодат тихо приблизилась к яме и посмотрела вниз.
Но стража скрестила копья, и один джигит взмолился:
– Не губи нас. Если узнает Тимур, нам не сносить головы.
– Джигиты, – отозвалась Саодат, – вам нечего бояться. Так повелел отец. Это ложь, но я беру ее на себя.
И тогда стража убрала копья, и царевна по ступенькам, вырубленным в земле, спустилась к пленнику.
Прошло немало времени, прежде чем стража услышала голос оттуда, из глубины.
Это был голос царевны, и она говорила:
– Свет луны слаб, но, мне кажется, я разглядела твое лицо, Джанибек. Твой ум и твою душу я тоже вижу, батыр. Аллах ничего не пожалел для тебя.
И был на это ответ Джанибека:
– Ты дочь моего врага и мой враг. Уйди, царевна.
– Это не слова твоего сердца, – возразила Саодат. – Это – звон цепей на твоих руках. Ты тоже мой враг, но я пришла к тебе. Война – зла, она разделяет людей, а мир создан для счастья и любви.
Пленный засмеялся и промолвил:
– Ты много раз видела бой, Саодат. Твои джигиты убивали людей, и джигиты врага убивали твоих джигитов. Почему ты не сказала отцу, чтоб он обуздал войну?
– Я раньше не знала того, что знаю теперь, – тихо ответила Саодат.
– Мне нужна тишина, чтоб подумать перед смертью, – сказал непокорный Джанибек. – Оставь меня одного, царевна.
– Хорошо, я уйду. Но позволь мне прийти завтра.
– Дочь царя может не спрашивать об этом. Приходи, если мне не отрубят голову.
Весь день царевна не выходила из шатра. Она смотрела, как ласкают друг друга голуби, и непонятное чувство грусти и счастья волновало ей грудь. И еще ей казалось, что сегодня солнце ленится уходить с неба.
Наконец наступила ночь. И стража убрала копья, и царевна сошла вниз по ступеням, вырубленным в земле.
Опять долго ничего не было слышно, и опять первой заговорила Саодат:
– У меня нет друзей, Джанибек. Поклонники и льстецы есть. Раньше мне казалось, что этого вполне достаточно. Теперь вижу – ошибка. Один друг – не мало, а тысяча – не слишком много. Даже для царей. Или их куют из железа?
– Много слов – кладь для осла, царевна. Скажи коротко – что тебе надо?
– Скажу, Джанибек. Мне скучно без тебя. Я не знаю, что́ это?
Джанибек долго не отвечал. Потом сказал:
– Ты, как серебряный тополь, царевна. Даже облака не достигают твоей вершины. Зачем тебе любовь бедняка?
Подумав, царевна ответила:
– Может, я и вправду стою высоко. Но поверь мне, – не так высоко, чтобы не увидеть на земле свое счастье. И еще: макушка высокого дерева – ближе к ударам молнии.
– Нет, царевна, – возразил Джанибек, – мне не нужна твоя любовь. Ты хочешь научить лягушку плавать, бросив ее в кипяток. Через день-другой царь отсечет мне голову. Когда тебя любят – трудней умирать.
– Я помогу тебе бежать, Джанибек.
– Не надо.
– Я хочу надеяться, что ты передумаешь.
– Что ж, хорошие надежды – уже половина счастья. Иди спать, девушка.
Медленно тянулся этот день в жизни царевны. Все песни голубям были спеты, все украшения вынуты из ларцов, надеты и снова спрятаны, а ночь все не приходила, и солнце торчало в небе, будто его приколотили гвоздями.
Перед сумерками зашел в шатер Тимур.
– Что с тобой? – спросил он у Саодат, взглянув на ее лицо. – Не больна ли ты?
– Это пройдет, отец, – был ответ. – Я велела оседлать коней, чтобы из конца в конец пересечь степь под луной. Если я загоню одного коня, пересяду на второго.
– Хорошо, я скажу бекам: пусть проводят тебя.
– Твоим детям не нужны няньки, эмир.
Тимур с гордостью погладил дочь по длинным черным косам.
– Ты права.
И снова караульщики убрали копья. И снова царевна спустилась в яму.
Но в этот раз, сколько ни прислушивалась стража, не могла она разобрать ни одного слова, оттуда, со дна.
О чем шептались бедняк и царевна? Этого никто, кроме них, не знал.
В самой середине ночи джигиты увидели голову царевны. Саодат поднималась по ступенькам, и за ней шел, тихо позванивая цепями, Джанибек.
Выбравшись из ямы, бедняк заметил царевне:
– Еще вчера я боялся, что тебе нужна забава, Саодат. Вижу, что ошибся.
Стража стояла, окаменев от страха. Отпустить Джанибека – отдать свои головы. Если поднять тревогу, – царевна найдет способ наказать измену.
– Вот вам золото, джигиты, – сказала Саодат, подавая мешочки. – Садитесь на своих коней и бегите к Тоболу.
Когда в черной дали, растаял топот копыт, Саодат вошла в шатер, взяла переметную суму и клетку с голубями.
– Помоги мне, – шепнула она, подавая Джанибеку суму, – только постарайся не звенеть цепями. Мы разобьем их потом, в пути...
Гафур-ока умолк и закрыл глаза, как будто хотел себе представить ночную степь и двух скакунов, уносящих во тьму смелых молодых людей.
– Ветер отставал от всадников, – продолжал рассказ Гафур-ока, – и дробь копыт была, как один звук. Так мчались на восток бедняк и царевна.
– Куда мы едем? – спросил Джанибек, когда девушка пустила своего коня шагом, чтобы он отдохнул.
– К Тоболу.
– К Тоболу?
– Да. Если стражники захотят повернуть назад, мы перехватим их.
И снова крутился ветер за спиной всадников. Но вот вдали показалась стена леса. И первые лучи пронизали воздух над ним.
Джанибек увидел перед собой голубое и тихое озеро.
– Это Большое Кисене, – оживилась Саодат. – Мы остановимся здесь и разобьем твои цепи.
Царевна помогла скованному юноше сойти с коня. Она долго ходила по берегу – искала крепкий камень,
Потом много часов била камнем по железу, и ржавая цепь расползлась на руках джигита.
– Давай поставим здесь шалаш и больше никуда не поедем, – предложил Джанибек. – Здесь красиво – и мы вдвоем.
– Давай, – весело согласилась Саодат.
Но уже к вечеру Джанибек заметил, что царевна грустит, и в глазах ее собираются слезы.
– О чем ты?
– Мне жаль отца. Он ничем не заслужил такую обиду.
Саодат и Джанибек долго сидели у берега и молчали. И наконец джигит произнес:
– Я поеду к стану царя и заброшу ему письмо со стрелой. Напиши, что ты жива и в благополучии.
Саодат покачала головой:
– Тебя схватят.
И они снова замолчали, думая.
И вдруг царевна сказала обрадованно:
– Я знаю, как сделать! Выпущу голубя с запиской, и он полетит к шатру. Ведь там был его дом. Птицу поймают, прочтут письмо, и отец не будет грустить...
Гафур-ока снова роется у себя в карманах, наскребает немного конопли и кидает ее птицам.
– Ты видишь вон ту маленькую бронзовую голубку? – спрашивает старик. – Она прилетела из Чарджоу сюда, в Хиву, победив жару и ветер над пустыней потому, что ее голубятня – в Хиве.
Гафур-ока обеими руками гладит бороду и возвращается к рассказу:
– Так почему бы голубю царевны не прилететь к шатру? Он прилетел. И царь был обрадован и взбешен.
Тамерлан послал сотню лучших джигитов в степь – искать дочь
А на берегу Большого Кисене царевна целовала Джанибека, и бедняк отвечал ей ласками. Какие царские почести могли сравниться с этим?
Вблизи их шалаша ходили голуби и говорили свои речи, старые, как мир, и никогда не стареющие.
Джанибек улыбался:
– Если твой друг из меда – не съедай его окончательно. Это я говорю себе.
И они смеялись этой шутке, и ласкали друг друга.
Так шли дни. На заре мужчина отправлялся на охоту и приносил уток, рыбу и ягоды. Удивительно сладкие незрелые ягоды – потому, что истинная юность всегда непритязательна.
А царевна шила одежду и варила еду.
В свободные минуты они выпускали голубей, чтоб погуляли в небе. Джанибек читал жене стихи о жизни, которая когда-нибудь придет на землю. Люди тех лет будут негодовать и удивляться войнам, сжигавшим целые народы во времена их предков. Им будет казаться диким, тем далеким людям, что были бедные и богатые, И был голод, и было презрение одного к другому.
– Да, может, так будет, – соглашалась Саодат.
Однажды, возвращаясь из степи, Джанибек осадил коня у шалаша и торопливо спрыгнул на землю.
– Я слышу стук копыт, – бросил он тревожно, – спрячься в камыши.
– Нет, я буду в беде с тобой.
– Ты уйдешь в камыши ради ребенка, который родится, – сказал Джанибек, и его голос был голосом мужчины, который повелевает.
И жена выполнила приказ.
Самодельный лук, копье и грозную палицу приготовил к бою Джанибек.
А земля уже дрожала под копытами коней. Всадники Тимурленга приближались к Большому Кисене.
Сотню джигитов насчитал Джанибек в степи. Зажав в железном кулаке палицу, он вскочил на коня. Белый ахалтекинец встал на задние ноги, глаза коня налились кровью, и ветром понесся он вперед.
Джанибек видел: среди воинов нет Тамерлана, хромого царя, отца его жены. И это решило судьбу сотни. Со свистом рассекая воздух, опускалась пудовая палица на головы всадников, и, как бурдюки с водой, падали они на землю, волочились в стременах, опрокидывались вместе с конями.
Тогда уцелевшие, крича от страха, помчались в степь, к стану Тимура. Воины бежали с поля боя, спасая себе жизнь и взывая о помощи.
И помощь пришла.
Еще сто джигитов неслись к Джанибеку.
Но эти уже не пошли в бой, сломя голову. Они остановились у леса и сыпали стрелами, хоть и не долетали стрелы до озера. *
– Отдай нам дочь царя, и мы оставим тебя в покое! – кричали они, не трогаясь с места.
Джанибек молчал.
Тогда всадники стали ругаться:
– Осел, побывавший в Мекке, все равно не станет паломником!
И еще они кричали:
– Ты, как собака, спишь в тени телеги и думаешь, что это твоя тень!
– У людей с коротким умом – всегда длинный язык, – ответил Джанибек. – Перестаньте кричать, трусы!
Даже плохие воины не любят, когда их называют трусами. А это все же были джигиты Тимура, покорители многих стран.
В гневе они пришпорили коней и сошлись с Джанибеком.
И снова была сеча, и падали всадники Тимурленга на мокрую от крови траву.
Совсем уже мало осталось воинов от этой эмирской сотни. Но тут Джанибек услышал тоскливый крик жены. И, бросив взгляд вперед, увидел: несется к нему, сгорая от ярости, царь и отец его жены – хромоногий Тимур.
Что подумал в это мгновенье Джанибек? Кто знает? Нет, он не страшился сойтись в поединке с самим царем. Но, верно, не хотел стать убийцей старика – отца своей жены.
И Джанибек повернул коня.
Он прискакал к камышам и спрыгнул на землю. Вдвоем с женой вбежали они в шалаш. Джанибек открыл дверку голубятни, и три птицы, испуганные криками и громом копыт, рванулись в небо.