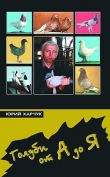Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 39 страниц)
Боцман спускается в кубрик.
За столом, сменившись с вахты, сидят Ванька Леший, Евсей и Чжу. Федька Гремячев пытался было заснуть, но его разбудил смех матросов, которым Евсей рассказывает что-то потешное.
Увидев боцмана, поп-еретик подмигивает Лешему и говорит, осклабясь:
– Перевлюбчивый ты человек, Леший. Нельзя так. Проси прощенья у Авдей Егорыча...
Ванька, начисто выданный Евсеем, пугливо хлопает ресницами, бормочет что-то себе под нос. Можно разобрать только обрывки фраз: «Ить обещал же... А так, что ж... я молчу... мне что...»
Боцман садится на свободное место, неодобрительно поглядывает на Евсея:
– В чужой сорочке блох ищешь, поп.
– Язвы друга, наносимые по братолюбию – достоверней вольных лобзаний врага, – торжественно вещает Евсей. – К тому же апостол Иоанн возглашал: в деле любви несть страха!
– Жил бы ты потише, что ли! – в сердцах советует боцман. – Столько шума, что и в уши не влезает.
Евсей несколько минут молчит. Но внезапно дергает себя за бороду, что всегда значит: в голову попу пришла новая затея.
Евсей поудобнее устраивается за столом и начинает длинный рассказ об авгурах. И выходит из его слов, что были в Древнем Риме такие жрецы – авгуры – жулики и пройдохи, которые по полету птиц объясняли волю богов. А когда собирались вместе, то похвалялись, как ловко обманывают народ, и смеялись над ним.
– Потому как птица – глупая тварь. И ничего от нее быть не может, – закругляет Евсей, сурово посматривая на веселые физиономии матросов.
Боцману уже ясно, что Ванька рассказал кубрику о голубях, и Евсей припомнил авгуров специально для того, чтоб досадить любителю птицы.
– Знать бы тебе надо, поп, – сдержанно парирует боцман, – что́ для человека птица. Во все века любил ее человек. Голуби, скажем, у евреев и римлян, или белый журавушка у японцев, или птица-ибис в Древнем Египте. У каждого народа своя любовь есть.
Евсей собирается что-то отвечать, но в это мгновенье шхуну резко кладет на борт, и Авдей Егорыч спешит наверх.
Коля Спасите Наши Души получил по радио штормовое предупреждение. Да и барограф в штурманской рубке вычерчивает опасную кривую. Поэтому все взгляды устремлены на море и небо.
Слоистые облака сгустились, сбились в плотные массы и бегут по небу, быстро меняя свои очертания. Еще о п а с н е е кучевые облака. Они замедляют свой бег и чернеют.
Шторма не миновать.
Авдей Егорыч совсем надвинул кустистые брови на глаза, и капитану кажется, что он принюхивается к воздуху.
«Вон что – тихо!» – наконец догадывается Фрол Нилыч, и желваки начинают медленно ходить под кожей его скул.
Вокруг, и в самом деле, стоит тревожная тишина. Никто даже не заметил, как она пришла на смену порывам ветра, сразу сделав все редкие звуки громче и гуще.
Потемневшее небо косо, от туч к морю, рассекает тонкая белесая полоса, и все на «Медузе» понимают, что вот-вот обрушится шторм на старое судно, и тогда вся надежда только на себя да на шаткое морское счастье.
Мертвая зыбь покачивает шхуну, и от этого даже старым матросам кажется, что их подташнивает и сосет под ложечкой.
– Всех наверх! – не оборачиваясь, говорит капитан Авдею Егорычу.
Боцман собирается подать сигнал, но замечает, что все матросы и так сбились на шканцах[44]44
Шканцы – часть верхней палубы.
[Закрыть] и на их лицах написана решимость.
Боцман видит и другое: даже в этот грозный час люди остались сами собою. Евсей, одетый, как и остальные, в рокан и зюйдвестку[45]45
Рокан – непромокаемая штормовая куртка. Зюйдвестка – матросская шляпа.
[Закрыть], обнял длинными лапами Ваньку Лешего и басит:
– Готов ли ты приять страдание, Ванька?
– Иди к бесу, поп! – огрызается Леший, стараясь стряхнуть с плеч руки Евсея. – Кулаки-то у тебя каменные. Чистый вельзевул.
Федька Гремячев с безмятежным видом грызет трубку, пускает колечки дыма и тиранит Колю Спасите Наши Души, выскочившего из рубки «подышать воздухом»:
– Сбрил бы усишки, а? Неровен час – сметет с палубы. Как раз за моржа сойдешь. На дне-то...
Коля не отвечает на шутки. Он первый раз в открытом море, буря уже занесла крыло над ним, и радиста подташнивает от страха и от того, что жалко свою молодую короткую жизнь. Одно дело, когда ты на берегу – и тебе мерещится полузатопленная рубка, и сам ты, молодецки, до последнего дыхания, выбивающий на ключе сигнал бедствия «SOS». Совсем другое – вот сейчас, когда под тобой миллиард тонн воды, и может она взбеситься и оставить от шхуны одни щепки, и снова потом успокоиться уже без него, без Коли Спасите Наши Души.
Шхуна переваливается на волне, будто огромная заснувшая рыбина, не желающая погружаться в воду. Изредка в ее борта постукивают льдины, и судно тихо вздрагивает от их ударов.
Но вот ветер начинает свистеть в мачтах, воздух грузнеет, становится свинцовым, и людям кажется, что они чувствуют его тяжесть, когда дышат.
Команда задраивает люки, все становятся по местам, которые указал капитан. От носа к корме натянуты штормовые леера, чтоб можно было схватиться за эти тросы, если вода начнет перехлестывать через борт.
И все-таки, несмотря на то, что люди ждут его, шторм налетает внезапно Вой, свист, грохот заполняют собой вселенную. Вода, завиваясь в жгуты, хлещет по судну, швыряет его из стороны в сторону, и маленькая «Медуза» то и дело исчезает между темно-серыми громадами волн.
Взгляды-матросов тянутся к рулевому. Не дай бог, он поставит шхуну лагом[46]46
Лаг – борт судна.
[Закрыть] к волне, и море в бешенстве раздавит ветхое судно.
Мучительно тянется время, и никто не может сказать, сколько минуло минут или часов с той поры, как начался шторм.
Ветер уже ревет, а не свистит в пеньковых вантах[47]47
Ванты – пеньковые или стальные тросы, которыми крепятся мачты.
[Закрыть], вахтенный на руле постоянно перекладывает штурвал, уберегая судно от таранных ударов океана.
«Совсем как во время бомбежки», – думает боцман.
Но вот, похоже, буря слабеет, – волны не кажутся такими высокими, как раньше.
Коля Спасите Наши Души отвязывается от мачты и бросается вверх, к рубке. Неожиданно для него палуба становится дыбом, «Медуза» почти ложится мачтами на волну, и многотонная глыба воды утаскивает радиста в море.
«Человек за бортом!»
Никто не слышит этого крика, разодравшего рот Ваньке Лешему, но все видят, что случилось несчастье.
Один за другим в море летят спасательные круги на линях[48]48
Линь – веревка.
[Закрыть], но вода отшибает их от радиста.
И внезапно, обвязав себя концом тонкой и длинной веревки и захлестнув второй ее конец за леер, бросается вниз Петя Чжу.
Веревка натягивается, ослабевает, и команда с замиранием сердца следит, как юноша пытается приблизиться к радисту и как волны растаскивают их в разные стороны.
Чуть побледневший капитан почти в ухо рулевому кричит команды, не позволяя шхуне отдалиться от клочка океана, где барахтается несчастный радист.
– Вяжи! – вдруг орет Евсей.
Его быстро обвязывают веревкой Федька Гремячев и подоспевший Гуркин, и старик, облапив спасательный круг, кидается в воду.
Короткими саженками он пробивается к радисту, то исчезая из глаз, то снова появляясь на поверхности моря. К счастью, высокая волна внезапно подтаскивает полумертвого молодого человека к борту «Медузы», и Евсей вцепляется обеими руками в Колю Спасите Наши Души.
– Шторм-трап – за борт! – кричит капитан и жестами показывает, что́ надо делать.
Волны грозят разбить людей о борт. Вниз по шторм-трапу кошкой скатывается Гуркин и, захлестываемый волной, ловит руки плывущих матросов.
Всех троих вытаскивают на борт, и Ванька Леший относит радиста в кубрик.
Леший хотел было перевязать Колю, которому во время падения разбило лицо, но вдруг опрометью несется наверх.
– Беда, капитан! – тычет он пальцем вниз, – Пропадем...
Не то в борт с размаху ударила льдина, не то виной была неистовая свирепость волн, но только на корабле разошлись швы обшивки, и вода стала проникать в кормовой трюм.
Капитан подзывает к себе помощника – и вместе с ним посылает матросов вниз. Люди ставят помпы и молча качают насосами воду. Работать очень трудно оттого, что шхуну мотает из стороны в сторону, почти окуная такелажем в воду.
Палубу по-прежнему захлестывают волны.
В это время из машинного отделения прибегает механик и что-то кричит на ухо капитану.
Фрол Нилыч пытается скрыть свое крайне скверное настроение, но это ему плохо удается. В двигателе обнаружилась серьезная неполадка.
«На парусах придется идти, – думает капитан, – может, выкрутимся из беды».
Боцман старается не смотреть на капитана. Не опасность мучает старого моряка, а уязвленное самолюбие. Даже если удастся вернуться домой, весь порт будет им перемывать косточки и соленой матросской шуткой посыпать душу. Еще бы! Первый же рейс в открытое море, и вот – без мотора и без радиста.
Авдей Егорыч совсем мрачнеет. Больше никто на «Медузе» не знает радиодела. Значит, некому послать в эфир «SOS», чтобы завернул сюда какой-нибудь ближний траулер и взял на буксир беспомощную шхуну.
Море еще ходит крупной серо-зеленой волной, однако всем уже ясно, что буря скоро кончится.
Но в море беда гнездом живет. К капитану снова является механик и, глядя в сторону, сообщает, что ремонт займет, пожалуй, никак не меньше пяти суток.
«Спишу на берег», – думает молча Фрол Нилыч, хотя понимает, что механик тут ни при чем.
Остается одна надежда на радиста. Поправится он, – и тогда можно будет вызвать помощь.
Но и это – слабое утешение. Коля Спасите Наши Души сильно разбился и не приходит в сознание. Он мечется на постели Ваньки Лешего, бредит какими-то странными куцыми словами, из которых ясно только одно, что он никак не хочет умирать.
Капитан распорядился поставить пластырь на борт. Боцмана сразу обступают добровольцы, и каждый предлагает свои услуги, дает советы.
Через несколько часов, закончив работу, старый моряк спускается в кубрик, к радисту. Поправив подушку под головой Коли, Авдей Егорыч говорит так, будто радист может его слышать:
– Кто в море не бывал, тот и горя не видал, парень. Это уж непременно.
– Он умом, никак, обносился, – сообщает Ванька Леший. – С перепугу, видно.
– Чего ж бояться? – вслух думает Авдей Егорыч. – Море – наше поле. А в поле не страшно.
* * *
Третьи сутки – штиль. «Медуза» дремлет на воде, и Федька Гремячев проглядел все глаза, пытаясь увидеть в безбрежной дали дымок или мачты судна.
Пусто!
– Эх, как бы сейчас бутылочка ваша пригодилась! – тоскливо говорит Ванька боцману и облизывает пересохшие губы.
Авдей Егорыч свирепо взглядывает на Лешего, и тот, сразу съежившись, торопливо машет рукой:
– Не о себе ж я, Авдей Егорыч. Коле-радисту надо бы...
– Радиста и без нас уже спиртом натерли, ему водка ни к чему....
Никто из матросов не думал никогда, что можно вдруг остаться без радиосвязи, как не думают о том, что можно плыть без руля или с дырой в борту.
И теперь, жалея радиста, все вместе с тем злились на него за трусость во время шторма, за то, что оставил шхуну без связи.
Чжу температурит. Его красивое тонкое лицо портят сейчас красные пятна жара, но юноша не хочет лежать. Он подвигается ближе к боцману и говорит задумчиво:
– Мы все равно уйдем домой, Авдей Егорыч...
– Уйдешь! – смеется Евсей. – К рыбам во чрево.
Внезапно старик бухается на колени, начинает кланяться и невесть что бормотать.
– Ты что дуришь? – мрачно интересуется боцман. Евсей не отвечает.
– Помяни, господи, – бормочет он, стукаясь лбом об пол, – души раб своих, пострадавших во Студеном море, гладом и жаждою истаявшихся, и многоразличне и многоскорбне от жития сего отошедших... Аминь!
– Не паясничай! – хмурится Авдей Егорыч. – Рано хоронишь...
– Не рано, – подмигивает старик. – Нам на том свете уже паек идет.
Впрочем, Евсей тут же забывает о своих словах и вместе со всеми поднимается на палубу – осматривать лодки и приводить судно в порядок.
Матросы ставят на носу стаксель, крепят ванты, и шхуна медленно начинает продвигаться по еле ощутимому ветру. На запад, а не на юг.
Фрол Нилыч машет рукой, и парус убирают.
– Может, норд задует, – говорит капитан боцману. – Ждать надо, Авдей Егорыч.
Механик, злой на себя и на весь свет, копается в машинном отделении. В двигателе сломалась важная деталь, запасной нет, и приходится ее делать самому. А условия совсем не подходящие.
Механику энергично помогает группа матросов. Федька Гремячев, стараясь облегчить ему настроение, говорит твердо:
– Каждая страна потерпевших из беды спасает. А про нашу и говорить нечего. Потому – народ дружный.
– Дружный-то – дружный, – вздыхает Гуркин. – Да вот сорвет пластырь, и поминай, как звали.
И тут Лешему приходит в голову внезапный план. Матрос быстро поднимается на палубу и, найдя каюту Авдея Егорыча, толкает дверь.
– Чего ты? – спрашивает боцман.
– Голуби... эти, как их... Мотка-губа.... – бормочет Ванька.
– Говори толком, – прерывает боцман.
Ванька, торопясь и сбиваясь, объясняет, что голубей надо выпустить в воздух, и они, как говорил Авдей Егорыч, полетят домой. Только прежде чем выпустить, надо привязать к лапкам записки, и тогда на берегу будут знать, что́ с «Медузой» и в каком квадрате она болтается.
Леший ожидал, что Авдей Егорыч сильно обрадуется, что он сразу простит Ваньке все его изъяны и промахи за такую веру в голубей. Но боцман о чем-го думает и, выбивая трубку, кивает ему на дверь:
– Ладно, иди. Я капитана спрошу.
Авдею Егорычу и самому, конечно, приходила в голову такая мысль, но он всякий раз выставлял себе доводы против нее. Не было никаких надежд, что хоть одна из четырех птиц доберется до берега, покрыв около четырехсот миль над водой. А принять на себя позор, обманув надежды людей, попавших в беду, Авдей Егорыч не мог.
«Подожду еще сутки, – думает боцман. – Может, радист оклемается или траулер какой возьмет на буксир. А там видно будет...»
Однако новые сутки не приносят никаких изменений. Теперь уже нельзя ждать, и Авдей Егорыч идет к капитану.
– Вот разве голубей пустить... – тихо говорит боцман и вопросительно смотрит на капитана. Старику надо, чтобы Фрол Нилыч тоже принял такое решение. Тогда легче будет пойти на жертву, на верную потерю птиц.
Капитан, немного подумав, соглашается:
– Что ж, попытайте. Авось доберутся...
Команда, услышав о том, что боцман решился пустить голубей, высыпает на палубу. Даже старый кот Нептун не желает оставаться в кубрике. Он трется между людьми, выгибает спину, радуясь свежему влажному воздуху.
Горизонт – в дымке тумана, и Авдей Егорыч, вынесший на палубу ящик с птицами, долго и тревожно вглядывается в небо, шевелит губами, и людям кажется, что неверующий боцман творит молитву.
Наконец он достает голубей, привязывает к лапкам заготовленные записки и, сильно замахиваясь, швыряет птиц, одну за другой, в мутное неприветливое небо.
Первой, почти вертикально вверх, уходит Мотка-губа. Сильными длинными махами она набирает высоту и, сделав неполный круг над шхуной, поворачивает на юг.
Утес не делает и половины дуги – и во все крылья мчится за голубкой.
С Метелью неладно. Она свечой взмывает вверх, но тут же складывает крылья и садится на палубу. К ней мгновенно кидается сразу помолодевший Нептун. Матросы кричат на кота, наперебой бегут к птице и приносят ее боцману.
– Засиделась, – страдая, бормочет Авдей Егорыч.
Выждав с полчаса, боцман берет в одну руку Метель, в другую – ее голубя Сёмку и одновременно швыряет их в воздух.
Птицы долго кружат над шхуной, забираясь все выше и выше и, наконец, скрываются из глаз.
Команда толпится на палубе, задрав головы. Люди торжественно молчат.
Фрол Нилыч стоит на мостике и, щуря глаза, присматривается к морю, к облакам, к недалекому горизонту. Никто не замечает тревогу капитана, но Фрол Нилыч беспокоится. Он видит, как мертвая зыбь покачивает судно: шторм еще может вернуться. Справится ли тогда с ним старая шхуна?
Капитана отвлекает от размышлений крик на баке[49]49
Бак – часть верхней палубы на носу судна.
[Закрыть]. Там, жестикулируя, что-то говорит матросам Федька Гремячев. Оказывается, он заметил живую точку в небе, на западе.
Вскоре все матросы тоже видят летящую птицу.
Через несколько минут Метель со свистом садится на палубу и, открыв клюв, тяжело дыша, втягивает голову в плечи.
– Так она же просто боится! – догадывается Леший.
Все молчат.
«Не может быть, чтоб Семка бросил жену», – думает Авдей Егорыч, до боли в глазах всматриваясь в бездонье неба.
И старому моряку уже кажется, что он видит, как плывет на серо-зеленых волнах Атлантики холодный, безжизненный комочек мяса и пуха – все, что осталось от его неудачливого Семки.
* * *
Предчувствие не изменило Авдею Егорычу. Синий почтарь не вернулся к «Медузе», но и не смог взять верного направления. Он резко забрал на восток и уже на пятом часу лета стал терять силы. Иногда Семка снижался так, что до него долетали редкие брызги, и тогда голубь, сильно работая крыльями, снова набирал высоту, уходя от смертельной опасности. Так он пролетел еще около пяти часов.
Возьми он верное направление, Семка находился бы уже вблизи земли и, вероятно, дотянул бы до нее. Но голубь шел в трехстах милях от суши, параллельно берегу – и ничто уже не могло спасти его от смерти.
Тяжело взмахивая крыльями, он все терял и терял высоту, пока не оказался в опасной близости от воды.
Одна из высоких пенистых волн ударила его холодной лапой, – и поплыл на серо-зеленых волнах Атлантики безжизненный комочек мяса и пуха – все, что осталось от бедного несмышленого Семки...
* * *
Примерно в ста милях от «Медузы» Мотка-губа и Утес разлетелись в разные стороны. То ли более острая на глаз голубка увидела вдали что-то, то ли Утес решил, что жена ошиблась и потом догонит его, только голубь продолжал лететь прямо на юг, а Мотка-губа почти под прямым углом от него пошла к востоку.
Утес был сильный тренированный голубь, и три часа лету почти не убавили его сил. Он стремительно шел туда, где должен был стоять его дом и его голубятня, и властная сила влекла его все вперед и вперед.
Чем больше высота, тем шире обзор. Поэтому Утес старался подняться выше и не погиб, как Семка, которому изменили чутье и силы.
И в это время, находясь почти под облаками, он разглядел берег. Утес сильно обрадовался и живее зачастил крыльями.
Вот он уже миновал маяк на Рыбачьем, потом наискось пересек скалистые высотки и появился над Большим перевалом.
Голубь сбавил высоту, но продолжал упорно лететь вперед над вершинами гор, источенных ветрами и дождями.
И наконец Утес увидел в котловине, со всех сторон окруженной высотами, город, дымивший трубами и кричавший гудками.
Это был Мурманск, и вот уже заметен в его восточной части, на склоне горы, небольшой домик, и возле домика – голубятня. На ней шевелятся птицы.
И Утес, почти сложив крылья, камнем пошел вниз. Перед самой землей сделал полкруга и тяжело сел возле тазика с водой, что стоял у дверки. Но он даже не сделал движения, чтобы подойти к воде и напиться, – так устал. Зажмурив глаза, широко открыв клюв, Утес почти лежал на земле, и его уставшее сердце выбивало частую дробь.
В это время из дома выбежал мальчишка, приблизился к голубятне и, увидев птицу, взял ее в руки. Потом закричал и бросился к двери, призывая братьев и мать.
* * *
Первым заметил дым на горизонте Чжу. Приплясывая, сверкая белыми зубами, он тыкал пальцем на восток, откуда на всех парах шло к ним спасение.
Вскоре уже можно было заметить в бинокль плоский корпус траулера, быстро шедшего на сближение с «Медузой».
Вся команда незнакомого рыбачьего судна сбилась на носу, махала руками и что-то кричала, подбодряя товарищей, попавших в беду
Через полчаса траулер остановился в кабельтове[50]50
Кабельтов – малая морская мера длины – 185 метров.
[Закрыть] от «Медузы» и лег в дрейф. Рыбаки спустили на воду шлюпку. Уже в середине пути один из моряков поднял над головой руку, в которой затрепыхал крыльями синий голубь.
Авдей Егорыч, увидев это, торжествующе оглядел матросов, и, достав из кармана платок, стал вытирать сразу вспотевшие шею и лицо.
Рыбаки поднялись на борт, тискали в объятиях команду «Медузы» и говорили наперебой.
У боцмана сразу отлегло от сердца. Он сообразил, что никому, видно, в голову не придет насмехаться над их неудачей, и от этого лицо старого моряка сразу стало мягче и приветливей.
Он подошел к матросу с траулера и взял у него птицу. Это оказалась Мотка-губа. Мягко держа ее в одной ладони, а другой поглаживая голубку по тугому блестящему перу, Авдей Егорыч что-то бормотал про себя и не заметил, как его плотным кольцом окружили люди «Медузы».
Ванька Леший толкает Евсея в бок и с укором говорит старику:
– Болтал, поп: птица-де – глупая тварь. Вот и оконфузился, расстрига!
Леший твердо помнит, что он первый предложил выпустить птиц, и ему уже кажется: он всю жизнь был верным почитателем голубей. От этого Ванька немного свысока посматривает на товарищей.
– И болтал... – топорщится Евсей. – И болтать буду...
Но его уже никто не слушает, и все ближе подвигаются к боцману, чтобы взглянуть на Мотку-губу и погладить ее перья.
Боцман над чем-то вдруг задумывается.
– Слышь-ка, – обращается он к матросу, у которого взял голубку, – вы что же ее – из Мурманска везли или как?
– Зачем – из Мурманска? – удивляется рыбак. – Она к нам на палубу села.
– А-а, – сразу поскучнев, бормочет Авдей Егорыч и тяжелыми шагами направляется к капитану. Но внезапно он застывает на месте, прикладывает свободную ладонь к уху и накрывает глаза густыми бровями.
Где-то в глубине неба нарастает длинный непрерывный звук. Через несколько секунд ни у кого не остается сомнений: над морем с большой скоростью несется самолет. Вот он уже появился над кораблями, делает один, второй, третий круги, сбрасывает вымпел и быстро исчезает из глаз.
Капитан, прочитав записку, сброшенную летчиком, передает ее Авдею Егорычу.
В бумажке сказано, что из Мурманска на помощь «Медузе» вышли быстроходные суда. Ниже прыгающими буквами добавлено: «Добро!». Летчик, конечно, увидел, что «Медуза» не одна.
– Вот это хорошо, – пощипывая усы, говорит боцман. – Мы их на полпути встретим и перегрузим соль и тару. Пусть везут их «Глобусу» и «Сигналу». Там заждались нас, верно.
Взяв на буксир «Медузу», траулер разворачивается и тихим ходом идет на юг.
...Боцман Авдей Егорыч сидит у себя в каюте и кормит с руки Мотку-губу и Метель.
Всем кажется, что Авдей Егорыч думает сейчас только об этих птицах и гордится ими. А на самом деле – все мысли боцмана летят к голубятне из просмоленных досок, где отдыхает теперь после тяжкой дороги молодчина Утес. «Не подвел старика, – думает боцман. – Не сбился. Рыбочка ты моя!».
Рядом со старым моряком стоят Ванька Леший, Евсей и Чжу, а Федька Гремячев ругается в коридорчике потому, что ему некуда втереться. Будто сочувствуя Федьке, у его ног мяукает, выгибая спину дугой, Нептун.
Капитан Фрол Нилыч посмеивается и успокаивает Гремячева.
– Радист просит показать ему голубку, – говорит Фрол Нилыч. – Вот тогда и ты наглядишься, Федор. А приедем – и на Утеса налюбуешься...
И боцман, слыша эти слова, улыбается скупой улыбкой человека, немало повидавшего на своем веку.