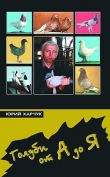Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)
ЧЕТЫРЕ КРЕСТА
Приехал я в Ашхабад вечером. В руках – маленький чемоданишко, на ремне – фотоаппарат да в карманах шинели разное дорожное имущество: папиросы, ножик, карандаши, какие-то листочки с записями. Не тяжело, одним словом.
С вокзала позвонил в управление железной дороги. Телефонистка отвечает:
– Кого вы просите – того нету. В отпуске. Заместитель его селекторное совещание проводит. Все начальники служб и отделов там. Приходите.
«Нет, – думаю, – не пойду. Совещания эти больно долго тянутся. А я за это время новый город посмотрю, по окрестностям полазаю – что-нибудь в блокнот запишу».
Иду по городу, радуюсь жаркой погоде, рассматриваю новые дома, превосходную мечеть, которую горожане отдали музею, записываю в книжечку, какие тут деревца растут. Красивые имена у деревьев: айлантус, гледичия, карагач!..
И вот так, незаметно, выбрался за город, шагаю по дороге, обдумываю письмо домой. В России сейчас уже дожди, хмуро в полях, леса оголяются, а тут благодать – солнце раскаленное, чудно́е какое-то солнце.
Хоть и вечер, а очень жарко. Снял шинель, на руку повесил и понемножку иду и иду. Впереди уступами высится хребет Копет-Дага, и на самой макушке у него – снежная папаха. Вот бы туда дошагать – сразу не так жарко стало бы!
Так бы и шел, если б не одно маленькое приключение. Подходит очень загорелый военный, руку к козырьку прикладывает и вежливо справляется:
– Вам – не за границу?
Я даже оторопел сначала.
– За какую границу? – спрашиваю.
– Тут государственная граница Советского Союза недалеко. Так, может, вам туда? Давайте познакомимся.
С пограничниками у меня давняя дружба, и вежливость я их тоже хорошо знаю. От такой вежливости у чужого человека руки сами собой вверх поднимаются.
– Извините, – говорю, – действительно, мальчишество какое-то вышло. Вот вам мои документы.
Посмотрел офицер документы и говорит:
– Ашхабад как раз в другой стороне. А вы по Гауданской дороге шагаете. Этак в Мешхед попадете. В Иран.
На прощание пограничник сказал:
– Вот вам один адресок. Жена у меня там и сын. Вовкой зовут. На сеновале, в случае чего, переночевать можно. Будьте здоровы.
Прошел я в обратном направлении километра четыре и чувствую, – ноги у меня пошаливать начинают, будто они из теста сделаны. Нет, странное здесь все-таки солнце!
Расстелил шинель на песочке, из кармана хлеб с сыром достал, поел нехотя. «Надо как следует отдохнуть, – думаю, – а то солнечный удар хватит».
А мысли в голове какие-то ленивые бродят, какие-то кургузые: одна без головы, другая без хвостика – ни конца, ни начала.
Лег на шинель, чемоданишко – под голову. И сразу провалился куда-то, намертво уснул...
Проснулся от страшного, небывалого, злобного. Что-то металось, выло, стонало вокруг. Прямо в душу, кажется, лез ядовито-сладкий запах пыли и сажи.
Темно. Зажег спичку и увидел, что лежу совсем не на шинели, кто-то меня стащил с нее, а кто – неизвестно. Никого вокруг. Пощупал руки, ноги – целы. Что за чертовщина?
Пригляделся к темноте, прислушался, и вдруг стало страшно, – кто-то тысячеголосый, огромный, кричал бесконечно и тоскливо: «А-а-а!», и к небу, к луне поднимался гигантский, черный, будто извивающийся дракон, столб пыли.
Я понял: в мире случилось несчастье, большое горе. И – побежал к людям, побежал так быстро, как только мог.
У первого же дома остановился, как вкопанный: по кирпичным развалинам ходил человек, пел песни и смеялся.
Ох, смеяться в такое время!
Но человек тут же заплакал, запричитал, и я кинулся к нему.
– Голубчик, – сказал он каким-то надтреснутым голосом, – спасибо вам, голубчик. Может, мы ее спасем. Слышите – плачет? Давайте скорее...
Ни у него, ни у меня не было лопат, и мы рыли палками, кусками досок.
К утру откопали девочку с русыми косичками. Одним из первых толчков землетрясения ее бросило под стол, и это спасло ей жизнь.
Она почти сразу открыла глаза, что-то хотела сказать, но не смогла и заплакала.
Потом я попрощался с девочкой и с ее отцом и пошел в город.
Нет, не было города! Не было дворцов и домов, театров и заводов, не было управления железной дороги, а громоздились вокруг развалины, кучи щебня, разорванных бревен и железа. Только небольшими островками высились уцелевшие дома и круглые строения.
Но почти везде уже кипела работа. Люди, выжившие в эту страшную ночь, самоотверженно боролись с несчастьем, откапывали засыпанных, помогали раненым. Утешали, ругались, требовали.
Вся страна спешила на помощь Ашхабаду. Один за другим садились на аэродроме тяжелые самолеты с продовольствием и медикаментами. Врачи Ташкента, Баку, Алма-Аты заменяли ашхабадцев.
* * *
Через несколько дней был восстановлен железнодорожный путь и провода соединили столицу Туркмении с Ташкентом и Москвой.
Из маленького вагончика, оборудованного под телеграфно-телефонную станцию, я связался с Москвой.
Стенографистка редакции, записав корреспонденцию, торопливо заговорила в трубку:
– Вы уж простите, что не спрашиваю о здоровье. Раз нам позвонили, значит, здоровы. Запишите, пожалуйста, адрес. Племянник у меня. Пожалуйста!
Пока я черкал карандашом в блокноте, стенографистка говорила:
– Мне знакомые звонили, у них тоже близкие в Ашхабаде. Может, вы запишете их адреса и тоже узнаете?
Наконец, все вопросы были заданы, все просьбы изложены, и трубка легла на рычажок.
Я решил зайти проведать Вовку – он жил рядом с вокзалом. Если сын пограничника уцелел, он может помочь мне в блужданиях по незнакомому городу.
Старик, у которого я справился об адресе, скорбно покачал головой и махнул рукой:
– Тут была эта улица.
– А дом номер семнадцать далеко ли?
Старик опять махнул рукой:
– Здесь где-нибудь.
Я нашел сына пограничника живым и невредимым. Он сидел в небольшом садике, возле развалин дома, сгорбившись, и изредка спрашивал:
– Тебе не больно, мама?
Рядом с Вовкой на топчане лежала женщина средних лет, голова у нее была забинтована, глаза закрыты, и так, с закрытыми глазами, она отвечала сыну:
– Нет, сынок, теперь не больно мне.
Узнав у Вовки, что отец тоже жив, я передал мальчику бутерброд, сказав, что этот ломтик хлеба с сыром – от отца.
Вовка бутерброд съел без лишних разговоров, потом грустно улыбнулся и сказал:
– Это не от отца. Батя только ушел. А сыр вкусный.
Потом он потащил меня куда-то под пыльные деревья и показал маленькую голубятню на две пары птиц.
– Вот, почтари, – сообщил Вовка, – умные очень, как человек почти. Не веришь, да?
– Нет, верю. Только почему у тебя голубятня в саду? Так птицам трудно ее находить.
Вовка вздохнул:
– Она у меня возле дома стояла. А когда дом упал, я побоялся – а вдруг опять трясти будет?
– Не будет, – поспешил я успокоить мальчика. – Ну, а если и потрясет, так теперь в вашем дворе и падать нечему.
– Скажи-ка, – улыбнулся Вовка своей грустной улыбкой, – ведь совсем у меня ум отшибло. Зря, значит, тащил. Ну, ладно, я ее обратно снесу.
Мы водворили голубятню на прежнее место, неподалеку от упавших стен дома, – и присели на травке.
– Вот, – говорил Вовка шепотом, чтобы не разбудить спящую мать, – что же я теперь с голубями делать буду? Сколько их учил, и все зазря.
– О чем ты, Вова?
– Ну, как же – ведь голубь к местности привыкает, к приметам разным. В воздухе-то ни милиционеров, ни справочных бюро нет. А как теперь дом найдешь, когда кругом все не то?
Потом добавил невесело:
– Держу их сколько дней взаперти, боюсь – полетят и позапутываются. Что я тогда мальчишкам говорить буду?
– А ты попробуй – выпусти, – посоветовал я мальчику. – Пусть возле голубятни походят. Потом голубей погоняй, а голу́бок придержи. Если голуби начнут вверх уходить, дай осадку голу́бками.
– А что, верно! – оживился Вовка и даже тряхнул остриженной головой. – Может, и не позапутываются.
Через час, когда полетавшие птицы были заперты в голубятне, Вовка спросил меня:
– Ты сейчас куда пойдешь?
Я сказал, зачем пришел. Да вот сам вижу: нельзя Вовке от матери отойти.
– Да, – вздохнул мальчик, – сильно ее ушибло. А я б тебе – ох как помог! Я тут каждую улицу вдоль и поперек знаю. Голубей со всех мест бросал.
Потом он спросил, какие адреса у меня записаны, и все крутил своей щетинистой головой:
– Ох, и далеко ж! Не найти тебе нипочем. И до этого-то трудно было, а теперь и вовсе собьешься.
Совсем неожиданно он прищурился и таинственно зашептал:
– Мы знаешь что́ сделаем? Мы так сделаем: ты тут сиди, а я пойду. Если маме воды там или поесть, так ты дай. Сумеешь ведь? Только мама проснется и – пойду.
Женщина в это время открыла глаза, слабо улыбнулась и сказала:
– Иди, иди, Вова. Помоги дяде. Да и на заставу зайдешь. Пусть папа врача попросит.
Через минуту Вовка был готов в путь. Под мышкой он держал небольшой фанерный ящик, из кармана рубашки у него торчал кусок красного карандаша и лист бумаги.
– Давай адреса́, дядя, – сказал он деловито.
Аккуратно сложил листок с адресами, сунул его в карман, но тут же не утерпел и поманил меня на улицу. Там, отодвинув крышку ящичка, он вынул черного почтового голубя и показал мне.
– Видал? Это я Черкеза беру. Туда часа за полтора доберусь, все разузнаю и тебе с ним записку пришлю. А сам на заставу пойду. До нее, знаешь, как далеко?
Потом наморщил лоб и несколько секунд молчал. Вынул листок с адресами и неожиданно отдал мне:
– Ты их перепиши в книжечку, имена-то.
– Зачем?
– Ты перепиши, а я потом скажу.
Когда я вернул листок, Вовка пояснил:
– Много в голубиной записке не напишешь. Так я крестики буду ставить. Живой человек – крестик. Неживой – значит, черточка. Четыре крестика – все живые. Ладно?
В заключение он еще раз напомнил:
– Значит, не забыл: первый крестик – первый, кто записан, жив. Второй крестик – второй человек жив. Ну, я пошел.
Я вернулся к Вовкиной маме и присел рядом.
– Вы, кажется, подружились с сыном? – спросила она, не открывая глаз. – Он среди пограничников рос... жить у них учился... Вот и отца упросил – голубят принести... с заставы. Вскормил их, обучил... Мечтает, как его голуби пограничникам помогут... Диверсанта поймать...
Над городом струился раскаленный душный воздух, на ветках сада лежали мохнатые хлопья пыли, в сад слабо доносилось завывание работающих экскаваторов, стук кирок и мотыг, скрежет лопат.
– Простите, – устала, отдохну, – тихо сказала женщина.
Я ушел в глубину сада и лег на траву.
В удивительно синем небе не было ни облачка, ни птицы. И совсем неожиданно я увидел голубей. Это была совершенно необычная стая: сто – сто пятьдесят птиц. Ни один голубятник не мог гонять столько. Да и никакого порядка не было у голубей: летали они так, как летают чайки, приметив где-нибудь у берега косяк рыбы. Значит, это была не стая – слетанные, знающие друг друга голуби, – а сборище птиц, сбившихся случайно.
Конечно же, это были птицы, дома́ которых разрушило землетрясение, птицы, потерявшие своих хозяев. Теперь, голодные и осиротевшие, они искали спасения друг возле друга.
Я лежал на пыльной траве и думал о Вовке и о записке, которую он мне пришлет. Кресты или минусы будут в этой записке? Неужели погибли люди и мне придется тяжко огорчить моих друзей в Москве? У меня тоскливо сжималось сердце и совсем пересохли губы от этого нещадного ашхабадского солнца. «Кресты или минусы? Кресты или минусы?» – билось у меня в висках.
Прошло часа два после ухода Вовы, когда над маленьким садом раздался свист крыльев и большой черный голубь сел на конек голубятни. И сразу же он вошел в сетчатый загон. Это был Черкез.
Я взял птицу и снял с ее шеи портдепешник – маленькую, в пять сантиметров, сумочку из клеенки. Пальцы дрожали от волнения, и я долго открывал кнопочку на сумке.
Наконец, в руках у меня оказалась крошечная записка, сложенная вчетверо. Я резко развернул ее.
На клочке бумаги красным карандашом были жирно нарисованы четыре ярких крупных креста.
Ух, как я обрадовался этим крестам! Я побежал к Вовкиной маме и, увидев, что она не спит, показал ей записку.
– Все живы, какое счастье, – сказала женщина.
Помолчав, она посоветовала:
– Вы идите сейчас, не ждите сына. Со мной ничего не случится. Порадуете людей, тогда и вернетесь.
Я поблагодарил женщину и побежал на вокзал. Из маленького вагончика соединился с редакцией и торжественно сообщил стенографистке, что все живы.
– Не может быть! – закричала от радости стенографистка. – Счастье-то какое! Спасибо вам.
Я сказал, что благодарить надо Вовку и Черкеза.
– Какого черкеса? – удивилась стенографистка.
Я рассказал.
– Дайте Вовин адрес, – попросила она. – Мы ему напишем коллективное письмо, нашему славному мальчику.
* * *
Вечером, закончив свои дела и достав на станции пшеницы, я пришел к Вовке. Он только что вернулся с заставы.
Узнав, что я принес корм голубям, Вовка бурно обрадовался.
– Вот здорово, – говорил он, выгребая из моих карманов пшеницу, до единого зернышка, – вот спасибо вам! Не знаю, чем и отплатить? Ко́рма-то сейчас не достать ни за какие деньги.
– Это тебе вот такое огромное спасибо, Вова, – сказал я, разводя пошире руки, – от всех, кому ты сегодня принес счастливые вести.
– Чего это еще? – подозрительно покосился мальчик.
Узнав, о чем я говорю, Вовка весело рассмеялся.
– Правда, какой Черкез умный голубь! – воскликнул он торжествующе. – Нигде ведь не сбился. Как пуля прилетел...
Мы сидим с Вовкой возле его матери и тихонько беседуем.
– Как ты думаешь, Вова, – спрашиваю я мальчика, – как Черкез нашел дом?
Вовка задумчиво морщит лоб, говорит:
– Доро́ги-то целые остались и деревья на дорогах – тоже. И парки не попадали. Вот он по ним направление и держал...
Вскоре приходит отец с военным врачом. Доктор осматривает Вовкину маму и говорит:
– Считай, Володя, что твоя мама здорова.
– Ох, доктор, как вы меня обрадовали... – тихо произносит мальчик, и на его глаза набегают слезы.
Я рассказываю офицерам, как утром Вовка ходил по адресам, как он прислал записку с Черкезом и как мы сообщили об этой записке в Москву.
Пограничник задумчиво гладит сына по запыленной стриженой голове и говорит с задушевной гордостью:
– Молодец, сынок. Человеком растешь!
ДОМИК НА ПЕПЕЛИЩЕ
Если б меня спросили – страшно бывает в атаке или нет, я бы, кажется, сказал «нет». Не в бою худо. Тягостно ждать атаку и где-нибудь в окопе, в относительном укрытье, думать обо всем, что несет она с собой.
И оттого так тяжко отрывать свое тело, в котором вдруг тысяча пудов, от грязной, ископанной, милой и родной земли.
А потом уже несешься вперед, почти в забытьи, на губах соль от засохшего пота, сердце рвется где-то у самого горла и одно только стучит в голове, будто кто гвозди вбивает:
– Вперед!
Мы шли в атаку на деревню Чернушки, и в каком-то зыбком чаду видел я перед собой вспышки выстрелов и очередей. Били о т т у д а, хлестали огнем, и тонко, злобно ныли над ухом пули:
– Цвить! Вззи!
Потом позади нас и впереди нас заухали корпусные пушки, и багрово-черные волны ревущего огня, раздирая землю, покатились друг другу навстречу. Русские и немецкие артиллеристы схватились в поединке.
Наверно, врагу было труднее, чем нам. Он врылся в землю, сгорбился над пулеметами, задыхаясь от злобы и ужаса. Он знал – ни вперед, ни назад нет дороги. Впереди – мы, позади – степь. Бросится бежать, – и тогда – русские танки, эти стальные глыбы, без жалости и страха.
Поэтому бой был бешен и неистов, и мы трижды ложились на коротком этом, нечеловеческом, смертном пути.
И тут гневно и горько, негодуя и жалуясь, закричали гвардейские минометы. Огненные хвостатые рыбы пронеслись над нами и, сотрясая землю, разлетелись сталью и огнем на самой окраине Чернушек.
Когда все было кончено, мы осмотрелись и увидели: кругом страшная пустошь, битый кирпич, побелевшее в огне железо и весенний ветерок кружит над землей черные хлопья сажи.
Нам дали передышку, – немного опамятоваться, отдышаться, похоронить мертвых. Генерал постоял на околице, потер щетину на подбородке, покачал головой. И мы, по его команде, ушли в лес, чтобы там разбить палатки и сложить шалаши. Это было разумно: ни одного дома не осталось в деревне.
Мне задело излётком-пулей колено, и я вырезал в лесу палочку, чтобы с ее помощью попрыгивать понемножку.
По земле шла ранняя весна, почва подсыхала, неудержимо лезли из-под земли цветы, и именно в эту пору цветения и жизни особенно горько было смотреть на погибшую деревню, в которой еще так недавно жили люди.
По утрам я добирался, похрамывая, до опушки, садился на мшистый пенек и глядел из-под ладони на торчавшие, будто персты, трубы, черные от сажи.
Детство мое прошло в донской станице, и я знаю, что такое для сельского жителя – дом. Горожане легче меняют жилье уже хотя бы потому, что не строили его своими руками.
Где теперь люди, которых война лишила угла, привычной земли и знакомого дела? Вернутся ли они когда-нибудь сюда, к этому пепелищу? Ведь тут протекала – хорошая ли, плохая ли – их жизнь.
Казалось, все вокруг вымерло, и даже воро́ны – непременные птицы всякого боя, о чем мы знали с детства из книг – даже эти спутники смерти не каркали сейчас над Чернушками.
Деревня рядом – тоже мертва. Но для нее существует живая вода, и может случиться, что снова вернутся сюда люди, – совьют гнезда, посеют хлеб.
Жители деревень, за которые шел бой, часто уходили в леса. Они пережидали там часы или дни, и потом – серые, молчаливые – возвращались к домам или к тому, что осталось от них.
Но сюда почему-то никто не шел. Может, немцы перед боем угнали наших людей?
Через несколько дней рана у меня немного затянулась, и я решил добраться до деревни. Для чего? И сам толком не знал. Просто вот так – влекло туда, на чужое пепелище, возле которого и я мог, наткнувшись на пулю в атаке, упасть навзничь и не встать.
Доковыляв до развалин, устал и присел на груду кирпича.
Тишина кругом стояла такая, что больно было ушам. Мне доводилось ходить пешком по соленой пустыне, и вот там тоже было такое же мертвое беззвучье – ни голоса птицы, ни шороха зверя, ни слова человека. Это и понятно: и там и здесь ничего не осталось для жизни – ни воды, ни зерна, ни травки.
Вернутся ли сюда люди?..
Вдруг я вздрогнул и сразу вынул пистолет из кобуры.
Приходилось ли вам замечать на себе пристальный тайный взгляд человека или зверя? Ощущение всегда бывает внезапным и тревожит душу. Даже если это – взор человека, который, любя, наблюдает за тобой.
Не подавая вида, что встревожен, вскинул глаза на ветви ближних деревьев, на развалины, – но ничего не увидел. Может быть, где-нибудь за кустами лежит немец, ушедший от смерти, и ждет минуты, чтоб выстрелить в тебя?
Нет, померещилось, видно...
На другой день снова приковылял к деревне, походил возле пепелища.
На войне – смерть всегда твоя соседка, и если ты каждый раз будешь хвататься за сердце, увидев прах или мертвеца, – тебя ненадолго хватит. Но все-таки успокоиться редко кому удавалось. Нельзя за год или за два, если это даже два ужасных года, сделать сердце каменным, черствым к чужой беде.
Шел я по пеплу и пыли Чернушек, по раненой, рваной земле – и тяжко мне было от горя и гнева. Не дай бог никому ее видеть – войну!
Вот так брел я, занятый своими мыслями, и остановился, как вкопанный. И ушам не поверил.
Откуда-то, из-за почерневшего столбика кирпичей – он был раньше русской печью – до меня ясно донесся милый и живой звук. Это не была ошибка слуха, он лился совсем рядом со мной, тот звук.
Где-то за печкой, вероятно, возле обгоревших деревьев, ворковали голуби. На мужских низких нотах «разговаривали» двое, значит там – не меньше четырех птиц. Ведь так голуби воркуют только голу́бкам.
Прихрамывая, помогая себе палкой, я побежал туда во всю силу своих подбитых ног, и сразу мне стало радостно, и я даже немного размяк от этой радости, будто после двух лет тяжкой бродяжьей жизни попарился веничком на верхнем полке́ баньки.
Сейчас я увижу голубей! Но это – не вся радость.
Голуби веками приучены к человеку. Не живут без него. А здесь, среди пепла и развалин, где не осталось ни одной травинки, ни одного зерна, ни одной крошки, – что бы они стали делать, не окажись тут людей? Выходит, в Чернушки возвращается человек и снова – на веки веков – будет теплиться и цвести в этих лесах живая человеческая жизнь.
Я обежал груды кирпичей. Позади голых обугленных деревьев стоял, источая запах смолы, поблескивая оструганными боками, маленький сосновый домик с открытой дверкой. А возле него грелись на солнышке две пары голубей.
Это были скромные деревенские птицы, неброских цветов и оттенков, но я им очень удивился и обрадовался.
Кроме голубей, в деревне не видно было ни одной живой души. Где же хозяин этих птиц?
Около дверки стояла помятая алюминиевая тарелочка, и на ней желтели какие-то зерна. Я пригляделся к этому корму, и мне захотелось скорей повидать владельца голубей, этого маленького и доброго неве́домку.
Конечно же, это был мальчишка! Зерна в тарелочке – самые разные: десятка три пшеничных, может, с десяток гречишных; были тут и желтые точечки проса, и даже семена трав. Кто, кроме мальчишки, мог ходить по людям, оставшимся без крова и хлеба, и просить у них последнее для птиц? Кто, как не мальчишка, мог сделать этот крошечный кривенький домик для своих питомцев?
Милый ты мальчугашек, где же ты сейчас?
Но я опять никого не увидел вокруг.
Собрался уходить – и снова почувствовал на своей спине тайный настороженный взгляд.
В лесу врач накричал на меня и погрозил отрезать ногу. Два дня я не ходил в Чернушки, а на третий тайком пробрался к голубятне.
За эти два дня около домика произошли большие изменения. Чьи-то заботливые руки расчистили бывший садик и двор, стаскали в один край весь годный кирпич, немного привели в порядок колодец. Тут же, около голубятни, стояла маленькая самодельная тачка с колесиком от детского велосипеда.
На колодце лежала аккуратно связанная из разных кусков веревка и темнело небольшое, все расплющенное и прохудившееся ведро, такое, каким обычно заливают воду в радиатор фронтовые шоферы.
Я достал немного воды, налил птицам в ямку, выкопанную около домика, – и присел покурить.
Тут меня опять заставил вздрогнуть чей-то настороженный взор.
Я резко обернулся и увидел в пяти шагах маленького мальчишку в шапке, налезавшей на уши. Он мрачно смотрел на меня из-под насупленных бровишек, и пот стекал ему на глаза.
– Здравствуй, мальчик! А я тебя давно жду.
Он не ответил на приветствие, не вынул рук из карманов. Он весь был настороженный, недобрый, готовый и к драке, и к бегству.
– Здравствуй! Что же ты молчишь?
Он сузил глаза, с шумом втянул воздух ноздрями и спросил меня, сухо поблескивая глазами:
– Ты – немец?
– Какой немец? – усмехнулся я. – Ты же видишь: у меня звезда на фуражке.
– Фуражку у неживого можно взять, – не сдавался он.
Он подумал, потоптался на месте и вдруг спросил:
– Ты знаешь, кто – Ильич?
– Знаю. Это – Ленин.
Мальчишка облегченно вздохнул, и его серенькие насупленные бровки распрямились.
– Ты зачем сюда ходишь?
– Тебя искал.
– А как знал, что я тут?
– Голубей увидел. Они при человеке всегда.
– Это верно, – качнул он головой. – Я их с собой в лес брал. Когда стрелять начали, мы все в лес ушли. Коров погнали, овец. Кур, какие были, тоже унесли. А я – голубей. У меня ведь коровы нет. Немцы съели.
– Тебя как зовут? Мишкой? Почему ж ты, Миша, к нам в лес не пришел? Мы б тебе хлеба дали, консервов или еще чего.
– Некогда. Хозяйство у меня тут, видишь. А в землянке – мама больная.
– А чего ж ваши из леса не выходят?
– Боятся. Вдруг немец снова придет? Страшно.
– Ты ведь не побоялся?
– Я? – Мишка ухмыльнулся. – Я, знаешь, верткий. Немец еще вон где, а я уже – раз и нету! Свищи да ищи меня.
– А далеко ваши в лесу?
Мальчуган внезапно нахмурился, лицо у него засуровело, и он, напялив шапку на самые уши, повернулся ко мне спиной.
– Ну, я пойду. Некогда мне тут с тобой лясы точить.
Я покопался в кармане гимнастерки, достал офицерское удостоверение и протянул его мальчишке.
– На, посмотри, коли не веришь. Вот тут печать и карточка. Похож ведь?
Мишка взял удостоверение, долго, без смущения рассматривал меня и карточку и, возвращая документ, посоветовал:
– Язык на замке держать надо. Нечего лишнее спрашивать.
Мишка замкнул дверь голубятни, открыл лётик и вернулся ко мне.
– А ты – не бдительный, – сказал он, хитро щуря глаза. – Никаких документов у меня не спросил. А если я шпион – тогда как?
Я потрепал его по русым нечесаным волосам и усмехнулся:
– Какой же ты шпион, Миша? Меня не проведешь. Я все знаю.
– Ха, знаешь! Что ты знаешь?
– Ты за мной три дня следил. На деревья залезал и смотрел. Так ведь?
Мишка с веселой досадой почесал в затылке:
– Значит, видел? А я-то думал, ты слепой совсем.
Уходя, я уговорил Мишку пойти со мной в лес. Там я дал мальчику баночку консервов и сухую плитку пшеничной каши для голубей. Он в благодарность пообещал срезать для меня настоящую палочку.
Дня через два я собрался наведать своего нового друга и его птиц, взял с собой немного еды, но тут запели зуммеры телефонов, забе́гали посыльные, и весь лес сразу ожил, напружился, заторопился, собираясь в дорогу. Дивизия продолжала наступление.
Я попросил у командира машину, вскарабкался в тряский пикап и понесся к деревне.
Она по-прежнему имела нежилой вид, и только в одном месте – у соснового домика голубей – расположился и шумел целый лагерь. Это была по-своему хорошо устроенная стоянка. Женщины, старики и дети образовали небольшие группы, у каждой семьи была печечка из кирпичей, и на ней стоял какой-нибудь закопченный казанок, и в нем варился суп из крапивы или щавеля, а кое-где – даже молоко для малых ребятишек. Видно, люди делились последним, чтобы поддержать жизнь односельчан.
А в центре этого лагеря белело самое первое жилье – кривенький голубиный домик, – и возле него ходили, воркуя, четыре неяркие птицы.
Мишка доставал из колодца воду и наливал ее в ведра. Он был сейчас на этом оживавшем пепелище одним из немногих мужчин, и никому в голову не пришло бы, вероятно, назвать его мальчишкой или посмеяться над страстью к голубям.
Мне было очень некогда, и я, не слезая с машины, отдал Мише платочек с едой, прижал его шершавую, всю в мелком песке веснушек, щеку к своей щеке, – и покатил за дивизией, на запад.