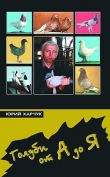Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 39 страниц)
Через несколько минут Гриша выбрался из станицы и зашагал к Шеломенцевой. Чтобы не встретиться с Петей Ярушниковым, двинулся не по дороге, а прямиком.
Зимних хорошо знал этот район и не боялся заблудиться. Заимка затерялась в густом лесу, на берегу довольно большого, круглого, как яйцо, озера. Это было одно из трех озер, вытянутых с севера на юг, западнее Шеломенцевой. Грише не надо было проходить мимо озер. Но он решил обогнуть ближнее: посмотреть – нет ли в прибрежных камышах постов и засад?
Узкий проход между озерами густо порос камышом. В старое время здесь, видно, была славная охота на уток. Ах, хорошо бы сейчас подстрелить пару другую чирков, снять дублетом крякву! Славная похлебка вышла бы!
Размечтавшись, Зимних не заметил, как задрожали слева от него, у берега, метелки растений и на дорогу вышел человек.
Он бирюковато смотрел на незнакомого из-под густых, совсем побитых сединой бровей, держал на весу обрез. Одет был в затрепанную казачью форму, без погон.
– Документы, – распорядился человек. – Швидко!
– А ты чего на меня орешь? – спокойно поинтересовался Гришка. – Ты кто таков?
– Документы! – повторил старик и положил палец на спусковой крючок обреза.
– Ты меня не пугай, дядя. А то, гляди, ненароком сам испугаешься!
– Но-но! – прикрикнул неизвестный. – Не ляпай языком!
Гришка покосился на сутулого, с огромными ручищами казака, мельком заглянул в его волнистые, хмурые глаза, решил про себя: «Этот, в случае чего, выпалит и не перекрестится». Сказал:
– Одет ты больно неказисто, дядя. Сапоги оскаленные. Из комиссаров, что ли?
– Це вже мий хлопит. Документы!
– Ты мне сначала давай свои, образина! – вскипел Гришка. – Много вас тут, голяков, шатается!
– Добре... – сощурился старик. – Геть до штабу! Там буде тоби за це!
Он приподнял обрез, крикнул:
– Айда! Побижиш – куля догоныть.
– От дурака бегать – ног жалко.
– Дуже гаряч, хлопець, – усмехнулся конвоир, шагая за Гришкой к заимке. – Можна легко свинцом подавытыся.
Заимка казака Прохора Зотыча Шеломенцева представляла собой крепкий рубленый дом, огороженный сплошным забором.
«Скажи на милость, – подумал Зимних, увидев издалека это вечное сооружение. – Не изба – крепость».
От дома в лес шла натоптанная тропинка. В чаще, надо думать, таились землянки «голубой армии» Миробицкого.
Шагая по мокрой дороге, Гришка чувствовал на своем затылке цепкий, настороженный взгляд конвоира. Кто он? Какой-нибудь дальний потомок запорожских или азовских казаков, отколовшийся от своих и осевший на время здесь, в лесной глуши? Контра или только неудачник, захлестнутый бурями революции и контрреволюции, отжившее перекати-поле, которому суждено искрошиться в пыль далеко от родных степей? А может, не все человеческое еще истерлось в его душе? Что ж, поживем – увидим.
– Стой! – крикнул конвоир. – Руки догоры!
– Ладно, – вяло отозвался Гриша. – Много чести – пред тобой руки вздергивать.
Казак почесал в затылке, вздохнул и неожиданно выпалил вверх.
Эхо выстрела гулко отдалось в лесу.
Дверь избы отворилась, и на порог вышел заспанный, сильно помятый человек, перепоясанный пулеметными лентами. За пазухой слинявшей гимнастерки пузырилась граната, на боку в деревянной кобуре висел кольт.
Гришку будто подменили. Он выпрямился, бросил руки по швам, поднял голову:
– Честь имею доложить – верхнеуральский казак Ческидов. От красных утек, господин сотник.
– Не тарахти, дурак, – лениво сказал человек на крыльце, но тем не менее доброжелательно взглянул на Гришку. – Я – всего урядник, а сотник в избе. Зачем пожаловал?
– К командующему мне, – серьезно, даже торжественно произнес Зимних. – Оружию и коню надо.
Урядник воткнул в Гришку взгляд узких глаз, таких узких, точно их прокололи кончиком шашки, потер бритую голову, хмыкнул:
– А может, танк тебе?
Потянулся и, зевая, приказал:
– Иди в избу. Там разберемся.
Направился было в дом, но задержал шаг, кивнул казаку с обрезом:
– Ты погоди, Суходол. Вдруг потребуешься.
Зимних аккуратно очистил лапти о железную скобу у входа и направился за Калугиным.
Что это каратабанский урядник, то есть казачий унтер-офицер Евстигней Калугин, Гриша не сомневался ни минуты. Еще в Челябинске, перед уходом на задание, он часами разглядывал фотографии главарей «голубой армии», добытые чека. И мог поклясться, что запомнил все нужные лица до конца века.
Калугин был двоюродный брат Насти, той казачки, что прятала Миробицкого у себя дома. Урядник появился в родных местах незадолго до смерти Колчака.
В просторной горнице стоял большой стол, заставленный котелками, бутылями и мисками с самогоном. Сивушный дух висел в воздухе, будто дым.
На табуретках и скамейках сидело несколько человек, так разношерстно одетых, точно их обмундировывали в лавке старьевщика. Поодаль от всех, у окна, стояла, задумавшись, молодая женщина в нарядной шерстяной кофте. Она непроизвольно теребила концы длинных черных кос и изредка взглядывала на Миробицкого.
Сотник склонился над столом. Клеенка перед ним была очищена от еды и спиртного, и на этом уголке расстелена карта-двухверстка. Синие холодные глаза офицера медленно шарили по карте. Удивительными казались в этой обстановке отутюженный китель и новенькие желтые ремни на сотнике.
Зимних с некоторым удивлением отметил, что Миробицкий совершенно трезв.
Увидев парня, вошедшего вслед за Калугиным, Миробицкий свернул карту, положил ее в планшет, спросил:
– Что надо?
– К вам, ваше благородие.
– Вижу. Зачем?
– Чекушка забирала. Отпустили.
Сотник искоса посмотрел на бородатого мальчонку, вытянувшегося перед ним, нахмурился:
– Как нашел?
– Так ить люди сказали. Не сразу, а нашел.
– Где тебя чека содержала?
– В губернском лагере.
– Вот как?.. – поднял голову Миробицкий. – Любопытно. А ну расскажи, как у них там?
Гришка стал подробно освещать порядки в лагере, а Миробицкий внимательно слушал. Потом сотник подвинул гостю лист чистой бумаги:
– Нарисуй – где что... Может, понадобится мне.
Гришка со знанием дела изобразил двор, бараки, нарисовал крестики постов.
Сотник несколько минут изучал чертеж, отложил его в сторону, полюбопытствовал:
– А в самой чеке сидел?
– А как же, господин сотник.
– Били?
– Разве ж нет?
– Это ты, пожалуй, врешь.
Гость обиделся:
– Может, кто почище – тех не трогают. А нашему брату влепляют, аж сидеть потом невозможно.
Куривший неподалеку от Миробицкого есаул Шундеев поднялся с лавки, подошел к Грише, как колом потыкал его взглядом:
– Ежели кто предатель – тому из спины ремни вырезаем. Запомнил?
Гришка оглядел крепкую фигуру есаула на кривых коротких ногах, лоб, розовеющий гладким шрамом, кивнул головой:
– Это понятно, господин урядник.
– Господин есаул... – подсказал кто-то из-за спины.
– Виноват, ваше благородие...
Шундеев махнул рукой:
– А-а...Документы есть?
– Сохранил, благодаря бога.
Зимних сел на свободную табуретку, снял лапти и начал раскручивать портянки.
– Вот, господин сотник.
Миробицкий долго и внимательно читал справки, зачем-то просматривал их на свет, потом положил в железный несгораемый ящик, стоявший в углу.
– Ну, хорошо, как тебя...
– Ческидов, – подсказал Гришка.
– Так вот, Ческидов, сегодня же и в дело пойдешь. Рад?
Гришка печально поморгал глазами.
– Ты недоволен, я вижу?
– Рад я... Только ведь вот она, какая фиговина
– Ну?
– Выспаться б надо. Трое суток в сосны тыкался, пока нашел.
– Потом отоспишься, Ческидов. Не время.
Он оглянулся, увидел женщину у окна, крикнул:
– Настя! Самогона – казаку!
Калугина пошла в сени, вернулась оттуда с миской соленых огурцов, забулькала самогоном в кружку. Подала первач красивому мальчонке, одобрительно улыбнулась:
– Пейте, господин казак.
Гришка, сколько следовало, улыбнулся в ответ, подумал: «Хороша, стерва!» – и медленно выпил спиртное.
Обеими ладонями потер свою нелепую бороденку, вежливо поставил кружку на краешек стола.
Самогон был крепчайший, а Гриша давно не пробовал мяса, досыта не ел хлеба – и быстро захмелел.
Размахивая руками, наклонился к Миробицкому, зашептал с пьяной доверительностью:
– Я им, большевичкам, под коней памятку оставил, ваше благородие!
– Что? – спросил сотник, с плохо прикрытой брезгливостью отталкивая захмелевшего казака.
– Одного ихнего человека камушком по голове. И ушел тихонечко. Темно было...
Миробицкий нахмурился:
– Иди спать, рыло! Тоже казак, пить не умеешь!
– Не пойду! – возмутился Гришка. – Не к тому я сюда бежал, чтоб отсыпаться! Давай оружию и коня!
– Иди, иди, спи! – вмешался Шундеев. – Прохор Зотыч, кликни Суходола.
От стены отделился огромного роста старик и направился в сени. Тут же хозяин дома вернулся в горницу с Суходолом.
– У тебя в землянке будто бы свободное место, Тимофей Григорьевич? – спросил Шундеев. – Устрой мальчонку.
Суходол ничего не ответил.
– Ты что – язык съел?
– Ладно, – наконец прохрипел хмурый казачина. – Зроблю.
Он подхватил обмякшее тело Гришки и легко понес к выходу.
– Погоди, – остановил казака Миробицкий. – Поищи мальчишке клинок и коня. Винтовку либо обрез сам достанет.
Поиграв желваками скул, добавил:
– Да пошли кого-нибудь вместо себя к озеру. Не дитё, понимать надо!
На воздухе Гришка сказал Суходолу:
– Расцепи клешни-то. Сам дойду.
Старик опустил казачонка на землю, пожал плечами.
– Ты чего кривляешься, дядя? – запальчиво спросил Гришка. – Или пьян?
– Геть! – прикрикнул Суходол. – Сыний, як курячый пуп, да ще шуткуе!
– Ну, ну, – обнял его Гришка, – не кипятись – простынешь. Я уже полюбил тебя, горбатого черта.
Когда Суходол и Зимних вошли, согнувшись, в землянку, им навстречу поднялся тонкий, как кнут, человек в сбитой на затылок казачьей фуражке. Увидев незнакомого, он подмигнул неизвестно кому и усмехнулся:
– Ага, нашего полку прибыло.
– Тихон Уварин, – представил его Суходол. – Святый та божый, на черта похожый.
– Скушно врешь, – сказал Уварин, зевая. – Нету у тебя, старик, никакой игры воображения.
Еще раз зевнув, казак улегся на нары, подтянул длинные ноги почти к подбородку и захрапел.
Тихон Уварин, как потом узнал Гриша, не верил ни в бога, ни в черта, ни в Советскую, ни в любую другую власть. Он с легкой душой мог записаться в анархисты, и в эсеры, и в кадеты, лишь бы ему дали возможность пображничать, поволочиться за бабами – и притом ни за что не отвечать.
У Тихона была удивительная, нелепая внешность. Он был рыжий, как огонь, толстобровый и безгубый; к тому же имел нос башмаком. По причине крайней рыжести Уварин не носил ни бороды, ни усов и грозился, что в самое короткое время настрижет из бородатых большевиков столько волоса, сколько его потребуется на матрас.
Тихон был болтун, и никто ему не верил. Он с величайшей жестокостью рубил невооруженных продработников. с удовольствием очищал хлебные склады, но с коммунистами, у которых было оружие, предпочитал не иметь, дела.
Шундеев, когда бывал в хорошем настроении, говорил Уварину:
– У нас голубая армия, Тихон. Зачем нам рыжие?
– Хоть я и рыжий, а все ж таки – человек темного рода, – смеялся Уварин. – Значит – ваш.
Суходол, убедившись, что Тихон и впрямь заснул, кивнул новичку на грязные нары:
– Треба лягаты, хлопець.
Зимних блаженно вытянулся на лежанке. У него было странное состояние. Тело разбила самогонка, но голова была почти ясная, и он не боялся, что сорвется в своей тяжкой роли.
Забывшись на минуту, вдруг с удивлением почувствовал, что Суходол стаскивает с него лапти и разматывает портянки.
Из дыры в потолке, заделанной осколком мутного оконного стекла, на лицо старика падал скупой свет. Грише показалось, что лицо это совсем не такое злое, как почудилось вначале, а скорее усталое и грустное.
Зимних закрыл глаза и повернулся к стене. Он испытывал маленькую радость, что начало сыграл без явных ошибок, и все-таки душу мутила тревога.
«Как вести себя в налетах? Неужели придется стрелять по своим, ломать и поджигать склады? Нет, он не станет этого делать, как-нибудь извернется, а не станет!
Телефонной связи в уезде почти нет, а и была бы – как сообщить в чека все, что надо?
Петю Ярушникова впутывать в это дело пока рано».
– Тихон, а Тихон! – внезапно позвал спящего Уварина Суходол. – Встань-ка!
– Иди к дьяволу, дед! – не открывая глаз, отозвался Уварин. – Зарублю!
Кряхтя и посапывая сплющенным носом, он перелез через Гришку и, свесив длинные ноги с нар, протянул мечтательно:
– Кваску бы холодного испить... Ииэх... Ну, чего тебе, шишига?
Суходол объяснил, что пойдет искать заместо себя человека в караул, а Тихона просит «пошукаты» казачонку саблю и коня.
– У меня ни складов, ни табунов не имеется, – подмигнул Суходолу рыжий. – И даром я тоже ничего не даю.
– Добре, добре, – остановил его старик. – Будь ласка!
– Ну, черт с тобой, достану, – неожиданно согласился Уварин. – В долг, понял?
Сломившись почти пополам, он выбрался из землянки, и до Гриши донеслась глупая песенка, которую безголосо пел Уварин:
Красный рыжего спросил:
– Как ты бороду красил?
– Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал...
Суходол тоже вышел из подземной клетушки, и Гриша остался один.
Он снова и снова обдумывал наперед каждый свой шаг и снова понимал, что не все впереди будет гладко: уж очень чужой жизнью приходится тут жить.
Вспомнил Ярушникова, его птиц, голубятню, на втором дне которой бережет этот мальчик оружие для борьбы с контрой.
«Я – тоже человек с двойным дном, – внезапно подумал Зимних и хмуро усмехнулся. – У меня тоже есть дно, видимое для глаза, и еще то, которое никогда не должны увидеть бандиты, сметенные сюда бурями революции»...
От этой мысли Грише почему-то стало зябко, но он быстро прогнал неприятное чувство.
«Надо, – сухо приказал он себе. – Мало ли что выпадает коммунисту в судьбе. Не одно прозрачное. Надо – и все».
От размышлений Гришу оторвал Уварин. Он втиснулся в землянку, похлопал Зимних по колену, кинул:
– А ну, выдь со мной, казак. Я тебе суприз сделал.
Гришка намотал портянки, облачился в лапти и, пошатываясь, направился за Увариным.
У землянки, привязанная к дереву, стояла кобылка-недоросток. Мохнатая степная лошадка тихонько помахивала головой, сгоняя слепней, подрагивала округлыми боками, прядала правым, резаным ухом.
– Ты не смотри, что маломерка, – всерьез заметил Уварин. – Бегает кошкой и под седлом не дурит.
– Дядя! – попытался обнять Гришка Уварина. – Дай я тебя, рыжего дьявола, поцелую...
– Но-но! – отстранил его Тихон. – Не шуткуй, пьяная морда!
Впрочем, Уварин тут же забыл про обиду и снял с себя ножны на длинном потемневшем ремне. Гриша только сейчас заметил, что на Тихоне болтались две сабли.
Уварин вытащил из ножен оружие, попробовал пальцем острие, хмыкнул:
– Кочаны рубить – в самый раз. Тупая, как мозоль. Другой нет у меня, парень.
Гришка принял саблю, взвесил ее на руке – добрый пуд! – и с треском воткнул в ножны:
– Ничего, и этим порабатаем, дядя!
Подошедший к ним Суходол внимательно взглянул на казачонка, покачал головой:
– Цей з зубами родывсь!
– Ты чего бормочешь, Тимоша? – спросил Уварин.
– Сотник кличет, – не обратив внимания на вопрос, проворчал Суходол. – Швыдко!
– Обоих, что ли?
– Еге ж.
– Пошли, парень, – потянул Уварин Гришку за рукав. – Видать, дело есть.
И они направились по узкой дорожке к дому.
* * *
В штабе «голубой армии» шел военный и политический разговор. Обсуждался ход «боев» и настроение казаков в южных и юго-западных станицах губернии.
Настя убрала со стола еду и самогон и, чисто вытерев клеенку, ушла в боковую комнатушку.
Миробицкий склонился над картой крупного масштаба, исчерченной синим и красным карандашами. За его спиной стояли Шундеев, Евстигней Калугин, Никандр Петров и отец Иоанн.
– Начались дожди, – хмуро говорил сотник. – Скоро холода́. Нам они, положим, не больно страшны, у нас – землянки и дом. В степных же уездах, в горах морозы и недостаток провианта погонят казаков к жилью. А там – власть.
Слово «власть» Миробицкий иронически растянул и непроизвольно потер поросшую щетиной шею. Может статься, вспомнил камеру губернской чека и лагерь, из которого бежал.
– Уже теперь, – продолжал сотник, – из гор по границе с Башкирией выходят наши люди. Часть отрядов дислоцируется к югу и юго-западу от Верхнеуральска. Другая часть небольшими группами в двадцать-тридцать человек распространяется на северо-восток. Людьми учителя Луконина и подхорунжего Выдрина заняты Карагайская, Ахуново и Уйская. Однако проку в том мало, думаю. Красные посылают в станицу крупные силы, местные голодранцы не поддерживают наши отряды, и людям снова приходится уходить в леса.
– И это все? – спросил Шундеев.
– Нет, отчего же? – сухо отозвался Миробицкий. – Люди делают свое дело. Коммунистов и беспартийную власть – в распыл. В Уйской пристрелили председателя исполкома, двух начальников милиции – местного и Верхнеуральского, четырех продработников.
Миробицкий взглянул на офицеров, опустил брови на глаза:
– И нам не срок бражничать. Делу время, потехе час.
– Истинно. Вера без дел мертва есть, – поддержал сотника отец Иоанн. Маленький, тощенький, с тощенькой же бороденкой, похожей на изработавшийся веничек, он был удивительно не к месту здесь, в обществе грубых, провонявших по́том и порохом казаков.
Отец Иоанн знал Демушку Миробицкого еще ребенком – и уже в те годы отметил в характере мальчишки силу воли и упрямство. Отец будущего сотника вел крупную торговлю хлебом с Туркестаном и не пожалел денег для того, чтобы дать сыну хорошее образование, в том числе и воинское.
После разгрома Колчака отец Иоанн отыскал Миробицкого и выразил желание божьим словом сопутствовать правому делу.
– Стрелять умеешь? – спросил сотник, когда этот худенький, миролюбивый и даже трусоватый человечек появился в Шеломенцевой заимке.
– Увольте меня от этого, – попросил отец Иоанн. – И сану не приличествует, и телом я немощен.
– Тогда вертайся домой, ваше преподобие, – вспылил сотник. – Мне божье слово ныне без сабли не требуется.
Отец Иоанн испуганно задергал ресницами, склонил патлатую, изъеденную сединой голову и вздохнул.
Миробицкому стало жалко старика.
– Я – не Ермак, отец Иоанн, – сказал он уже мягче, – и ныне – двадцатый век. Всякие руки, пускай хилые, могут взять наган либо винтовку. Ну?
И священник, вооружившись японским пистолетом и «лимонками», нападал на станицы в одном ряду с офицерами, кулаками и дезертирами, сидел ночами в засадах.
Толку, правда, от него не было почти никакого, так как ездил поп плохо, а стрелял и того хуже, но Миробицкий отлично понимал, что присутствие священника в «армии» – большой политический барыш. Если уж пастыри божьи берутся за оружие, полагал Миробицкий, то как усидеть в своих станицах уральскому казачеству?
Впрочем, несмотря на заурядный ум, отец Иоанн и сам отчетливо понимал свою полную непригодность для вооруженной борьбы «за веру Христову». Потому, сколько мог, возмещал эту пустоту проповедями и примерным поведением.
Поп не пил, не жег табака и, невзирая на жесткие шутки и язвительность сослуживцев, почти изверившихся в боге, слонялся по землянкам, внушал вечные истины, вздевал вверх худой грязноватый палец:
– От дел твоих сужду тя!
Мрачные, почти постоянно хмельные казаки и особенно дезертиры изводили отца Иоанна непотребными шутками и вопросами. Больше других старался досадить попу Тихон Уварин.
– Слышь, ваше преосвященство, – цеплялся он к проповеднику, – объясни-ка ты мне одну несуразицу. Прямо никакой моей мочи нет. Сон отшибает...
– О чем ты, сын мой? – как можно терпеливее и вежливее спрашивал отец Иоанн, хотя наперед был убежден, что Уварин зубоскалит.
– А вот о чем, – с напускной суровостью посматривал Тихон на пастыря, – вот о чем... У черта нема жинки, а дети родятся. Это как же получается?
И, не дожидаясь ответа, хохотал во все свое узкое горло.
– Не по грехам нашим бог милостив, – грустно говорил отец Иоанн, покидая землянку Уварина. И смешно грозился, оборачиваясь: – Несть во аде покаяния!
На всех «штабных совещаниях», особенно когда разгорались споры, священник занимал сторону Миробицкого, так как чувствовал, в этом молодом офицере твердость и даже некоторый фанатизм.
Собственно, спорили обычно только сам сотник и есаул Шундеев.
Шундеев был старше Миробицкого и по возрасту, и по чину. С другой стороны, сотник все-таки сколотил «армию» и командовал ею. С этим тоже приходилось считаться. Таким образом, полагал Шундеев, права офицеров на спор были равны.
В отличие от Миробицкого, Шундеев был совершенно убежден в обреченности дела, которому служил. Весь драматизм положения заключался в том, что есаул, понимая неизбежность разгрома, не мог плюнуть на Миробицкого и сбежать из «армии». В станице его немедля схватят совдеповцы; в городе он продержится месяц-другой, но арест все равно неизбежен.
Дело в том, что жизнь есаула после революции была насыщена множеством поступков и приключений, за которые порознь и вместе, по мнению нынешней власти, полагался расстрел.
Очутившись во второй половине 1918 года на Дону, Шундеев с группой земляков вступил в белоказачью армию генерала Краснова. Генерал, люто ненавидевший коммунистов, сумел в ноябре восемнадцатого года нанести ряд чувствительных поражений частям 8-й и 9-й советских армий. Есаул расстреливал пленных, самолично брал контрибуцию, спаивал и обижал девчонок.
Под Царицыном он сошелся в конной атаке с красным казачком и тот мастерски, с оттяжкой, хватил есаула концом сабли по лбу.
Еще до уничтожения основных сил Краснова и бегства самого генерала за границу Шундеев скрылся из госпиталя.
В марте 1919 года есаул с розовой отметиной на лбу начал наступление с армией Колчака восточнее Уфы. Он брал Уфу и Белебей, участвовал здесь в облавах и попутно набил переметную суму разными золотыми безделушками.
Затем опять пошла черная полоса жизни, и есаул очутился в Иркутске. Четвертого марта 1920 года, за три дня до вступления советских войск в город, Шундеев, переодевшись в гражданскую одежду, бежал на запад. Ему удалось с поддельными документами коммуниста, расстрелянного в Уфе, пройти через всю страну и в конце мая добраться до арьергардных частей Врангеля. Шестого июня Врангель начал наступление в Северной Таврии. Но к концу месяца оно выдохлось, и Шундеев решил, сильно упав духом, что больше воевать не имеет смысла.
Припрятанные на случай документы мертвого коммуниста оказали ему последнюю услугу: есаул без осложнений добрался до родных мест.
Темной августовской ночью он постучал в окно отцовского дома. Дверь открыла грязная полуслепая старуха. Она чуть не задохнулась от радости, признав в нежданном госте сына. Но вскоре запечалилась, перекрестила Георгия и велела ему уходить в лес, искать своих.
Отец и два брата Шундеева сгинули без следа на дремучей земле Сибири, до конца жизни не утратив веру в Колчака.
Довольно скоро беглый есаул нашел Миробицкого. Первый же разговор убедил Шундеева, что перед ним хотя и неглупый, но недальновидный фанатик. Миробицкий не понимал, что дело их проиграно и что надо думать не о победах, а о том, как сохранить шкуру, уцелеть в это трудное время.
Дементий не хотел об этом и слышать. Бить власть в спину до тех пор, пока снова не вернется белая армия, – вот что, полагал он, должен делать настоящий офицер, а не тряпка. Миробицкий верил, что контрреволюция еще соберет силы. Именно в надежде на будущее сотник назвал свой разношерстный отрядишко, в котором едва насчитывалось две сотни человек, «армией», твердо полагая, что он в недалеком будущем развернется в дивизии и корпуса.
Шундеев не мог втолковать этому исступленному мальчишке, что умный человек обязан понимать приближение смерти раньше, чем отдаст богу душу.
– Ты пойми, Дема, – спорил он с Миробицким, – чем больше налетов – тем больше внимания будут обращать на нас красные. Когда-нибудь они навалятся и оставят от «армии» мокрое пятно.
Миробицкий в ответ только зло посматривал на есаула, и тот чувствовал во взгляде холодных синих глаз откровенное презрение.
И тогда Шундеев решил тянуть в этой лесной волчьей жизни свою, отдельную линию. Претерпев очередную неудачу в споре с Миробицким, он вдруг вызывался сам вести часть отряда в ночной налет. Есаул ухитрялся проводить эти операции без единого выстрела, а точнее сказать – без всяких результатов и последствий для обеих сторон.
Возвращаясь в Шеломенцеву, коротко сообщал сотнику итоги «налетов», и Миробицкий исправно наносил условные значки на карту.
Однако, когда в вылазках участвовал сам Миробицкий, шуму и крови было немало. Сотник не хотел упускать никакой возможности напакостить красным.
Вот и сейчас, рассматривая карту, он говорил «штабу»:
– Дорогу с копей на Селезян мы не держим. Нет нас, есть красные. Это, должно полагать, ясно. Нынче, как стемнеет, возьму десяток казаков – и под Дунгузлы. От этого озерка вблизи – лес. Там и устроим засаду. Надо щекотать нервы большевикам.
– Мы же неделю назад ходили под Хомутинскую, – попытался отговорить Миробицкого Шундеев. – Ты сам водил людей. Пусть отдыхают.
– Отдохнем в земле. Там времени на это хватит.
– Тогда уж пошли меня, – раздраженно бросил Шундеев. – Еще подумает кто – труса праздную!
– Ну, без истерии, Георгий Николаевич. Хочешь ехать – поезжай. Я останусь.
Сотник сощурил глаза, под которыми обозначились синие припухшие полукружья, постучал карандашом по столу и сказал с хрипотцой:
– Пленных не бери. У нас у самих хлеба мало.
* * *
Гришка вошел в горницу, несильно покачиваясь, и вытянулся перед начальством. Рядом переступал с ноги на ногу Тихон Уварин.
– Явились, значит, господин сотник... – доложил Тихон, придерживая Гришку за руку.
– Пойдете оба нынче в дело, – сказал Миробицкий. – Ты погляди, Уварин, за парнем. Может, струсит или еще что...
– Погляжу, – лениво согласился Тихон. – Вечером, что ли?
– Как стемнеет, так и поедете. Господин есаул командовать будет.
– Это можно...
– Не болтай, Тихон, – вмешался Шундеев. – Добыли новенькому коня и саблю?
– А то как же? Я и достал.
– Украл, небось?
– А где же взять нашему брату, коли не украсть? – усмехнулся Уварин. – Да ведь и то сказать: краденая кобылка не в пример дешевле купленной обойдется.
– Ну, марш в землянку! Когда надо – я позову.
– Это можно...
Выехали из Шеломенцевой как только стало темнеть.
Гришу укачивало на кобылке, он сонно хлопал глазами, иногда хватался за гриву.
Верховые смеялись:
– Показакуй, парень!
Шундеев повел коня рядом с кобылкой, усмехнулся:
– Из седла не выпадешь, Ческидов?
– Гришка, он не подведет, ваше благородие.
– Ну, не бахвалься, дурак!
К леску возле озера подъехали уже в полной темноте. Верховые спешились, и Шундеев велел отвести коней в глубь рощи.
– Без приказа не стрелять, ребята, – проворчал он, на ощупь сворачивая папиросу. – Береги заряды.
Уварин тихонько подтащил Гришку к себе, шепнул, похохатывая:
– В кармане кукиш кажет красным их благородие...
«Экая безладица, – думал Шундеев, закуривая козью ножку и пряча ее в ямку из ладоней. – Поди разбери в этой тьмище, кто свои, кто нет? Дурит сотник!» Потом в голову пришли опасливые мысли: «Нельзя и отсиживаться без края. Узнает Демка – освирепеет... Когда и пострелять для вида придется...»
В группе на этот раз было больше дезертиров, чей казаков. Бывшие красные и трудовые солдаты не очень рвались к ратным подвигам, и есаул, пожалуй, даже понимал их.
– Уварин, ты здесь? – негромко справился Шундеев.
– А где ж мне быть? – сонным голосом отозвался Тихон. – Тут и лежу рядом с вами.
– Поди приведи коня. И Ческидов тоже. Может, вдогон придется. Да смотри, чтоб не ржал жеребец подле кобылки. Башку оторву!
– Сейчас приведу. Айда, Гришка.
Шагая за лошадьми, думал: «Казачонка испытывает или что? А я зачем? Боится, чай, что утечет парень...»
Хоть люди и приготовились ко всяким неожиданностям, но все же топот копыт со стороны копей, раздавшийся заполночь, ударил в уши, будто залп.
Луна таилась за тучами, а далекое мерцание то красноватых, то зеленоватых звезд не прибавляло видимости. Утирая холодный пот со лба, Шундеев предупредил еще раз:
– Не дыши до приказа, ясно?
Медленный тупой звук копыт приближался. Выждав, когда он стал совсем отчетлив, есаул положил палец на спуск нагана, крикнул в мутную темноту:
– Стой! Кто?
Топот мгновенно прекратился, точно коней ухватили за ноги, но никто не откликнулся.
Есаулу показалось, что в темноте чернеют не то два, не то три конника, и он почувствовал себя уверенней.
– Кто, спрашиваю?!
Снова ни звука в ответ.
Тогда Шундеев, чувствуя, что его подташнивает от страха, и понимая, что бездействие позорно и бессмысленно, поднял наган на уровень глаз и нажал на спусковой крючок. Одновременно с выстрелом отчаянно прозвучала его хлесткая, как кнут, команда:
– Огонь!
Резко в помертвевшей тишине прогремел залп. Все слышали, как на землю кулем шлепнулось тяжелое – кого-то срезали пулей! – и в тот же миг дробный путанный стук копыт полетел в сторону копей.
– Тишка! – рявкнул есаул. – Вдогон!
Но первым смаху взлетел на кобылку Зимних. Он хватил ее лаптями в бока и, выкинув вверх тяжелую саблю, понесся по дороге.
Уварин отстал от него. Вскоре Тихон пустил своего жеребца несильным наметом, перебросил поводья в левую руку, а правой стащил с шеи обрез.
«Эва! – думал он с пренебрежением об есауле. – Нашел дурня на пули тыкаться. Сам скачи».
Гришка мчался в темноту, почти опустив поводья. Надо было обязательно идти на плечах у преследуемых, тогда ни Уварин, ни Шундеев не будут стрелять им в спину, боясь задеть своего. А там видно будет.
Зимних совсем уже стал догонять верховых, когда навстречу ему, прямо в лицо полоснула наганная вспышка.
Гришка почувствовал ожог на шее, рванул поводья, сдерживая кобылку, но в то же мгновение громкий огонь снова порвал черноту ночи. Сабля вывалилась из ладони, и правая рука плетью повисла вдоль тела.
Тотчас снова загремели копыта, и неожиданно все впереди стихло.
«Повернули в степь, – облегченно подумал Гришка. – Теперь уйдут».
Вскоре он услышал густую дробь конского бега за спиной. Уварин и Шундеев подъехали почти одновременно!
– Ну что, Ческидов, – спросил есаул. – Где красные?
– Сбегли.
– Стреляли – по тебе?
– По мне.
– Цел?
– Шею ошпарили и рука пробита.
– Дотянешь до Шеломенцевой?
– Доеду, ваше благородие. Саблю велите поднять. Упала.
– Тихон, подними оружие, – распорядился есаул. – Молодец, солдатенок!
– Рад стараться, ваше благородие, – вяло откликнулся Зимних. – Можно ехать?
– Завертай коней! – весело приказал Шундеев. – У леска погодим, я гляну, кого срезали.
У рощицы есаул спешился, подошел к черному недвижному телу и, став на колени, чиркнул спичкой. В ту же секунду задул огонек, резко поднялся и пошел к коню.
В слабом свете спички Шундеев увидел лицо знакомого урядника из Селезянской Прошки Лагутина. Похоже было – пристукнули своего, уж во всяком случае – не красного.