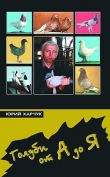Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 39 страниц)
В пути ему стало совсем плохо, его положили в этом доме и обещали вернуться через несколько часов. Но никого нет второй день. Наверно, что-нибудь случилось...
Долгий рассказ утомил больного. Он лежал, закрыв глаза, и пот блестел у него между бровями.
Я вспомнил, что даже не спросил у него имени.
– Как ваша фамилия, товарищ?
Немец не ответил, лежал беззвучно, и мне показалось, что он мертв.
Ругая себя за то, что так неосмотрительно переутомил человека, я прислонил ухо к его груди и радостно вздохнул. Услышал звуки тихого прерывистого дыхания. Больной спал.
Изредка он вскидывался во сне, шептал, облизывая серые губы:
– Ихь хабэ дурст...[69]69
Ихь хабэ дурст... – Я хочу пить...
[Закрыть]
Мы обменялись с шофером взглядами и вышли в соседнюю комнату.
– Что будем делать, Ваня?
Туров пожал плечами:
– Жалко. Хороший мужик, кажись.
«Что же делать? – спрашивал я себя. – Везти больного нельзя – он не выдержит дороги. Остаться с ним и подождать, пока ему станет лучше, тоже не могу. Меня ждут в штабе, я военный человек и не могу нарушить приказ... Значит, бросить человека и уехать?.. Нет, черт возьми, так нельзя...»
Но другой голос подсказывал мне совсем иные слова: «А вдруг он никакой не секретарь Тельмана, а просто выдумал это, увидев советского офицера. Мало ли нам приходилось видеть немцев, которые, попав в плен, тыкали себя в грудь: «Ихь бин ми́тглит коммуни́стишэн парта́й...»[70]70
Ихь бин ми́тглит коммуни́стишэн парта́й... – Я член Коммунистической партии...
[Закрыть].
Но стоило мне припомнить лицо немца, его чистый высокий лоб, его лицо, истерзанное мучениями – и становилось стыдно своих подозрений.
Что же все-таки делать?
– Ваня, ты не заметил, не встречалось ли нам по дороге какое жилье? А то, может, довезти человека туда, а?
– Нет, не встречалось, – отвечал Ваня. – Вы сами не хуже меня знаете.
Я действительно знал это не хуже Турова. Так что же делать?
Мы спустились вниз и прошли к машине. Может, на нашу удачу выйдут к шоссе местные жители и мы поручим больного их заботам. А потом сюда подъедут наши военные врачи.
Но дорога была совершенно безжизненна. Ни одной живой души, ни одной автомашины!
– В ногах правды нет, давайте посидим, – возвестил Ваня и уселся возле баранки.
Я расположился на заднем сиденье и тревожно посмотрел на часы. Еще можно поспеть в штаб к нужному часу, если ехать очень быстро.
Ехать или не ехать?
Я бросил рассеянный взгляд на садок с голубями, стоявший рядом со мной. Почтарь похаживал вокруг голубки, подметал хвостом дно ящичка и ворковал. Голубка кланялась почтарю.
«А что, если... – вдруг пришла мне в голову мысль, – а что, если отправить почтарей с запиской?»
И так мне стало жалко этих птиц, что слов нет! Я ведь успел многое намечтать. Даже наметил, кому в родном городе подарю голубят от них. Нет, никуда я не выпущу почтовиков!
И говоря себе это, я уже знал, что отправлю птиц с письмом. Ведь человек умирает, разве можно так жадничать!
– Отсюда до Берлина, – уже прикидывал я, – около ста километров. Голубь пройдет это расстояние за час – полтора. Десять минут потребуются Паулю, чтобы сбегать в наш штаб и попросить машину и врача. Еще два часа на дорогу – и к вечеру они будут здесь...»
Я совсем было потянулся за голубем – и опустил руку.
«Как же так, – шептал мне кто-то в ухо, – ты хочешь выпустить дареных птиц, даже не зная твердо, ради кого».
Другой, тоже недобрый голос, поддакивал первому: «И голубь, и голубка могут не долететь до Берлина. Они заплутаются и останутся жить у какого-нибудь мальчишки. Тот попросту порвет письмо – и дело с концом».
– Ну, что скажешь, Ваня?
– Знаете что? – ухмыльнулся Ваня, отлично знавший о моей любви к птицам и разделявший ее. – Пускайте голубей с письмом, не царапайте себе душу.
– Скажи-ка ты, какой знаток душ... – ворчал я для видимости.
И уже решительно достал из ящичка багрово-красного, блестящего и тугого, будто литого почтаря.
В самый последний раз рассматривал я рубиновое сияние его пера. Короткая, крепкая, приземистая фигура не делала голубя менее грациозным. Глаза горели, как жар. Широкая выпуклая грудь, короткий и узкий хвост, прекрасный овал головы – все в этом голубе заставляло быстрее биться сердце любителя птицы.
Я вздохнул, передал Ване почтаря – и стал писать записку. Затем достал из фуражки иголку с ниткой, проколол одно из рулевых перьев в хвосте голубя и пришил записку к перу.
Почтарь беспокойно рвался из рук.
Наконец, я разжал ладони. Красный гонец в одно мгновенье вскочил на ножки и со свистом ринулся в небо.
Через минуту он скрылся из вида.
– Ну, вот теперь мы можем ехать, Ваня.
Шофер покосился на меня, проворчал:
– А если заплутается? Что тогда?
– Не должен заплутаться вроде бы...
– Нет, выпускайте уж и голубку. Так вернее.
Ваня долил воды в радиатор и, видя, что я все еще медлю, сказал с неудовольствием:
– Пускайте, пускайте! Что уж вы? Жалеть не приходится – человек помирает.
И по тому, каким тоном было сказано это неистребимое и вечное слово «человек», я понял, что война, и в самом деле, кончена, что не сегодня-завтра мы будем по-новому произносить слово «немец», которое так долго пытались позорить фашисты.
И я стал писать депешу, точно такую же, как и раньше, чтобы отправить ее с голубкой.
– Смотрите! Смотрите! – вдруг закричал Ваня, когда я уже пришил записку к перу птицы. – Смотрите, это ведь наш почтарь носится!
Ваня угадал. Разыскивая свой дом, почтарь не сразу выбрал верное направление. И вот теперь он молнией промчался к морю, развернулся и опять шел к нам.
В то мгновение, когда он поравнялся с нами, я мягко подкинул в воздух голубку.
Она, точно камень из рогатки, взлетела в воздух, увидела голубя, и оба они захлопали крыльями, радуясь весне, друг другу, свободе.
Теперь, вдвоем, они быстро стали набирать высоту – и вот уже превратились в крошечные красные флажки на синем небе.
Мы с Ваней стояли возле машины и, задрав головы, следили за трепетанием этих маленьких флажков победы.
– Дойдут!
– Должны дойти! – убежденно подтвердил Ваня.
И, решив так, мы побежали в дом, все объяснили больному, простились с ним и кинулись к машине.
– Гони, Ваня, что есть духу! – сказал я шоферу, задирая голову и стараясь отыскать в небе моих птиц.
Туров весело подмигнул мне и, стараясь успокоить, философски заключил:
– Ну, чего нет, того и не надо.
Мы летели сломя голову. Выскочив к Балтийскому побережью, повернули на восток. Я с тихой радостью всматривался в горизонт. Где-то там была Россия, родные милые места, мой дом и понятный до мелочей язык.
Всего хорошего, Пауль! Прощай и ты, неизвестный товарищ! Дай бог вам счастья, дорогие люди!
ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ
Когда человеку нравится травка, или птица, или еще что-нибудь, то его всегда тянет к людям, которые любят то же самое.
Так завязываются знакомство и дружба и нередко переписка, если люди живут далеко друг от друга.
Я тоже пишу и получаю письма из разных углов нашей страны, из других государств. Голубятники всякого возраста сообщают о своем житье-бытье, о разных забавных историях и поучительных фактах из жизни птиц.
Одну такую историю, с разрешения автора писем, хочется вам рассказать, потому что она мне нравится самому.
Вот эта история.
* * *
Гринька пылко любил голубей, а мама Гриньки ужасно их ненавидела. Ни сын, ни мать не могли толком объяснить своих чувств. Мальчишке было простительно – ему в то время стукнуло только семь лет. Правда, он считал, что это зрелый возраст, но все-таки не для разных там объяснений. Другое дело – покататься верхом на палочке, изобразить из себя трамвай или дирижабль. Это пожалуйста. Здесь никто не мог упрекнуть мальчишку, что он малявка: Гринька с величайшим усердием и серьезностью занимался своей игрой.
А Варваре Петровне, Гринькиной матери, стыдно просто ругаться на голубей и ничего не объяснять. А ругалась она крайне несдержанно. Уверяла, например, что голуби – это все равно как скорпионы, как крысы, и уж если кто связался с птицами, тот непременно кончит жизнь в тюрьме, или его, может быть, вышлют на необитаемый остров.
Слово «тюрьма» для Гриньки было в ту пору совсем безликое, пустое, а необитаемый остров – вовсе напротив – сияло всеми красками радуги и даже пахло великолепнейше. Плохо ли жилось Робинзону Крузо, – просто смешно! Он, Гринька, совсем не возражает пожить среди океана, в скалах и зарослях. Однако, по зрелом размышлении, Гринька Журин мог согласиться на остров только при одном непременном условии: если там ему разрешат держать голубей.
Мальчишке не разрешали. И он с завистью поглядывал через щелки чужих заборов на сказочных пестрых птиц, клевавших зерно и раздувавших зобы возле голубятен. Ах, каким неслыханным богатством обладали оборванные, немытые, краснощекие мальчишки – владельцы «омичей» и «сорок»! Гринька мог бы поклясться, что, не заревев, подержит ладонь над свечкой, только бы ему позволили завести своих птиц.
Но вы поймете всю сложность Гринькиной жизни, если учтете, что даже позволение еще ничего не решало. Ведь голубей не давали просто так, за здорово живешь! Даровых птиц он мог бы, как-нибудь исхитрившись, спрятать от мамки. Например, на чердаке или под домом, куда надо проползать через узкую щель на пузе. Мамке ни за что туда не пробраться, в темную сырую духоту.
Гринькин отец не вернулся с гражданской войны. С деньгами у мамы, конечно, туго. Но все-таки она могла бы отсчитать двугривенный на пару птиц, если б хотела. Только какое же «хотела»! Ведь голуби для нее хуже скорпионов и крыс.
И вот с такими печальными мыслями Гринька один раз торчал у неплотно прикрытой калитки чужого двора. Вздыхая, он рассматривал красных, желтых, белых и всяких других птиц, которых кормил тихонький, невысокий ростом дяденька. Господи, какой это был наисчастливейший мужчина! Голуби садились ему на плечи, клевали пшеницу с рук – и ворковали, ворковали...
Если бы Гриньке – одну пару, только одну! Мама вообще добрая, но она, конечно, сочиняет про скорпионов, и не только взрослый Гринька, но даже самый мелкий мальчишка может рассмеяться в ответ на такое ее слабое сочинение. Ах, если бы Гриньке только одного голубя и только одну голубку!..
Глубоко увлеченный своими размышлениями, он даже не заметил, что калитка совсем открылась, рядом появился дяденька и сцапал его за руку.
Обнаружив это, Гринька сразу на всякий случай заныл и стал, сбиваясь, объяснять, что он не собирался делать ничего плохого. Но мужчина не слушал его, а вел за руку к голубятне.
– Нравится? – спросил он, кивая на стаю.
– Хы! – хмыкнул Гринька, удивляясь такому наивному вопросу и все еще подозревая, что его будут ругать. – Голуби же!
– А что – голуби? – полюбопытствовал мужчина.
– Хы! – еще раз ухмыльнулся Гринька. – Летают, и красивые. Это все знают.
– Скажи-ка, – весело покачал головой мужчина. – Такой маленький, а уже понимаешь.
Он заглянул в большие голубые глаза мальчишки, засмеялся и спросил внезапно:
– Хочешь – подарю пару?
Гринька сразу нахмурился и отошел на шаг в сторонку. Этот мужчина считает его, наверно, полным дураком. Но Гринька уже не грудной и усвоил: в этом мире никто ничего бесплатно не дает. Значит одно из двух: или дядька издевается над мальчишкой, или хочет получить за голубей что-нибудь взамен. Например, деньги. А денег у Гриньки – кот наплакал, поскольку известно, что коты, если плачут, то очень редко.
– Ну, что ж не отвечаешь? – придвинулся к нему мужчина. – Или не нужны птицы?
Гринька отступил еще на шаг и на всякий случай вывернул карманы своих штанов. Пусть этот хитрый человек видит, что у мальчишки нет никаких денег и тут не больно-то поживишься.
Но, взглянув в лицо невысокому дяденьке, Гринька заколебался. Лицо было доброе, с карими глазами и улыбалось.
«Нет, не похож на тюремщика», – подумал Гринька и, хитро прикидываясь маленьким, спросил:
– А как это – «подарить»?
– Ну как?.. Вот возьму пару птиц и отдам тебе. Просто так.
– Без денег? – уточнил Гринька и даже замер от волнения.
– Понятно, без денег. За деньги не дарят, а продают.
Что там было дальше, Гринька не помнит, хотите верьте, хотите нет!
Очнулся он уже на улице. Бежал домой во всю прыть, а за пазухой испуганно укали настоящие теплые живые голуби. Он прижимал их легонько к животу, ощущал под ладонями округлые трепетные тела и все не мог поверить в счастье, свалившееся на него неизвестно как.
Но у самого дома замедлил бег и даже пошел шажком. Мысли у него разбрелись: и радостные, и не очень радостные – куда спрятать птиц и чем кормить их?
Гринька тихонечко вошел в свой двор, пробрался в сараюшку и спрятал птиц под ржавым прохудившимся ведром. Ведро для верности накрыл поленьями и рогожным мешком.
Теперь можно спокойно и как следует все обдумать. И Гринька стал думать. Нет, чердак явно не годился! Мама редко поднимается туда, но ведь поднимается! Если она увидит голубей – конец. Птиц ему больше не видать, как своего затылка. А от этого с Гринькой может случиться горячка, малярия или даже скарлатина. С такого горя и взрослый заболеет, а он, Журин, все-таки маленький, что там ни говори.
И Гринька снова стал думать.
Оставалось одно-единственное место – под домом. Правда, и под домом – не так просто. Там, в глубокой норе, живет Ласка, сибирская лайка, здоровенная собачина, ростом почти с Гриньку. Она оттуда сторожит дом.
Попробуй-ка, вытури ее! Она, небось, такой крик поднимет, что оглохнешь. С глухотой, конечно, можно помириться, дело не в ней. Хуже другое. Услышит мама, и тогда вся затея немедленно рухнет, как крепость из поленьев.
Однако никакого другого выхода не было, и Гринька, вздохнув, пошел к норе. Но именно в это самое время его осветила замечательная прекрасная мысль. Тогда Гринька тишком пробрался в кухню, выудил из кастрюли кусок горячего мяса и, остудив его, вернулся к норе.
– Ласка, а Ласка! – позвал он собаку. – Иди, я тебе полопать принес.
И он показал дыре кусок мяса. Откровенно сказать, Гриньке самому очень хотелось съесть это мясо, оно редко бывало в доме, но ведь каждому понятно: без потерь в таком большом деле не обойдешься.
Ласка выскочила из дыры, стряхнула с себя мелкий мусор и, смеясь во всю огромную пасть, уставилась на мальчишку.
Помахивая куском мяса перед носом собаки, Гринька пошел в сарай.
Зайдя туда, он запер дверь на крючок, завязал на шее у Ласки веревку и второй ее конец прикрепил к своему колену. И скорей стал сооружать собаке новую квартиру. Повалил плашмя большой ящик из-под стекла, накидал в него разных тряпок: пусть лайке будет мягко. Потом вколотил в землю огромный крюк и, отвязав веревку от колена, замотал ее за крюк.
Подумав, вздохнув и почесав затылок, отщипнул немножечко от куска мяса, отдал эту малость лайке, а остальное мясо опять потащил на кухню и опустил в кастрюлю.
Теперь оставалось устроить гнездо голубям. Гринька затолкал в нору картонную коробку, раньше положив в нее охапку сена, и снова помчался в сарай. Вскоре уже он топал оттуда, волоча в обнимку старую ватную куртку, оставшуюся от отца.
Окончив приготовления, Гринька с величайшими предосторожностями перенес своих птиц под дом.
Заткнув лаз в нору ватником, побрел к матери.
Вы не думайте, что если мальчишке семь лет, то он вовсе простофиля и ничего не понимает. Нет, Гринька прекрасно все понимал! Сейчас вы в этом убедитесь сами.
На кухне мамы не оказалось. Она сидела в комнате и быстро стучала на швейной машинке. Шила сыну школьный костюм, потому что – и это вы тоже должны знать – Гринька через месяц уже будет не просто какой-нибудь там Журин Григорий, а ученик первой группы двенадцатой образцовой школы! Конечно, теперь уже, когда есть голуби, школа ему не очень-то нужна, но раз такой порядок – бог с ним! – Гринька пойдет в школу.
– Ты это мне шьешь, мама? – спросил он самым что ни на есть ласковым голосом.
– Тебе, сынок.
– Спасибо, мама.
Варвара Петровна удивленно покосилась на сына, но ничего не сказала.
– Очень красивая форма, – заметил Гринька и даже пощелкал языком. – Ни у кого нет такой.
– Правда? – обрадовалась мать. – Тебе нравится?
– Еще бы! – пылко воскликнул Гринька. – Очень дорогая материя.
– Ну, не очень, – совсем оттаяла мать, – но все-таки красивая и прочная.
Гринька сел на табуретку рядом с матерью и стал следить за тем, как она ловко крутит ручку машинки. Потом сделал строгое лицо и вздохнул.
– Ты о чем, сынок?
Гринька вздохнул еще раз, посильнее и поглубже.
– Я ночью, мама, заснуть никак не мог, а потом выглянул в окно и вижу: кто-то через забор лезет. Около сарая.
– Господи! – испугалась мать. – Кто же это?
– Не знаю, – скучающим тоном сообщил Гринька, – может разбойники, а может просто так – пьяный какой-нибудь.
– Какой ужас! – всплеснула руками мать. – Что же нам теперь делать?
– Я уже придумал, – быстро отозвался сын. – Надо привязать Ласку возле забора, а конуру сделать в сарае. И ни один разбойник не сунется.
Мать обняла Гриньку, поцеловала в запыленный льняной хохол:
– Умница!
– Ну, это просто, мама, – скромно сказал Гринька. – Это каждый догадается.
– Ну, пойди тогда, сынок, и устрой все. А я не могу, мне шить надо.
Гриньке не терпелось сказать, что все уже сделано, но он побоялся испортить дело и смолчал.
Оставив мать, забежал на кухню, взял кусок хлеба, налил воды в блюдечко и понес еду и питье птицам.
Полдня пролежал Гринька на пузе, рассматривая птиц, кормя и лаская их.
Лежать было неудобно, потому что голова, грудь и живот впихивались в нору, а все остальное оставалось наружи. Но это было совсем несущественное неудобство. Просто о нем даже и говорить не стоило!
Зато какое счастье испытывал Гринька! Он не только разглядел каждое перышко голубей, не только сосчитал каждое черное пятно на оперении своих «сорок», но даже не раз потрогал перья у них на спинках. Уж не говоря про то, что попоил и покормил хлебом.
Он бы еще пролежал сколько угодно, ввинтившись в дыру, как шуруп в стену, если б его не отвлекли.
А отвлек Гриньку его старинный приятель Ленька Колесов. Тот самый Колесов, который совершенно открыто держит на чердаке своего дома шесть замечательных голубей, по десять копеек штука. И знает о голубях все, даже то, как они вылупляются из яиц.
Приятель потыкал Гриньку прутиком в ноги, и Журин, как обожженный крапивой, выпятился из норы. Он был готов в эту минуту зареветь от отчаяния: думал, что прутиком тыкает мать.
Увидев Леньку, облегченно вздохнул, и губы сами собой поползли вверх, в улыбку.
– Ты чего там делал? – поинтересовался Колесов. – Собаку лизал?
Колесов немножко грубоват, но сейчас Гринька совершенно не обратил внимания на его насмешку.
– Со-оба-ку... – протянул он и сощурил глаза, заранее представляя себе, как ахнет Ленька, узнав, в чем дело. – Погляди сам.
Колесов вполз в нору, побыл там минуту и раком выбрался на волю.
– Ничего птица, – важно заключил он, отряхиваясь от земли, – пятнадцать копеек пара.
– Пя-ятнадцать... – недовольно сморщился Гринька. Было просто безобразно ставить рядом такое богатство, как голуби, и такой пустяк, как деньги.
Ленька пошевелил про себя губами, шмыгнул носом и буркнул:
– Салага!
– Это почему же я салага? – обиделся Гринька,
– Слетят у тебя птицы.
– Как слетят?
– А очень просто, выскочат из норы и – в крылья,
– Что же делать?
– Оборвать надо.
– Как это?
– Давай птиц. Покажу.
Гринька слазил в дыру, достал голубей и передал их Леньке.
Журин и сморгнуть не успел, как Колесов вырвал все большие перья из крыльев птиц. Гриньке хотелось зареветь от отчаяния, но он сдержался и только страдальчески смотрел на сразу подурневших птиц.
– Вот теперь не улетят, – сказал Ленька, возвращая «сорок» хозяину. – А когда обрастут – привыкнут к дому, тогда уже – считай, твои. Скажи спасибо, что научил.
Ленька тоже этой осенью шел в школу, и поэтому приятели решили немножко потолковать о ранце, книжках и пеналах. Но много о пеналах не поговоришь, и мальчишки снова стали рассуждать о голубях.
– Ты ночью бросай им корм, когда темно, – поучал Колесов Гриньку. – Лопать зерно они, конечно, днем будут, но кидай все равно ночью. Тогда мамка ничего не заметит. Можно год или два держать, пока увидит.
Вот так началось длинное, через всю жизнь, Гринькино путешествие «в тюрьму» или «на необитаемый остров».
Удары судьбы посыпались мальчишке на голову без всякого промедления.
Мать обнаружила голубей не через год, а через два месяца. Птицы к этому времени уже обросли, и Гринька, когда мать уходила на работу или на базар, позволял им ходить по двору. Но тут же сразу загонял под дом.
И снова часами лежал, засунув в полумрак голову и рассматривая жаркими глазами свое богатство и счастье. Он наловчился понимать взгляды голубей, их язык, и все равно хотелось еще и еще смотреть на птиц, ласкать и кормить их.
Однажды, когда он лежал вот так – на три четверти в норе и на четверть наружи, – согревая животом землю, прихваченную первым холодком, его увидела мать. Она вернулась с работы раньше времени: ей нездоровилось, и начальство отпустило ее с фабрики.
Сначала мать подумала, что Гринька переселил Ласку на прежнее место и кормит ее. Но потом услыхала хлопанье крыльев, «гули, гули», которыми Гринька подзывал к себе птиц, и поняла все.
Тогда она вытащила сына наружу, нашлепала его и, совершенно расстроенная, ушла к себе.
Гринька тоже почти что заболел. И сомневаться нечего было: мать сегодня же прикажет выкинуть птиц.
«А вдруг пожалеет и не заставит?» – хотелось ухватиться Гриньке за маленькую надежду.
Может, и удалось бы склонить к этому мать, пообещав отлично учиться и все выполнять по дому, но, как хорошо известно, несчастья приходят толпой.
На следующий день маму вызвали в школу, на родительское собрание. Учительница первой группы двенадцатой образцовой школы, освещая Гринькины успехи, сказала, что «Журин учится хорошо, но мог бы учиться лучше».
И матери сразу стало ясно, почему сын не учится лучше.
В тот же день у нее был долгий неприятный разговор с сыном. Оба они попеременке плакали, сердились, уговаривали друг друга, но мать все-таки настояла на своем.
Совсем не свой от горя, Гринька в присутствии матери вытащил голубей из норы, спрятал за пазуху и пошел на окраину города. За последними домами, у самого леса, он, обливаясь слезами и подвывая от жалости к себе, разжал пальцы и выпустил птиц в воздух. Голуби тяжело поднялись в серое небо и долго кружили над лесом.
Гринька несся домой во весь дух. Он надеялся, что птицы вернутся, тогда мать, покоренная их верностью дому, может быть, простит сына.
Но голуби не пришли. Они, наверно, плохо знали свой круг, так как мало бывали на воздухе и не изучили крышу.
И Гринька остался один. Один на целом свете. Почти круглый сирота. Без птиц.
Он теперь уже твердо знал, что все невзгоды соединились против него, и жизнь, неизвестно почему, идет мимо счастья.
Нет, он, понятно, не стал с тех пор учиться лучше, а получал отметки даже похуже, чем раньше. Все оттого, что днем и ночью мерещились ему белые голуби с черными пятнами по всему телу.
Такое безрадостное житье было целый год. И когда уже Гринька стал всерьез подумывать, а не сбежать ли ему в Сахару или на полюс, выход нашелся сам собой.
В те далекие годы в стране создавались первые артели, и Журин решил, что будет вполне правильно, если он сколотит голубиную артель вместе с Ленькой Колесовым.
Тот ничего не имел против, но дважды подчеркнул в разговоре, что лично он может сколачивать артель лишь на равных паях. А это значило: достань хоть из-под земли шесть птиц – столько их гнездилось в Ленькиной голубятне.
– Где ж я так много денег возьму? – расстроился Гринька.
– Эх ты, дурак! – пожал плечами Ленька. – Умный человек всегда умеет полтинник или рубль заработать.
– Как?
– Ладно, я тебя научу, – покровительственно сказал Ленька и похлопал оробевшего Журина по плечу.
И он выложил Гриньке великолепный план.
Сейчас я вам в общих чертах нарисую этот план, и вы сами убедитесь, что у Леньки была исключительная коммерческая голова.
Оказывается, по словам Колесова, торгующие организации «Церабкооп» и еще какая-то – «Акорт», что ли, – не только продавали в своих магазинах сахар, крупы и муку. Они еще скупали у населения пушнину. Конечно, в городе ни лисиц, ни белок нету, но ведь крысы, скажем, это тоже пушнина! А что – если хотите знать – из крысиных шкур можно такую шубу сшить, что... Впрочем, это мальчишки не касается. Он должен сдать пушнину и получить деньги.
И Гринька приступил к промыслу.
В соседнем дворе, похожем на площадь, стоял громадный, как трамвай, мусорный ящик. Туда приходили крысы питаться отбросами.
Гринька устроил крысам мамаево побоище. Нет, вы не думайте, что он просто так, без всякой сноровки, выскакивал откуда-нибудь из-за угла и стукал крысу по башке палкой. Вовсе нет! Дело было совсем по-другому.
Журин привязал к ошейнику Ласки кусок веревки и повел собаку вечером на соседский двор. Там уселся неподалеку от мусорного ящика и стал терпеливо ждать. Наконец крысы высыпали на гору отбросов и принялись шнырять вверх-вниз в поисках пищи.
Лайка втянула воздух ноздрями, глаза ее стали красные, и она в беспокойстве задергала веревку. Но Гринька терпел и не отпускал собаку.
Когда Ласка совсем уже разволновалась, мальчишка спустил ее с поводка, и она сломя голову метнулась к мусорному ящику.
Гринька не очень хорошо рассмотрел, как она там кидалась из стороны в сторону и щелкала зубами. Но когда мальчишка, замирая от охотничьего азарта, приблизился к ящику, возле него на пустых консервных банках и коробках от папирос «Ира» лежали четыре дохлые крысы.
Гринька дрожащими руками собрал свое богатство и, прижимая его к груди, побежал в сарай. Там уже были приготовлены совсем немножко ржавые ножницы. С их помощью мальчишка содрал с крыс пушнину. Эта операция была не из легких, но все-таки Гринька с ней справился. Нет, дело, разумеется, не в каком-то там запахе или неприятном виде крыс! Подумаешь! Просто тупые ножницы не очень подходили для сдирания пушнины, вот и все. Шкурки иногда рвались и начинали зиять дырами в самых неподходящих местах.
Через месяц в сарае уже сохло сто сорок прекрасных крысиных шкур. Это был огромный капитал. Требовался совсем пустяк: притащить пушнину в «Церабкооп» и получить деньги.
Вот тогда Гринька накупит сколько хочешь голубей и притащит их Леньке на чердак. Ха-ха, как выпучит глаза Колесов, как он будет лопаться от досады!
Но ничего этого не случилось. Судьба припасла Гриньке неприятности, много хуже тюремных. У другого человека, не такого крепкого, как Журин, просто порвались бы все нервы. Ведь подумать только: беда наскакивала на беду, и, кажется, не было никакого спасения от разных неудач.
Короче говоря, маме что-то понадобилось взять в сарае, и она чуть не задохнулась там от пронзительного запаха крысиных шкур.
Напрасно Гринька ревел белухой, зря валялся у матери в ногах, пытаясь объяснить ей, что крысиные шкурки – это «серое золото», – ничто не помогло.
Мать, бледная от отвращения, стащила Гринькину добычу в помойную яму и потом долго отмывала руки мылом, стиральной содой и еще какой-то ерундой, кажется, керосином.
Гринька после этого пять дней ходил нездоровый и схватил в школе два «неуда» – по чистописанию и арифметике.
Другой бы на его месте от такого горя – нет, речь идет не о плохих отметках, а о гибели пушнины – совсем расклеился. Но Гринька все-таки был сын красного армейца, и он решил пойти в бой на судьбу. Всего через неделю, упрямо покрутив вихром, сжав зубы, он дал себе слово не хныкать и не отступать от задуманного.
Но одно дело дать себе слово, и совсем другое – достать деньги на птиц. Может быть, даже целый месяц Гринька размышлял и так, и сяк, пока, наконец, придумал стоящее дело.
В ту пору на всех людных улицах города раздавался гулкий стук сапожных щеток, которыми мальчишки, чистильщики сапог, колотили в свои деревянные ящики, зазывая клиентов. Гринька сам не раз видел, как они весело, с быстрым усердием наводили глянец на штиблеты бывших нэпманов и хромовые сапожки окраинных модниц. Казалось, что чистильщики зарабатывают свои деньги с величайшей легкостью и удовольствием. В конце концов, Гриньке нужен был всего лишь один рубль, а там – бог с ними, с ящиком и со щетками!
Но выше уже говорилось, что судьба насмехалась над Журиным, даже просто издевалась над ним. Заманчивое на первый взгляд предприятие – лопнуло, как мыльный пузырь, при первом же соприкосновении с воздухом улицы.
Вот вы уже подумали, что Гринька, как какой-нибудь мелкий шкет, плохо подготовился к своему предприятию. И зря подумали! Журин целую неделю доставал для ящика подходящие доски. Потом стругал и полировал их стеклом. А еще потом, сколотив ящик, покрасил его великолепной розово-малиновой краской, купленной за гривенник у соседа-маляра. Даже деревянные части щеток – и те сияли розами и малиной.
Когда все высохло, Гринька приделал к ящику дощечку в форме толстой подошвы, и прочно прибил гвоздями старый отцовский ремень.
В первое же воскресенье отправился в центр города и, натаскав кирпичей, уселся на них возле большого шумного магазина.
Несчастья начались без всяких промедлений.
К Гриньке подкатил шкет в рваном, с чужого плеча, френче и, не говоря худого слова, треснул новоявленного чистильщика обуви по шее.
– За что? – спросил Гринька, глотая слезы обиды.
– Ха! – хохотнул шкет. – Ты откуда сюда примахнул? Расселся, фраер, тут, на чужом месте, да еще вопросы спрашиваешь?
И он легонько смазал Гриньку еще раз по затылку.
Мигом возле магазина собрались беспризорники. Они громко высказывали предположения, что Гриньки не было на месте, когда раздавали ум, и советовали оборванцу устроить новенькому «макароны».
Однако шкет ограничился угрозами и смылся. Огольцы тоже рассосались по окрестным улицам.
В конце концов, со всем этим можно было помириться. Тут не было ничего такого, очень уж страшного. Ну, треснут еще раз по шее. Подумаешь! А может, Гриньке удастся сколотить свой рубль до неведомых ему, но, несомненно, не очень-то приятных «макаронов»?
Гринька хорошо осмотрелся вокруг.
Неподалеку от магазина, у грубо сколоченных ящичков, сидели Гринькины сверстники, стучали щетками о ящики и орали во всю ивановскую:
Эх, крем-гуталин!
Почистим, гражданин!
Гринька тоже постучал щетками и выкрикнул: «Эх...» Но закончить свой пламенный призыв, завлекающий клиентов, не успел.
На' него искоса упала огромная тень. Радуясь появлению первого клиента, Гринька поднял голубые глаза и... похолодел от ужаса: перед начинающим чистильщиком стоял, широко раздвинув ноги, усатый, рыжий и, с первого взгляда видно, свирепый милиционер.
– Патент! – рявкнул милиционер, и его огненно-желтые усы взлетели вверх, как костер.
– Чего? – спросил Гринька и заморгал глазами.