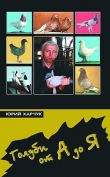Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
НЕРАЗЛУЧНАЯ ПАРА
Это была пара отличных павлиньих голубей, как снег белых, с пышными – веером – хвостами. Голубь был немножко покрупнее голубки и чубатый.
Они появились на нашем кругу рано утром и сразу притянули к себе взгляды окрестных голубятников. Птицы прилетели издалека: таких в поселке не было.
Голубка шла медленно и тяжело, будто движения крыльев причиняли ей боль, часто теряла высоту.
Наконец, они опустились на соседний дом, и голубка сразу прижалась к нагретой солнцем железной крыше. Чубатый беспокойно забегал рядом. Он то прихорашивал свою подругу, причесывая у нее перышки на голове, то выискивал в мелком мусоре крыши соринку, похожую на зерно, и подталкивал ее к жене.
Маленькая подруга чубатого почти не обращала внимания на эти проявления нежности. Она прихмурила глаза и, низко опустив голову, казалось, дремала.
Вскоре один за другим у дома появились голубятники. Со свистом и гиканьем они выбросили в воздух своих птиц, но павлиньи остались на крыше.
Голубь, правда, раз или два взмывал в воздух, но неизменно возвращался. Он снова и снова взволнованно обегал жену, притрагивался клювом к ее головке, будто шептал что-то.
– Эге, – сказал дядя Саша, довольно спокойно наблюдавший за возней мальчишек, – голубка-то, вполне возможно, с яйцом. Вот супруг ее и оберегает.
Прошло около часа. Все попытки голубятников спугнуть павлиньих с крыши ни к чему не привели. Тогда к дяде Саше неожиданно подбежал незнакомый мальчишка лет двенадцати, вихрастый, в большом потрепанном пиджаке.
Мальчуган о чем-то спросил дядю Сашу и направился к дому.
Он быстро стал подниматься по железной лестнице и вскоре очутился на крыше.
Чубатый стремительно взмыл вверх. Но голубка даже не сделала попытки подняться. Она глубже втянула голову в плечи, совсем закрыла глаза, и мальчишка без всякого труда взял ее.
Голубь, увидев это, почти сложил крылья и камнем упал на крышу.
Через мгновенье он снова поднялся, но, не сделав и половины круга, возвратился назад. Страх боролся в его маленьком сердчишке с любовью к беспомощной голубке. Чубатый метался над мальчишкой, почти задевая крыльями его лицо.
Тот вел себя совсем спокойно: видно, выполнял советы дяди Саши.
Наконец, чубатый, поняв, что голубке уже не вырваться из плена, взлетел вверх, прошел два стремительных круга и почти вертикально бросился вниз. Перед крышей замедлил падение и сел на плечо мальчишки. Тот спокойно, снял птицу с плеча.
Вскоре, сияющий и важный, мальчуган очутился внизу.
Я подошел к нему и попросил:
– Продай их мне.
Парень покосился на дядю Сашу и заломил неслыханную цену.
Я стал рыться в карманах, набирая нужную сумму.
– Вот, – сказал я мальчишке, – тут не хватает немного, так я потом отдам.
Глаза у мальчугана на мгновение засветились неподдельной радостью. Но тут же он чуть прищурился:
– Не надо.
– Нет, зачем же, я тебе потом отдам.
– Совсем не надо денег, – не то весело, не то сердито сказал мальчишка и протянул мне голубей.
– Как же так? – удивился я.
– А вот так! – отрезал мальчуган и, засунув руки в карманы, пошел прочь. Потом побежал, – наверно, чтоб не раздумать и не вернуться назад за этими милыми верными птицами.
СЕРДЦЕ ТУРМАНА
Так много в жизни загадок! Сколько всякой тайной разности, еще не понятой человеком!
Ну вот, скажем, разве не достойна удивления для тех, кто не нюхал генетики, схожесть детей с родителями?
Мои старые ту́рманы Хмель и Подружка снесли яйца, и через двадцать дней из них выбились голые большеротые ребятишки. Они пищали и ели, ели и пищали, пока не покрылись блестящим золотым пером. Только «сапожки» на ногах белые, как известка, да короткие хвостишки – тоже.
И всякий, взглянув на них, мог безоплошно сказать: это же вывод Хмеля и Подружки, это их гнездо. Ну вот – как это: копеечка в копеечку похожи малыши на отца и мать? Не зря говорят голубятники: – п т и ц а л ь е т д е т и ш е к в с е б я. И наша фраза «в ы л и т ы й о т е ц» от того же корня.
Но одной этой внешней схожести еще мало. Поглядишь на мальчишку или девчонку, а они и говорят, как отец, и хмурятся так же, и смеются схоже. Ну прямо удивительно! Тем более, когда такие малыши и в глаза своего отца не видели. Бывали ведь такие случаи в годы войны. Уйдет отец на фронт, а уже потом сынок или дочка родится.
Голуби подняли детей на крыло ранним августовским утром. Сначала вся четверка ходила со стаей, выписывая ровный круг над домом, потом Хмель оторвал семью от компании и потащил вверх. Он забирался все выше и выше да еще немного в сторону. Выше и в сторону. Выше и в сторону.
Наконец оказался «в горе́» – самой верхней точке полета. Его движения замедлились, но тут же Хмель вертикально ринулся вверх и вдруг, резко хлопнув крыльями, бросился вниз через голову.
Стремительно, огненным колесом, катился он к земле.
Казалось, что беда неминуема, что золотой белохвостый голубь неудержимо несется к гибели.
А я посмеивался, покуривал трубочку и потихоньку бодрил Хмеля:
«Хорошо, старик! Учи детей ремеслу».
Дядя Саша, сидевший рядом со мной, согласно склонил голову.
Хмель повторял петли еще и еще раз и с каждым мгновением увеличивал скорость этого удалого верта. Глухие хлопки переворотов раздавались все чаще и чаще. Хмель, «разматывая петли», шумно приближался к земле.
С балкона казалось, что уже ничто не остановит этого хмельного кружения, этой непонятной смертной забавы, и голубь, с разлета ударившись о землю, превратится в комок костей и перьев.
Теперь и мы с дядей Сашей вытянули шеи и впились глазами в птицу. Язык у меня будто примерз к нёбу. Я лихорадочно думал: «Хмелю уже не спастись!». Дядя Саша тяжело дышал, бормотал несуразное, кажется – ругался.
Но в какой-то еле приметный срок у самой земли Хмель, широко раскинув крылья, резко остановил падение. Выровнял полет – и медленно направился к крыше.
Я хрипло вздохнул, запалил погасшую трубочку и сказал дяде Саше, посмеиваясь:
– Ты, кажется, боялся за птицу? Зря... А я так нисколечко и не трусил. Ей-богу...
Чего, бывает, не сболтнет язык!
Подружка по-прежнему водила детей над всей стаей, чуть в стороне. Вот и она резко устремилась вверх, перевернулась – и пошла, пошла, пошла к земле огненным вертящимся клубком.
Это была та же удивительная живая спираль, игра во хмелю, потребность которой переходит у турманов из поколения в поколение.
– А что ж, – задумчиво произнес дядя Саша, – голуби ведь вина не пьют. От любви пьянеют да вот еще, разве, от этого – от удали и смертного риска.
Взлетки Хмеля и Подружки, казалось, не обратили внимания на чудну́ю игру отца и матери. Они по-прежнему неловко плавали в воздухе, заметно теряя высоту, и скоро оказались на крыше.
Решив, что турманы больше не поднимутся, я вошел в комнату за новой щепоткой табака. Дядя Саша остался на балконе.
Возвращаясь, я услышал гулкое, нетерпеливое воркование Хмеля, резкие удары крыльев по воздуху. Оказалось, – старый турман снова поднял жену и детей.
В лучах западавшего за горы солнца четверка золотых птиц была удивительно красивой. Старики шли впереди и выше детей, блестя тугим, будто кованым оперением.
И хотя вся стая собралась теперь на крыше, старый голубь все равно отвел семью в сторонку. Я понимал, для чего это. Во время верта не очень-то разглядишь, что́ под тобой. А тут, может случиться, взлетит с крыши какой-нибудь дурачишка, сшибешься с ним, – и поминай как звали обоих.
На этот раз Хмель и Подружка завили спираль вместе. Картинка была так удивительна, будто мы с дядей Сашей угодили на аэродром или в цирк.
Даже козлятницы из соседнего поселка, гнавшие сейчас свою скотину в домашние загончики, забыли посмеяться и обругать нас самыми легкими из запасенных прозвищ. Они вовсе запамятовали, что мы с дядей Сашей, по их понятиям, совершенные не́люди: ведь от голубей – ни мяса, ни шерсти, ни молока.
Козлятницы стояли под балконом, распахнув рты, и были так же заворожены невиданным зрелищем, как и мы.
Дядя Саша не мог отказать себе в удовольствии немножко отомстить этим сварливым, злым женщинам. Увидев, что одна из коз, оставив хозяйку и задрав куцый хвостишко, вскачь несется домой, старый слесарь перегнулся через перила и весело крикнул ей вслед:
– Не спеши, коза, все волки твои будут!
Эта невинная шутка вывела женщин из оцепенения. Они, будто по команде, бросились за козами, размахивая прутиками и осыпая нас дождем кличек и ругательств.
Впрочем, должен сказать справедливо, что прежнего накала и страсти в их словах уже не было. Тем не менее, дядя Саша, не любивший, когда последнее слово оставалось за другими, крикнул вдогонку:
– Бабий ум, что бабье коромысло: и косо, и криво, и на два конца.
После этого старый слесарь отвернулся: главное было высказаться, а слушают его или нет, – не играло существенной роли.
Турманы, размотав спираль, медленно облетали круг.
Голубята еще продолжали плавать вверху.
Но вот один из них, кажется – молодой голубь, неловко подогнул крыло и, склонившись влево, начертил кривульку в воздухе. Тут же спрямив полет, он, верно, очень довольный своей храбростью, захлопал крыльями и шумно опустился на крышу.
– Леви́к[30]30
Леви́к – турман, переворачивающийся не через голову, а налево, через крыло.
[Закрыть] будет, – сообщил дядя Саша. – Весь в отца, бастрыга.
Молодая голубка не пошла за братом. Казалось, она топчется на месте и никак не решится кувыркнуться через голову или крыло.
– Эх ты – кургузая душа! – рассердился дядя Саша.
Уходя с балкона, он продолжал наговаривать еще какие-то смешные прозвища, и я подумал, что трусость молодой голубки испортила ему маленький его праздничек.
Однако через несколько дней голубчешка сама пошла в спираль. Она так лихо выписывала петли, что прибежавший дядя Саша только ткнул пальцем в сторону балкона и довольно рассмеялся.
– Ах ты – забавушка, – радовался он, – вон чего набезумничала!
Тут же он не преминул обругать меня за то, что я корил голубку «воробьиным сердцем», хотя, право, мне такая мысль и не приходила в голову.
Стоило полюбоваться этой золотой четверкой, когда она вся враз или попеременке вытачивала в воздухе длинную стружку. Какая это была светлая радость для всех!
Прошла осень, зима, снова запахло югом, закурчавились кустики, слушая пение ручейков.
Дети Хмеля и Подружки стали мужем и женой и ничем не отличались от своих родителей. Их верт даже был стремительней и круче, чем у стариков.
Человек многие столетия выводил эту особую породу голубей, и теперь в груди у турманов билось молодецкое сердце, звавшее птиц к смертной игре и риску.
Молодые турманы, как капля на каплю, были похожи на стариков. И ворковали на тех же низких грудных нотах. И в воздухе вели себя совсем схоже.
И все-таки я безошибочно отделял их друг от друга: первым начинал верт старый Хмель. Он никому не хотел уступать своего права, добытого за целые десять лет жизни.
И теперь, когда солнце грело все теплей и теплей, голуби много раз поднимались в чистое небо.
Как-то утром, выйдя на балкон и окинув взглядом птиц, я увидел, что случилась беда. Хмель сидел на своей полочке, вяло опустив крылья, нахохлившись, будто его знобило.
Я взял птицу в ладонь. Старый турман чуть склонил голову и посмотрел на меня мутным оранжевым глазом.
Открыл птице клюв, и у меня сразу заныло сердце: на языке желтели творожистые налеты.
Это, без всякого сомнения, была страшная для голубей – дифтерийная оспа. Налеты могут разростись, закроют вход в легкие и задушат птицу.
Весь день на работе я чувствовал себя тоскливо, а вечером побежал в аптеку. Провизор по моей просьбе приготовил крепкий состав марганцовокислого калия и однопроцентный раствор метиленовой синьки.
Смазав рот и зев голубя растворами, я отсадил больную птицу на кухню.
Через несколько дней старику, кажется, стало лучше, – и я выпустил его на волю.
Голубь сейчас же бросился к жене.
Потом раздался резкий свист крыльев, и Подружка, круто набирая высоту, понеслась в синее небо. За ней трудно пошел Хмель.
Молодые турманы, еще не забывшие родителей, устремились вслед.
Вся четверка через несколько минут очутилась «в горе́». Птицы прошли по верхнему кругу раз, другой, третий, но никто не начинал верта.
– Вон что, – догадался дядя Саша, – голубка ждет, когда муж начнет вить петли. А он, Хмелюшко, видно, еще слаб.
Наконец Подружка не выдержала и кубарем пошла к земле. Она уже кончила верт и спрямила полет, а Хмель все ходил по кругу с детьми, ходил не впереди их, как всегда, а позади.
Потом один за другим ринулись вниз молодые турманы.
Хмель продолжал прямой полет, – медленный, вялый полет больной птицы.
– Изменило сердце старику, – расстроился дядя Саша. – Туго бедняге.
Хмель стал терять высоту. Мне подумалось, что гордый голубь первый раз в своей жизни возвращается с неба скучным косым путем, – что навсегда отошла его пора, пора огневой игры.
Но я ошибся. Турман нашел в себе силы и стал подниматься вверх. Наконец, набрав предельную высоту, старый голубь опрокинулся через голову.
Это были не прежние стремительные петли, а тяжелый верт больной старости. Но все-таки это был верт, – потребность сердца, жажда риска, не сломленные хворью! Это было торжество птицы, торжество ее храброго сердца!
Чем ближе к земле, тем стремительней и круче кувыркался Хмель. Бело-золотой клубок мелькал в глазах так, что у меня даже выступили слезы.
И я просмотрел, утерял ту незримую последнюю черту в воздухе, ту грань между жизнью и смертью, за которую не должен был залетать голубь.
Уже полная тишина стояла вокруг, уже дядя Саша принес мне в ладонях комок перьев и ломаных костей, а я все оцепенело смотрел прямо перед собой, будто надеялся, что раздастся рядом хлопанье крыльев и сядет на притолоку смелый золотой турман.
– Голубь насмерть бьется, а от обычая не отстает... Это уж так... Ничего здесь не поделаешь, сынок... – бормотал дядя Саша, и я слышал в голосе его трудные тоскливые нотки.
А я стоял и плакал про себя, молча прощаясь с этим храбрым и трепетным теперь уже мертвым сердцем.
ОНИ ДОЙДУТ
У меня шуряки – чуть не все – шоферы. Хорошие рабочие люди. Когда кто-нибудь из них приезжает из соседнего города, мы берем бутылку вина и беседуем на разные темы: о наших делах в космосе, об охоте или об американских автомобильных королях.
Потом, когда наступает время расставаться, я говорю шурину:
– Знаешь, Гаврила Иваныч, ты бы взял с собой голубей, кинул с дороги, а?
Гавриле Ивановичу, обветренному рукастому парню в измятом и замасленном кожаном пальто, неудобно отказывать родичу, и он, стараясь подавить вздох, отвечает с вялой улыбкой:
– Пожалуйста, о чем говорить? Обязательно кину.
– Нет, это не забава, – стараюсь убедить я шурина. – Ты же понимаешь: без нагона почтари просто испортятся. Они разжиреют, отучатся брать верное направление, потеряют летную скорость. А такая птица никому не нужна.
Вручая шурину клетку с голубями, я говорю на прощание:
– Тебе это не составит труда. Подъезжая к дому, остановишь машину, заложишь записки в портдепешники и бросишь почтарей в воздух. Вот папиросная бумага для записок. Ты поставишь в каждой из них только одно слово и одну цифру: пункт и время выброски.
– Ладно, – усмехается Гаврила Иванович и несет садок с птицами в кабину. – Все будет сделано, как надо.
За четыре поездки Гаврила Иванович выпустил вблизи своего города двенадцать птиц моей голубятни. Восемь почтарей вернулись, покрыв расстояние в триста с лишним километров. Вьюн, Орлик и Незабудка сели на летик голубятни через шесть часов после выброски. Последняя, восьмая птица шла к дому двое суток. И только четыре голубя не сумели отыскать родину или погибли в когтях хищников.
Потери эти сравнительно небольшие, и я, возможно, не стал бы о них вспоминать сейчас, спустя два года, если бы не одно обстоятельство.
В числе затерявшихся птиц, изменивших родному дому и жене, был Буран. Белый могучий дракон, с почти вертикальной посадкой тела, с шишковатым клювом и большими окологлазными кольцами, он считался признанным вождем многочисленного почтового племени.
Буран родился у меня в голубятне – и все долгие семь лет жизни неизменно оставался верен ей.
Жена Бурана – синяя почтовая птица Незабудка, и один из сыновей голубоватый Вьюн – были слабее мужа и отца, но и они исправно шли с нагона, покрывая в среднем по шестьдесят километров в час.
Почтарь верно и нежно любил жену, и она ему всегда отвечала тем же.
Передавая Гавриле Ивановичу садок с птицами, в числе которых находился и Буран, я был совершенно уверен в благополучном возвращении почтаря.
И вот – Незабудка пришла. Вьюн – тоже, а Буран – глава семьи и лучшая птица голубятни – пропал.
Погибнуть он, надо полагать, не мог. В наших местах, да и то только в горной их части, на огромном пространстве в две тысячи квадратных километров, замечены всего две пары соколов-сапсанов. Ястребов-тетеревятников в степной зоне нет, они лесные обитатели. Правда, в предгорных равнинах уральского юга попадается степной кречет – балобан, но этот редкий сокол питается главным образом грызунами.
Весенняя охота в те годы была запрещена, и Буран не мог попасть под глупый выстрел неразборчивого человека. Браконьер не стал бы себя выдавать пальбой по голубю.
Что же случилось с Бураном? Заплутался? Едва ли. Если бы ему изменило всесильное чувство ориентации, почтарь просто пошел бы за женой и сыном, не бросил их.
Так что же? Оставалась только одна верная догадка: Буран был в ту весну нездоров и я не заметил этого. Где-то, может, вблизи места выброски, а может, на пути к дому, он почувствовал слабость, отстал от жены и сына и опустился на чужую голубятню.
Вероятно, его связали или «посадили в ре́зки» в одной из многочисленных деревенских голубятен. Однако редкий сельский птицелюб станет держать почтаря в плену больше двух-трех месяцев.
Но прошло полгода, еще полгода и снова столько же. Бурана не было.
«Он все-таки придет, – убеждал я себя. – Он придет, непременно придет. К жене. К дому».
И понимал, что эти заклинания – не уверенность, а только сильное желание.
С момента пропажи минуло два года. Пора уже было проститься в душе с белым драконом и принудить себя вытеснить его из памяти. А вот – поступал напротив.
Незабудка тяжело переживала свое несчастье, тосковала, устраивала в одиночку гнездо, но так и осталась вдо́вой, беспарной птицей.
Шло пролетье, весна уже слетала с земли, третья весна без Бурана.
В ту пору мне понадобилось поехать в город, где жили Гаврила Иванович и Матвей Иванович. Значит, окажусь рядом с тем местом, где застрял Буран. А не попытать ли счастья? Не поискать ли птицу?
В конце концов был принят рискованный и нелегкий план, единственный план, который, как мне казалось, сулил удачу. Семь бед – один ответ. Попробую!
И я уехал в южный город своей области не на поезде, а на попутном грузовике.
В кабине, рядом с шофером, было свободное место, но я попросился в кузов, и водитель удивленно пожал плечами: триста километров в кузове – все гайки в организме развинтиться могут. Но на войне я закрутил эти «гайки» накрепко, – и не боялся тряски.
Забравшись в кузов, бережно поставил поближе к кабине сетчатый ящичек, уселся рядом и подмигнул птице:
– Поищем мужа, Незабудка? Вместе способнее.
И вполне довольный – затрясся на старом, насквозь пропыленном грузовике.
В каждом крупном населенном пункте я уговаривал шофера поразмяться и во время этих разминок забега́л к деревенским голубятникам, пристально вглядывался в небольшие стаи, ходившие невысоко, на кругах.
В стаях нередко попадались белые птицы, но ни одна из них не походила на Бурана. Почтарь на крыле был вдвое больше почти любого гонного или декоративного голубя. Да и очертаниями он сильно отличался от них.
Так доехали почти до конца пути.
Мы пересекали железную дорогу на станции Буранной, когда я увидел в небе кучку голубей, шедших на большой высоте. Одна из птиц, белая и крупная, ходила в голове стаи.
Может, тряска все-таки отразилась на моем зрении, а может, очень хотелось увидеть Бурана, – только в ту секунду мне показалось, что белая птица – мой почтарь. Вскочив на ноги, я резко постучал в кабину.
Грузовик заскрипел тормозами, и шофер вопросительно взглянул на меня.
– Повремени бога для, – попросил я его, запыхавшись от волнения. – Сойти надо.
– Слышь, парень, некогда, – хмуровато бросил водитель. – Ты уж не сердись: поеду.
Я схватил садок с Незабудкой, махнул шоферу на прощание рукой, и грузовик, пыля и подергиваясь, укатил на юг.
Стая сбавила высоту. Нижние птицы уже садились на крышу большого деревянного дома. Один только белый голубь по-прежнему продолжал ходить высоко и на отшибе.
И в тот момент, когда я уже совсем поверил, что это Буран, белая птица рванулась вверх и тут же – через голову, через голову, крутясь и треща крыльями, ринулась к земле.
Я вздохнул и выбранил себя. Беляк оказался ту́рманом, именно поэтому он и держался особняком, инстинктивно остерегаясь сшибиться с другими птицами во время верта.
Грустно выкурив папиросу, я еще раз вздохнул, взял садок с Незабудкой и зашагал по дороге. Не на юг, а... обратно, на север.
Сделал это, конечно, подумав. Гаврила Иванович выпустил голубя здесь, вблизи Буранной. Как бы ни хворал и ни плутал дракон, он должен был тянуть на север, на родину, к жене. Только на север. Значит и искать его следовало где-то на пути между Буранной и родной голубятней.
И я затопал по жесткой, битой тысячами колес, дороге, стараясь не очень трясти садок с Незабудкой. Щербатое шоссе тянулось на северо-восток почти по прямой линии. Изредка горбились на пути невысокие холмы уральского мелкосопочника. Они поросли щетинкой свежей травы, набиравшей силу. Всюду, куда доставал глаз, темнели пахотные земли: развороченные пласты чернозема и глинистых почв.
Ближайший совхоз лежал в двадцати пяти верстах от Буранной. Можно было, разумеется, «проголосовать» и добраться до места на попутной машине. Но у меня был свой план и свои надежды.
На полдороге между Буранной и совхозом течет небольшая степная река Солодянка. В засушливые летние месяцы она пересыхает почти на всем своем нижнем течении. И тогда вместо реки образуется цепочка небольших озер.
Мне хотелось побродить по этим озеркам и поискать в зарослях свою почтовую птицу.
Болезнь не мать, а мачеха: лекарства не даст. Два года назад обессиленный голубь мог опуститься в приречные кусты и остаться там надолго. Еду на степной хлебной дороге всегда можно найти, вода рядом. Много ли надо птице, чтоб поддержать в себе жизнь?
«А вдруг, – думал я, – Буран сложил где-нибудь у бережка гнездо и в паре с полудикой сизой голубкой выводит носатых белоперых птенцов?».
На какое-то мгновение мне стало грустно. Нет, разумеется, не оттого, что выжил дракон. Если все случилось так, как предполагаю, то, выходит, мой почтарь опозорил себя, позабыв родину. А это – хуже, чем смерть.
Но тут же я укорил себя: зачем думать о птице так плохо? Надо сначала найти ее, а после разобраться – чья оплошка? Может, и не виноват ни в чем Буран. А поискать следует. Вдруг да и выпадет мне счастливая случайность: снова увижу суровые серые очи дракона!
Конечно, надежды на такой случай самые крохотные, но если что-нибудь делаешь с любовью, то не пренебрегаешь даже ничтожными возможностями.
За два часа я отшагал верст десять с небольшим и, наконец, остановился у мостика через Солодянку.
Сошел вниз, к воде, напоил и накормил Незабудку, закусил сам и направился влево, к истокам реки. Впереди зеленели то горб, то долинка, попискивала и посвистывала в кустах разная живая мелочь. Я шел по беспутью и оттого натыкался в густом разнотравье то на суслика, то на зайца-русака.
Речка уже кое-где пересохла, и стеклянными осколками блестели мелкие озерца. По их бережкам быстро пробегали кулички-поручейники, низко и скоро кланялись песочку, добывая пропитание. Иной раз со свистом взмывали в небо пары или группки чирков.
Но нигде не было птицы, даже отдаленно похожей на Бурана.
Я честно вы́ходил все окрестные старицы и ничего не нашел.
В середине дня вернулся к мосту и, поколебавшись, зашагал на юго-восток, теперь уже к верхнему течению реки. Вечером дотянулся до места, где Солодянка вливается в Гумбейку, но так и не увидел ни единого белого пера.
Усталый и недовольный, вернулся к шоссе и на попутной машине докатил до совхоза.
Ночевал в клубе, в каморке сторожа. Прежде чем улечься, долго выспрашивал старика: не прибился ли к кому-нибудь из местных голубятников белый большой почтарь?
Сторож отвечал в том смысле, что у трех или четырех совхозных птицелюбов есть крупные белые голуби, а прибились они или не прибились – он не ведает.
– Посмотреть надо, сынок, – заключил старик, укладываясь рядом со мной. – А так разве узнаешь?
Утром, как только рассвело, сторож разбудил меня и повел к голубятникам. Мы обошли один за другим четыре двора, и везде нам показывали белых, правда, но беспородных птиц.
В полдень я простился с дружелюбным стариком, покормил совсем поскучневшую Незабудку и пешком потопал в следующий совхоз, стоящий неподалеку от слияния Гумбейки и Кара-Узяка.
И все повторилось сначала. Дракона не было и там.
Скажи ты, какое невезение!
Незабудка в садке уже злилась и буянила. Она бросалась грудью на сетчатую дверку, тяжело дышала, почти не закрывая клюва.
Я подобрал у реки пустую консервную банку, зачерпнул воды и просунул посудинку в садок.
Старая синяя птица немного успокоилась. Погладил ее по перьям и грустно подмигнул:
– Ничего, Незабудка. Жены ради мужей и не на такое идут. Если любят. Ты ведь очень любила. А старая любовь долго горит.
Пешком и на разных попутных машинах я добрался к вечеру до большого села Степное.
Шагая по крупному бетонному мосту на окраине села, внезапно увидел стаю голубей. Она только что поднялась с крыши и не очень дружно ходила по кругу.
Одного взгляда было довольно, чтобы понять: стаю водил влюбленный в птиц человек, но опыта в деле у него почти не было.
Стая шла неплотно, на разных уровнях, плохо держала круг. Да и не могла она его хорошо держать: в одной куче летали и стремительные чайки, и белые, как снег, вислокрылые и тяжеловатые павлины, и космачи с непомерным оперением на лапках. Опытный голубятник не станет поднимать декоративную птицу в воздух, да еще в одной стае с гонцами.
А вон тот белый большой голубь не зря отбивался со своей голубкой от неподходящей компании. Ему, отменному летуну, не по пути с красивыми, но слабыми увальнями. Даже быстрая чайка, его голубка, и та отстает от мужа, теряет высоту.
Я еще раз с удовольствием посмотрел на белого силача – и вдруг, охнув, замер на месте.
Загребая воздух резкими махами, на корпус впереди и выше снежной маленькой чайки – шел Буран! Да, да – Буран! Я мог бы поклясться в ту секунду, что это он. Длинные могучие крылья, упругий хвост, тугое оперение, – все было рождено в этой птице для неба, а не для крыши. Мне даже казалось: вижу огромные окологлазные кольца и шишковатую восковицу на клюве дракона.
Я лихорадочно рванул дверцу садка, выхватил Незабудку. И, уже замахнувшись для броска, опустил руку... А вдруг это все-таки не Буран? Тогда весь мой план и усилия, потраченные на поиски, пропадут впустую.
Сдержав себя, решил дождаться, когда голуби сядут.
Терпеть пришлось недолго. Павлины и космачи вскоре плюхнулись на крышу и осадили всю стаю. Последним вслед за женой опустился большой белый почтарь. Он несколько раз прошелся возле голубки и вяло поворковал ей.
Теперь я не мог ошибиться. Это был он, дракон!
Я во все глаза рассматривал птицу. Она похудела и постарела: кольца у глаз и шишка на носу стали еще крупнее, чуть потемнели. Вот мы и свиделись, старина!
Я почти бегом кинулся во двор дома, на котором сидели птицы.
Посреди двора, широко расставив ноги, увлеченно посвистывая голубям, стоял невысокий широкоплечий парень в замасленном комбинезоне. В нем нетрудно было признать тракториста.
Посвистывая, он кидал на землю зерно, и постепенно все птицы слетели вниз. Вместе с голубкой опустился и дракон.
Парень, не замечая ничего вокруг, загонял стаю в голубятню длинным гибким шестом. На воле осталось всего пять-шесть птиц, когда тракторист бросил на меня случайный взгляд. Он кивнул, скользнув по гостю отсутствующим взглядом, но внезапно стал серьезен и даже как-то подтянулся. Хозяин голубятни увидел в руках незнакомца синюю почтовую птицу.
– Продаешь? – спросил он, отставив в сторону шест.
– Нет.
– Жаль. Мне для почтаря пара нужна.
– Для белого?
– Для него.
– А давно ли дракон у тебя?
– Дракон? – тракторист чуть прихмурил глаза, соображая, для чего к нему пожаловал непрошеный гость. – Пожалуй, два года.
– Купил?
– Нет. Его в нагон кидали, с запиской. На ночь мою крышу облюбовал. Не случись ничего – утром умчал бы. Да вот беда: кошка соседская его перед зарей хватила. Я на шум вышел – отбил... А теперь, вишь, оклемался.
Он закурил и вдруг пристально, даже подозрительно взглянул на меня.
– Не твой ли?
– Мой.
– Ну, вот что, – сухо проговорил тракторист, – не продам дракона. Не затем столько выхаживал, возился с ним.
Он затянулся несколько раз подряд папироской и вздохнул:
– Я его, считай, полгода лечил. А потом – зима, не для птичьих свадеб время. Понимал: не спарю почтаря с голубкой – уйдет.
Думал – только потеплеет, сам в женихи запросится. Нет, уперся – и ни в какую. Пришлось в резки сажать. Жаль, да ничего не поделаешь.
Два года без малого бился с ним. Кое-как уломал. Месяц назад оженил на этой, беленькой. Тогда и оборвал ему резаные перья. За месяц оброс – и вот – летает. Теперь сам видишь: нельзя продавать.
Он потоптался на месте и заключил, глядя в сторону:
– Ты купишь еще себе. А мне в город недосуг. Да и далеко.
Упрашивать его не имело смысла. По выражению лица я видел: ни за что не отдаст дракона.
– Ну, бог с тобой. Как хочешь. Тогда уж разреши выбросить голубку здесь, у тебя во дворе.
Парень не ответил сразу. Он высосал окурок до основания, затем долго шевелил губами, будто подсчитывал что-то. Наконец усмехнулся, поняв, в чем дело.
– Ты откуда? Я назвал город.
– Фью! – присвистнул тракторист. – Двести верст, не меньше.
Он снова усмехнулся:
– Кидай, коли не жаль. У дракона в гнезде яйца. Он никуда не уйдет. А птица твоя застрянет. Потом не отдам.
– Хорошо. Я не стану просить.
– Он же за два года все перезабыл. Теперь тут дом, – еще раз напомнил парень.
– Я знаю.
– Кидай!
Я медленно гладил Незабудку по спине и в последний раз подумал:
«Вспомнит или не вспомнит дракон жену? Хватит ли у него воли бросить гнездо и уйти туда, где родился? А сама Незабудка? Узнает ли Бурана? Пойдет ли в неведомый путь после долгой тряски в садке, оставит ли мужа? Не знаю. Но теперь уже нельзя отступать».