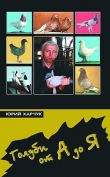Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 39 страниц)
ПРОЩАЙ ИЛИ ДО СВИДАНИЯ...
Нам надо счастье или надежду на счастье, – без этого нельзя человеку.
В детстве я мечтал не о том, может, о чем все. В мыслях я шел, все шел и шел куда-то в порыжелой от пыли рубахе, в грубых башмаках с неизносимой подошвой, и палка моя глухо постукивала в крупную гальку побережья.
Что будет там, на пути, не знал. Желанные встречи, удачливая любовь или даже подвиги с благополучным концом? Что-то должно быть...
И однажды я наяву отправился из дома в дорогу. А вдруг – будет она, как в мечте?
Выбившись из сил, развязывал узелок с хлебом и помидорами, съедал свой завтрак, – и снова шел, бог знает – куда.
Нависали над берегом мохнатые скалы, и в сизо-зеленой их мешанине трудно было различить, где граб, а где клен, или ясень, или дуб.
Иногда горы раздвигались немножко и пропускали к морю узенькие в это время и все же злые реки.
Травинки под ногами были обнизаны по утрам росой. А чуть позже, когда переваливало солнце через Кавказский хребет, – начинала трава дымиться под лучами, точно воздух над лесным костерком.
Вода у берега то глухо вздыхала, наплескиваясь на гальку и обмывая каждый камень, то беззвучно спала. А то вдруг море становилось лютым, хрипело и таранило берег, обнажая корни деревьев.
И уже воображение рисовало мне туманное детство древней этой страны. Зыбкие в пене, в реве волн танкеры, бежавшие в Одессу и Сухуми, казались грозными кораблями аргонавтов, или несчастным судном Одиссея, принесенным сюда слепыми ветрами моря.
Вон там, где-то среди подоблачных скал, есть, верно, и та, к которой приковал разгневанный Зевс любимца людей Прометея.
И мне тоже хотелось, чтоб меня запомнили люди, чтоб не зря я тяготил землю. А что сделать? Ну, похожу – узнаю.
Тянулся путь вдоль берега моря. Лежала перед глазами земля, в которую впечатали когда-то след скифы, земля, по которой пролег великий славянский путь из варяг в греки, земля, густо политая кровью красных рыцарей Революции.
Мечталось: пляшет под шпорами конь, и стреляет на ветру алое знамя атаки, и обтертое его древко, будто в тиски, зажато в мои ладони.
И шел я, не уставая, по этой земле и разглядывал ее, удивительную, как в сказке,
Как-то, когда грыз хлеб, на круглых разноцветных гальках возникла тень женщины, может быть, – девочки. Я сделал вид, точно не вижу ее. Но не выдержал и бросил украдкой взгляд.
Она была лет на пять старше меня. Я заметил прищуренные глаза и улыбку, открывшую белые зубы.
Она сказала, садясь рядом:
– Какой ты бедненький! И рубашка вся прохудилась. Хочешь – я тебя поцелую?
Я поразился странным мыслям женщины: она видела худую рубашку и предлагала поцелуи. И ответил грубо:
– Ты зашей мне рубашку. А целоваться со старухами неинтересно.
Она посмотрела на меня синими удивленными глазами и сказала, недоумевая:
– Какая же старуха, глупенький! Мне и двадцати еще нету.
Потом спросила:
– Хочешь, принесу тебе поесть или что-нибудь из одежды? Нет? Ну, смотри.
Встала, расплела косы и, теребя их, снова опустилась рядом. Разглядывая безмятежное зеленое небо, говорила с грустью, которая мне казалась фальшивой:
– Ты мне нравишься... Диковатый какой-то... Когда человека никто не любит, – разве можно ему жить?
– Очень нужна! – усмехнулся я, косясь на копешку ее русых волос. – Очень нужна такая!
– А какая? – нахмурилась она и зябко повела плечами. – Если б знал, дурачок, какая хорошая...
Я думал: все это – словесный сор, и на уме у нее совсем другое. Хотелось встать и, не прощаясь, уйти. Но ее волосы были рядом с моим лицом. От них исходил запах незрелого кукурузного початка, прозрачный сладковатый запах, знакомый мне с детства. И уже хотелось поцеловаться с ней или только потрогать волосы, рассыпанные по плечам. Но мне претил ее насмешливый тон, меня обижало, что я «бедненький» и «дурачок» и что у меня худая рубаха.
И потому сказал ей сухо, будто окончательно взрослый:
– Ходишь, как русалка. Причесалась бы.
Тихий ветришко с моря шевелил ее платье, и оно шелестело, точно слабая волна на песке.
– Куда ж ты идешь? – спрашивала она. – Я б тоже пошла куда-нибудь. Чтоб все неведомое. И радостно людям. Только я не знаю, что сделать?
– Пристала смолой! – твердил я хмуро. – Куда я тебя возьму?
Она молча грызла сухую травинку, щурила глаза и усмехалась устало – неизвестно чему.
– Вот, проссорились мы с тобой полдня. А зачем?..
Потом по ее лицу пробежала тень, она резко поднялась на ноги, отряхнула песок с платья, сказала:
– Может, ты мне и не нужен вовсе. А только мечта нужна. Не понять тебе этого, дурачок.
Отошла в сторонку и призналась тихо, – не то мне, не то самой себе:
– Неспокойно у меня на душе. Отчего это?..
Купая голые, ступни в пене, глядела на море и говорила вроде бы ему:
– Мама старенькая. Хорошая. Только намучилась много. Без папы. Под Перекопом убили... Ты знаешь, где Перекоп?
– А то нет!
– Мужа мне отыскала. Дом свой и садик при нем. А мне скучно. Зачем дом? Вот революция прошла... Жалко, я маленькая была. Так не возьмешь с собой?
– Некогда мне с девчонками возиться! Отстанешь еще...
Внезапно подул ветер, море стало заплескивать волны на гальку и ухать, кидаясь на загорбки скал.
Еще долго, шагая берегом, видел я, оборачиваясь, тонкую и тугую фигуру девушки. И мне было горько, и смутно, и обидно, не знаю почему.
Потом я исходил все побережье, ночевал в пещерах, слушал песни и всякие случаи, которыми так счастливы костры бродяг.
Разное было в то далекое время: иной раз выпадала работа, и имел я надежный кусок хлеба, а случалось и так – жил одним воздухом.
Как-то приболталась ко мне собачонка, безропотная, услужливая бродяжка пыльного цвета и вся в репьях. Поковыляла в моей компании сутки-другие – да и отстала. А что ж? И так наколотилась в нужде, а со мной совсем изморилась, – ходить много надо, а приварок никудышный.
Весновал я у моря, а к лету поднялся на вершины и дошел даже до альпийских лугов.
В горах кормил и укрывал от безугомонных дождей лес. Высились в долинах рек буковые леса, торжественно-тихие, с кружевным блестящим листом и серыми, похожими на старое серебро, стволами.
Погромче, поживее были дубравы, принявшие под свое сильное крыло низкорослые падубы и лавровишню.
Но не встречалось мне в пути ничего сказочнее, таинственнее, торжественнее, чем коренастый и крепкий костью самшит. Были его древние заросли густо переплетены между собой, перевиты кавказскими лианами: плющом, павоем, ломоносом. Точно длинные бороды, колыхались на деревьях сизо-зеленые лишайники, свисал до самой земли папоротник. Мне казалось: это карлики из сказки перешептываются обо мне на невнятном и непонятном языке. А по ночам хохотали где-то в недоступной взгляду густоте буков совы, вонзал багряные копья в днище котелка царь-огонь и пела негромкую чистую песенку, пробираясь меж скал, царица-водица.
И виделось мне все чаще и чаше по ночам лицо с синими удивленными глазами, и длинные волосы, рассыпанные по плечам, и слышал я тихие слова, мешавшие спать:
«Неспокойно у меня на душе. Отчего это?..»
И я даже не умел себе объяснить, как это случилось, что не могу забыть той странной женщины на берегу, что припал я к ней мыслями и тоскую о ней.
Теперь я уже не бросал журналы, в которых печатались мои стихи, а сберегал их в заплечном мешке, – тонкие провинциальные журналы со стихами в витых рамках. И еще: купил себе пеструю шелковую рубаху, похожую на шкуру двухцветной зебры. В мешке моем гремели прочные, почти новые башмаки, купленные на толкучке по случаю.
И все же я не хотел сознаться себе в своей слабости. Это была, конечно, слабость, – в шестнадцать лет никто не скажет иначе. И тогда я подумал: если уйти в шум человечьих сборищ, то можно забыть об одном человеке.
Черными, в звездах, ночами слушал я у печек-времянок, пропахших ухой, всякие случаи и не́были. Нет, не о барабульке и хамсе были те случаи, а шла речь об акуле-катране, и морском черте, и тунце. А то еще кто-нибудь вспоминал, как видел он близко к восходу у самого борта лодки русалку, и тихо плакала, звала она его к себе, и мерцали под луной на ее плечах золотые, с зеленью, волосы.
А то прохаживался у костра, похрамывая, какой-нибудь взводный гражданской войны, и в уважительной тишине текла его речь о боях на Бзыби и в Новом Афоне. Обязательно бывала в тех историях бесшабашная девчонка – крест-накрест пулеметные ленты – и донской жеребец нес ее в первом гребне конной атаки. Были у той незабытой героини синие глаза и никому не отданное сердце...
А когда мне разрешали слово, я тоже говорил, и были в моем рассказе заледенелый север, и котлованы стройки, и люди для людей, а не только для своего домика с садом.
Так прошли долгие месяцы, но и в житейской толчее не забыл я полузнакомой мне женщины.
И тогда не выдержал, спустился с гор в маленький городок, в тот городок, близ которого встретил ее.
Местный клуб расклеил афиши, из которых можно было понять, что один поэт даром прочтет свои стихи, и это стихи о любви и луне.
Я почему-то верил – она придет. А может, только хотел, чтоб пришла.
Когда открыли занавес, оглядел зал. Не нашел ее – и нахмурился. Зал затих, но я молчал и ждал.
В зале, видно, подумали, что стихотворец ужасно гордый и надо поплескать в ладоши. Я стоял и ждал, и сердце колотилось так громко, что не слышал аплодисментов.
Потом зал удивленно смолк, а я все молчал.
Наконец увидел ее. Она торопливо прошла в первый ряд, села на свободное место, подняла глаза – и вздрогнула от неожиданности.
И тогда я стал читать стихи. Я припас их нарочно, эти стихи, в которых даже себе не хотел признаться, что думал о ней.
Нет, не забыл. Переболел.
Все дальше, все туманнее
Рука, холодная, как мел,
Свинцовых глаз мерцание.
Разлука в лунной полумгле,
Почти без слов и ярости,
Как все разлуки на земле,
Толкающая к старости.
О «лунной полумгле» я написал неправду, для красоты, – верно, я плохо тогда понимал красоту. И еще читал:
Минутной страсти потакая,
Я говорю тебе, грубя:
– Ты не такая, не такая,
Какой я выдумал тебя!
Она сидела, не опуская глаз, и я видел в их синеве слезы.
Кончив читать, уложил журналы в мешок, закинул его за спину и пошел, постукивая палкой, по берегу моря. И, кажется, подумал с грустью: вот так я прогнал из своей души эту женщину.
В том месте, где мы увиделись впервые, сел на песок и подумал, будто бы даже втайне от себя: может, придет?
Она подошла тихо, села у самой воды, сказала, пересыпая в ладонях влажный песок:
– Ты не торопишься?.. Я тоже. Можно сидеть всю ночь, о чем-нибудь говорить. Никто не помешает.
Подсела ближе, сказала, вглядываясь:
– А ты совсем взрослый... Даже можно не узнать.
Спросила:
– Ты помнил обо мне?
– Помнил.
– Теперь на Урал?
– Да. Ты вышла замуж?
Она покачала головой:
– Нет. И я поняла: смешно жаловаться на судьбу. Человек ее сам должен делать. Плохой человек – и судьба плохая. Тебе тоже так кажется?
– Тоже. Что ж ты решила?
– Пока ничего. Кончу техникум – и к рыбакам уйду. Зовут.
Теребя кончик косы, спросила:
– А на стройке трудно? Всё во льду? Урал ведь.
– Трудно.
– Ну вот. Может, приеду. Я люблю, когда трудно. Лишь бы не гнить. Ты согласен?
– Конечно. В том и цена человеку.
– И еще: обязательно, чтоб была любовь. Без любви – не человек, а дерево. Живет, а что толку?
Она попросила запомнить адрес, сказала:
– Ты мне пиши. Когда поделишь горе пополам, выходит только полгоря. А радость на двоих – две радости.
Дул береговой бриз, такой тихий, что ни одной рябинки не видно было на черной безмолвной воде моря. Лунная дорожка покойно протянулась на юг, верно, до самых берегов Турции. Изредка слышался вблизи плеск тяжелых рыбачьих лодок да мелькали выше их бортов красные огоньки папирос.
И была мне мила и близка женщина, похожая сразу и на русалку из сказки, и на ту бесшабашную девчонку из конной атаки, у которой синие глаза и еще никому не отданное сердце.
Расстались мы незадолго до полного света. Перед тем, как разлучиться, тесно посидели молча.
Наконец она сказала:
– Наговорились славно и помечтали вместе. Отчего же нельзя было тогда, в первую нашу встречу? Ведь не по две молодости живем...
Опустила голову к коленям, сказала, почти удивляясь:
– Вот уйдешь и не увижу, может, больше.
– Тогда нельзя было, – запоздало возразил я. – Сама б могла догадаться.
– Почему же? Ведь глупо.
– Не глупо. Снисхожденье обижает людей. Счастье бывает только у равных. Теперь, видишь, мы на равной ноге. Прощай или до свидания, – как хочешь...
– Добрый тебе путь. Напиши, когда вернешься домой. Нет на земле легкого счастья, это я поняла уже.
Я шел у спокойного моря, выкинув из заплечного мешка журналы, рубаху, оставив там только башмаки и записки, – все, что мне удалось накопить за годы бродяжничества.
На море колебались алые блики, ветерок приносил легкий смоляной запах лодок, и на душе было грустно, как всегда бывает грустно, когда смотрят вслед не безразличные тебе глаза.
СЛУЧАЙНАЯ СПУТНИЦА
– Любовь – это только сказка или, может, мечта, – резко сказала женщина, рассматривая пену за кормой.
Потом перевела рассеянный взгляд на стаю дельфинов, шедшую в кабельтове от нас, и вяло улыбнулась:
– Мужчина нужен женщине и женщина – мужчине. Кто станет спорить? Но – любовь?.. Самое пылкое чувство – это всего-навсего то, без чего земля может опустеть от человека.
Она постучала согнутым пальцем по сигарете, сбивая пепел, и заключила убежденно:
– Я и не спорю. Такая выдумка нужна: она скрашивает нам жизнь и, если угодно, облагораживает ее. В этом польза сказок о любви.
Мне не хотелось спорить со случайной спутницей. Было отчетливо видно, что в жизни ее преследовали неудачи, и она возвела свою частную беду во всесветное правило.
Но раздражал тон этой женщины, ее рыжие лакированные ногти, тень презрения и недоброжелательства в вялых бесцветных глазах.
И я спросил ее грубовато:
– Может, бог сэкономил на вашем сердце?
Рядом с ней сидел человек непонятного возраста, ему можно было дать и двадцать, и тридцать лет. У него был вздернутый нос, влажные выпуклые губы, над которыми висели тонкие азиатские усы. Все его лицо казалось слепленным из разных частей, плохо пригнанных друг к другу. Чужеродной казалась и шапочка, красовавшаяся на затылке. Такие круглые шапочки, вероятно, носили французские франты еще до войны.
Одет он был в синюю шелковую рубаху, выпущенную поверх брюк, напоминавших турецкие шаровары.
Он вприщур смотрел на женщину и кивал в такт ее словам иссиня-черной гривой волос.
Мои слова рассердили его не на шутку. Он вскочил со скамьи, смерил меня взглядом петуха, готового кинуться в драку, но тут же сел на место.
Женщина взглянула на своего защитника и улыбнулась:
– Вы правы, милый. Не стоит ссориться. Не из-за чего. Не только меня пожалели наградить любовью. Общая беда.
Человек в синей рубахе протестующе покачал головой.
– Вот как? – усмехнулась женщина, и в ее глазах вспыхнули любопытство и заинтересованность. – Полагаете, что даже такая старуха, как я, может зажечь кого-нибудь любовью?
– Старая солома жарче горит! – выпалил франт с усердием дурака. – Да и не старуха вовсе!
Женщина поморщилась, но через минуту кокетливо даже взглянула на франта:
– Ваша непосредственность просто обезоруживает!
Ночью я вышел на палубу, чтобы послушать море. За бортом медленно и могуче перекатывались волны, били в деревянные бока корабля, забрасывая на палубу водяную мелочь. В чистом черном небе горела без жара луна, и казалось, что она, торопясь и подпрыгивая, несется вслед за кораблем.
Внезапно я услышал какие-то стихи, прерываемые звуками поцелуев. Стихи были о ресницах, на которых спит печаль, о пальцах в запахе ладана и о бренности земной жизни.
– Как мило! – говорила женщина, и голос ее дрожал, будто его сотрясала работа корабельной машины. – И вы сами сочинили эту прелесть?
– Сам! – без тени смущения утверждал мужчина, и я узнал баритон франта в синей рубахе.
– А стишки-то дрянные, – сказал я, не желая подслушивать ни их разговора, ни их поцелуев. – И потом они не ваши. Это – мелкое воровство.
– Он просто завистник, – сказал франт своей спутнице. – И он – грубиян.
– Не верьте ему, – посоветовал я женщине. – Обманет. И вы снова станете утверждать, что нет любви.
Вечером следующего дня мы пришвартовались у мыса Пицунда, и мои спутники сошли погулять в сосновую рощу. Франт важно вел женщину под руку. Это было смешно, но все-таки почти не удивляло. Удивляла спутница. Она шла сияя, кокетливо щурила глаза и облизывала влажные карминовые губы, вероятно, – бледные под краской.
Вернулись они к самому отходу судна. Франт брел теперь позади женщины, шаркая круглыми штиблетами, и гриву его волос спутало ветром. Женщина, напротив, шла, гордо подняв голову, ни на кого не обращая внимания.
Солнце расцвечивало ленивыми лучами морскую поверхность, и вода удивительно быстро меняла свои цвета. Судно набирало ход, оставляя за кормой белопенную дорожку.
Франт ушел в каюту, а женщина присела рядом со мной и, попыхивая сигаретой, сообщила, что жизнь вовсе не дрянная штука, и в ней, пожалуй, есть место любви.
– Он хочет на мне жениться. Но я все-таки должна подумать...
На западе показалась Гагра. Франт вышел из каюты заспанный и сказал, что сойдет на берег купить вина. Может, удастся достать «Букет Абхазии». Это отличное вино, а любовь случается не каждый день.
Женщина, волнуясь, ждала его, переводя тревожные взгляды с причала на берег.
Корабль уже отваливал от пристани, когда на берегу появился человек в синей рубахе. Он помахал кораблю рукой и, спокойно повернувшись, зашагал в город.
Женщина сидела рядом со мной и курила одну сигарету за другой. Глаза ее не выражали ничего, кроме скуки и презрения. И скуки было, пожалуй, больше в этих вялых бесцветных глазах.
– Никакой любви нету, – наконец произнесла она раздраженно. – Сочинители выдумали. Я же говорила...
– Зря вы это, – сказал я женщине. – Любовь, как и все в жизни, заслужить надо. Если угодно, горбом заслужить. Думаете, можно иначе?..
Спутница усмехнулась:
– Ничего я не думаю...
Я встал и, закурив, пошел к борту.
У небольшой груды ящиков сидели пожилые люди и подслеповато смотрели друг другу в глаза. Неподалеку от них стояла еще одна тесная пара, совсем молоденькая. И мне, бог весть почему, показалось, будто две эти пары – одни и те же люди в разное время своей жизни.
Я покашлял, чтобы предупредить их о своем приходе, и отвернулся.
Случайная спутница по-прежнему сидела на скамье, жадно тянула дым, и в ее высохших глазах не было ни радости, ни сожаления.
Волна обмывала берег, а за кормой монотонно и жалобно кигикали чайки.
ДУШУ ОТВЕСТИ...
Мне рассказала эту историю старая женщина, с которой меня случайно свел путь. Добираясь к строителям, я забрел на ее костерок и, попросив разрешения, присел записать фразу, набежавшую на ум. Черкая по бумаге в полутьме, изредка взглядывал на старуху и отвечал на ее односложные вопросы.
Одета она была совсем непонятно. Из-под крепкого ватника виднелись края черной батистовой блузки. Были они сильно потерты и у воротника совсем истрепались. Седые волосы покрыты полинявшей косынкой.
На хмуром лице женщины лихорадочно блестели синие усталые глаза, почти не обесцвеченные временем.
Я кончил писать и набил табаком трубку. Спросил:
– А отчего не спите? Поздно.
Она не ответила сразу. Достала из ватника такую же, как у меня, прямую трубочку, раскурила ее и, покашляв, сказала глухо:
– Ночи у старухи – как версты в степи. Конца им нет.
Выслушав, что́ я сказал, вдруг с любопытством поглядела на меня, даже придвинулась ближе.
– Вот по выговору слышу – земляк ты мне. С севера ведь?
– С севера.
Она опять замолчала, зябко поводя плечами. И без ее вопроса было видно, что к строителям она попала случайно, – человек здесь не коренной, пришлый.
Огромная, казалось, прозрачная лупа висела над нашими головами, заливая зыбким светом урочище Кос-Тума. За горбатым землянками урочища лежала пустыня Бет-Пак-Дала – мертвая, как пепел, земля, придавленная тишиной.
Я собрался уходить.
– Погоди, – проворчала старуха, – не сидится вам, молодым. Надолго ли сюда?
– На сутки. Завтра ночью – на Балхаш.
– А-а... – Женщина, казалось, колеблется. – Так ты приходи завтра. К вечеру. Поболтать охота. Не откажешь?..
Я сказал, что приду.
Весь следующий день бродил по строительным участкам и, тишком ругая жару, знакомился со всякими людьми и писал обрывки фраз в книжечку.
Вечером, отмывшись от соленой пыли, вспомнил о старухе и заспешил к ее землянке.
Костерок горел на прежнем месте, и женщина сидела возле него, изредка затягиваясь из трубки и покашливая.
– Пришел? А я думала – плюнешь. Много ли корысти от старой бабы?
Я не знал, что сказать ей, а она больше ни о чем не спрашивала. И мы молчали, и курили трубки, и изредка взглядывали друг на друга.
– У меня к тебе докука есть, – внезапно сказала она. – Душу отвести хочу.
Погрызла обкусанный мундштук трубки, пробормотала:
– На свою глупость жалобы не подашь... Вот хочу тебе раскрыть мою жалкую жизнь. Ты ведь пишешь и можешь словом помочь, если кто знает меньше, чем я... Станешь слушать?..
Солончаки еще блестели под уходящим солнцем, но зной уже ослабел, стал мягче, не жег лица. Дым растра поднимался в белесое небо, измученное дневной жарой.
Старуха покатала в пальцах красный уголек, разожгла погасшую трубку.
– Ты погоди. Я – сейчас.
Она спустилась в землянку и быстро вернулась оттуда, прижимая к груди тяжелый альбом с тусклыми металлическими застежками.
– Гляди, – сказала она странным тоном, в котором были, кажется, торжество, любопытство и грусть. – Тут – житье-бытье мое.
Я полистал альбом, и на душе стало смутно, как бывает смутно, когда тебе скажут общеизвестную, но горькую истину, о которой не принято говорить.
С карточек на меня смотрело яркое лицо девушки, немного балованной и капризной, – видимо, ее очень любили когда-то. Потом на снимках была молодая женщина с немножко надменным лицом, но по-прежнему пылкая и привлекательная. Она красовалась всегда в кругу мужчин, вроде картины в раме.
Последние снимки сделали в то время, когда ей было, видно, около сорока лет.
Я взглянул на старуху и невольно отвел глаза в сторону: так она была не похожа на женщину из альбома.
– Ну?.. – потребовала она. – Что скажешь?
Выслушала ответ, подышала дымом из трубки, закашлялась:
– Красива... Нет... Всем хороша была, да сердце с пуговицу. А без него какая же красота?..
– О чем вы? – спросил я старуху. – Конечно же, люди не любят злой красоты. Внешность, как счастье в лотерее, – какая кому достанется. Подло презирать других за то, что им выпал плохой билет. Но вы вроде были добры. А нежная доброта женщины ничуть не хуже красоты.
– Думаешь? – взглянула она на меня, и пятна стыда или удовольствия проступили на ее щеках.
Она несколько раз подряд затянулась из трубки, подумала вслух:
– Молодость разве верит в свой закат? Нет, не верит. Это не только от малой жизни и здоровья. А зачем ей думать об одышке и морщинах? Чтоб скорее постареть?..
Ее язык, как и внешность, одежда, производили диковинное впечатление. Это вот как в ином пласте земли: слой ложится на слой, сцеплены прочно – одна земля, а все равно – разнородно все.
И мне хотелось знать – почему так?
Быстро темнело. Стало прохладней. В небе вздрагивали первые крупные звезды. Отсюда, из пустыни, они казались такими непривычно-большими, будто земля сместилась со своих обычных путей и подвинулась ближе к небу.
– Все ушло... – опять внезапно заговорила старуха, посасывая трубку и покашливая. – В девятнадцать моих годочков была у меня тьма поклонников...
Она на мгновение замолчала, вслушиваясь в музыку приятных ей слов.
– Всякие были ухажеры. – Она усмехнулась, продолжала вполголоса: – И среди них, ухажеров, – Васенька. Совсем на них на всех не похожий. Бесцветный, казалось. Робкий очень. Знаешь, есть песчаная осока – иляк. Вот на нее походил...
Она говорила мягко и мечтательно, точно жалела о том, что мало на свете бесцветных робких людей.
– И знакомство наше случайно вышло. В театре рядом сидели. Он не на сцену – на меня смотрел. Видела – и нравилось. Это всем нравится. Так ведь?..
Я утвердительно покачал головой.
Пока одевалась – исчез. Бог с ним. Вышла, а он стоит под фонарем и ждет меня. Сильно бледный, подобно бумаге, только глаза, как кляксы, расплылись. От страха, что ли?
Топтался он, топтался около меня и решился наконец, будто с кручи в холодную воду бросился:
– Василий я. Проводить-то можно?
Шел всю дорогу молча, спотыкался, густо краснел – вот как нашаливший мальчишка, которого ведут в учительскую.
– Бегите-ка вы домой, – сказала я ему у калитки, – вас, небось, маменька заждалась.
Он не возразил, покорно потоптался на месте, пытаясь что-то сказать, но не решился и ушел.
И я тут же забыла о нем. Не задел душу. Да и ничем ведь не обязана была ему. Ничего не обещала. Таких знакомств мало ли было?..
Старуха замолчала и бросила на меня быстрый взгляд. Чисто выскребла палочкой трубку, зарядила ее новой щепоткой табака, пробормотала:
– Я тебе все, как было, говорю. Без прикрасы.
И, усмехнувшись, созналась:
– Охота иногда подмалевать прошлое, красивей сделать. Только ни к чему теперь... Ну, вот – о чем я тебе говорила? Ушел он, Васенька, а через неделю выхожу из дома – стоит у калитки, замерз сильно. Долго, верно, стоял, дожидался.
Заспешил навстречу мне, стал колом – и ни слова,
Я спрашиваю:
– И долго перемалчиваться будем?
Он даже испугался:
– Нет, что вы! Я вас повидать пришел.
– Глядите. Мне не жалко.
Я, понятно, играла. Совсем не шел мне в сердце этот Васенька, неприметный видом, какой-нибудь малый служащий или техник на заводе.
Рассказчица посмотрела на меня и прихмурила глаза:
– Ты головой не качай. Мне не чин нужен был, не богатство. Но так думаю: дуракам везет только в поговорках. В жизни удача – умным и волевым людям.
Она внезапно рассмеялась:
– Видишь, – блузка пролиняла насквозь, и некрасива я, как смертный грех. А ведь любили меня, до беспамятства даже. И никто не сказал мне: ветром служишь – дымом заплатят. А своего ума не хватило. Но об этом после...
Она неловко поправила блузку под ватником, и я заметил, что пальцы у нее дрожат.
– Широко я жила, бездумно, – продолжала женщина рассказ. – Где-то у края города копал кто-то котлованы под домну, охал, обрушивая скалы, динамит, и кто-то с кем-то соревновался за индустрию и собирался потягаться с Америкой. И все шло мимо меня, и было мне оно не то, что чужое, а вот такое, без чего просто можно прожить.
Отец мой и мама в ту пору уже старичками глядели, и была у них такая мысль: хоть и помучились на своем веку – не беда; пусть дочь поживет себе в утеху. И баловали меня безобразно, ни в чем не перечили мне и от работы заслоняли.
Ну вот, так и жила. Легко, просто. И не берегла себя. Знала: будет муж, и возьмет меня такой, какая есть, а не то многие другие переступят ему дорогу.
Веселые такие пирушки были и пикники за городом, и прогулки на лодках к зеленым глухим островкам в бескрайних наших озерах.
И сияла всей моей жизни одна мысль: не надо жалеть ласки, и тебе не пожалеют ее. А там – как бог даст.
Нет, я понимала: это не любовь. Но разве нельзя без любви? Будто уж без нее не бывает счастья?
Больше других мне нравился работник уголовного розыска Прошка Силкин, веселый красавец – русые кудряшки по всему лбу. Никогда не врал мне, что женится, а просто был счастлив со мной, и я – с ним.
Только спрашивал иногда с любопытством:
– Или мало тебе меня одного, Таня?
Я смеялась:
– Тебя неделями не бывает, Проша. За ворьем гоняешься. А мне одной никак нельзя, скука меня ест, одну.
Как-то сидели мы с ним в парке, на травке. Смеркалось. И внезапно стало плохо у меня на душе. Вот знаете – случается иногда так, будто без всякой причины.
Поглядела вокруг – и вижу: стоит за кустом Васенька, скучный такой и вялый совсем. Стоит и молчит.
Встали мы с Прошей и ушли.
Я потом еще много раз замечала: ходит за мной Васенька по пятам и глаз не сводит. И маленько жалела его, и даже хотелось, чтоб посмелей был. Только забывала быстро – не две жизни на веку все же... А с ним... какое же с ним веселье?
Старуха тяжело поднялась, заковыляла куда-то в сторону и вернулась с охапкой мелко поколотого саксаула. Со старческой аккуратностью сложила кусочки дерева в костер, села на свое место и вдруг широко развела руки:
– Васенька-то оказался не конторщик и не техник. Художник. «Ну, маляр какой-нибудь, – подумала я, – из тех, что рекламы в кино малюют».
Однажды мы с небольшой компанией уехали на остров. Прошки не было, но и без него я не скучала. Пели песенки под гитару, играли в фантики и целовались.
И видим внезапно: лодка к острову едет. Я подумала: Проша.
Оказалось, нет: Васенька пожаловал. Выскочил из лодки – и прямо ко мне. Вид у него такой, точно перед казнью проститься пришел.
Стал около меня бледный, глаза, представь себе, жаром горят. Говорит:
– Мне с вами, Таня, без посторонних говорить надо.
– А тут все свои. Говорите здесь.
– Хорошо, – отвечает, и еще больше побледнел. – Вот что я вам скажу, Таня: пойдете замуж? А теперь жду ваш ответ.
Я была в ту пору бездумно счастлива, а когда счастья много – оно дешево. И еще: не умела говорить людям худое мягко, чтоб не ранить, не рвать душу.
Васенька выслушал отказ, покорно покачал головой, сел в лодку и уехал.
Шли года. Старики мои умерли, и никто не подсказал: подумай о семье. Никто не попрекнул бездельем, не выругал: время-то потом не повернешь назад.
Я жила нескучно и не замечала, как старею. Все еще чувствовала себя девочкой, а время, будто крот, слепо делало свое дело, как оно делало его тыщу лет назад и будет делать тыщу лет спустя.
Старуха невесело ухмыльнулась:
– Ну, это я тебя вроде разжалобить хочу. На слезное потянуло...
– Да нет, отчего ж? Продолжайте.
– Ладно уж, дотяну до конца. В ту пору, о которой речь, мне было уже далеко за тридцать. Растолстела, красоту свою распылила по мелочи. И не замечала ведь ничего!
По-прежнему вкалывала высокие костяные гребни в косы, одевала короткие платья, но однажды увидела в большом зеркале глупую и надменную бабу – и охнула, ей богу!
Да и мужики-то от меня отстали. Прошка давно оженился, отвернул от компании, да и все другие сверстники были женаты.
Скажу тебе коротко: заторопилась я, искала себе мужа, сначала хорошего, а потом – какого-нибудь. И не нашла. Что делать?
И тогда вот вспомнила о Васеньке и ухватилась за эту память. Ведь он один любил истинно – и не забудет меня!
Где же искать его? Может, там, где продают картины?
В художественном салоне сказали: уехал в Москву. И добавили, что скоро вернется. Не потому, что семья ждет – нет семьи, а потому, что срочная работа.