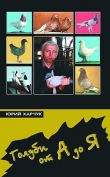Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
ПРИГОВОРЕН К РАССТРЕЛУ
Гвардейцы шли на Ростов от Ольгинской. Все кругом свистело и ухало, скрежетало и выло, будто все черти и ведьмы собрались сейчас в Придонье на свой шабаш.
В короткие часы отдыха и забытья мне снился Ростов. Я родился в этом городе и пусть прожил в нем совсем мало – свой начальный год или два, – он навсегда остался в моем сердце родиной, близким душе и уму местом на необъятной земле.
Я видел во сне его забрызганные солнцем улицы, слышал быстрый говорок южан, точно не было сейчас страшной опустошительной войны, зимы, свиста бомб над головой.
Ну и что ж, что увезли меня отец с матерью давным-давно отсюда, и я совсем не помнил облика моей родины. Но мне казалось, что я все отлично сохранил в памяти и, конечно же, узнаю те дома и переулки, которые впервые увидел на двадцатом месяце своей жизни.
И оттого так тянуло и гнало меня какое-то сладкое чувство в этот город. Впервые, может быть, за долгие годы войны я забыл и о пулях, и о бомбах, и о граде осколков, которые то и дело визжат над головой фронтовика.
Подговорил знакомого танкиста и залез на броню грузного, но маневренного танка «34», потому что должен был, ясно же, войти в родной город с самыми первыми солдатами своих войск.
«Тридцатьчетверки» и тяжелые танки «КВ» пошли в атаку на рассвете, раскидывая гусеницами куски льда и снега. Меня швыряло и трясло на машине так сильно, что я боялся, как бы не сорваться с брони.
В пяти километрах от города над танками повисли бомбардировщики с крестами. «Юнкерсы-88», «хейнкели» и «дорнье», завывая, сбрасывали на нас бомбы крупных калибров, и проклятый привкус сгоревшей взрывчатки забивал нам всем рот и легкие.
Я вцепился грязными пальцами с обломанными ногтями в стальной трос, прикрученный к броне, и кричал в беспамятстве:
– Даешь Ростов!
Но даже это состояние чрезвычайного возбуждения не помешало мне в какой-то миг заметить, как от немецкого пикировщика, залетавшего сбоку, тяжелыми каплями ртути оторвались бомбы и косо пошли на нас.
И безошибочным чутьем, обостренным за долгие годы войны, понял: это – мои.
Мне показалось, что я увидел эти бомбы лицом к лицу. У них были чугунные бессмысленные рожи, вытянутые и злобные, какие только бывают в тяжких дурных снах.
Тогда я сказал себе: «Ну, это все. Конец».
И в то же мгновение провалился в черную теплую яму, сердце рванулось куда-то к горлу и остановилось...
* * *
Очнулся оттого, что меня сильно трясло и сверх меры болели руки, ноги, все тело.
В голову пришла очень странная и, наверно, смешная мысль: «Ну, посмотрим, какие порядки на небе».
Но тут услышал украинскую речь, потом крепкое русское слово и понял, что я, слава богу, еще на земле. Среди своих.
Прямо перед моими глазами покачивалась широкая спина возницы. Потемневший дубленый полушубок крупно вздрагивал всякий раз, когда повозка одолевала рытвину или выбоину военной дороги.
Рядом с телегой шел еще человек, и у него был точно такой же обожженный у костров и почерневший полушубок работяги-фронтовика.
Я давно уже не испытывал такой бурной и гордой радости, как в эту минуту. Широко раскрывал рот от беззвучного смеха и, кажется, плакал от радости. Конечно, был счастлив, что остался живой, но не это главное. Боже мой, сколько раз в ночной черноте, в сером сумраке предрассветья думал каждый из нас о ране на поле боя, о той ужасной, обессиливающей ране, которая может завести в плен. Все мы молча помнили о возможности такой минуты, и каждый прикидывал в уме, что он сделает в эти последние мгновения своей жизни. Но мы еще знали с холодной отчетливостью, что на войне бессчетно много несчастных обстоятельств, при которых плен все-таки неминуем. Что же тогда?
И вот сейчас я беззвучно смеялся от счастья, что ничего подобного не случилось и рядом со мной родные мои, милые мои русские люди.
– Пить! – сказал я солдатам. – Пить, братцы!
Тот, который шел рядом с повозкой, молча отстегнул от пояса флягу и протянул мне.
Сначала меня немного обидело это равнодушие. Но тут же стала смешна обида.
В самом деле! Сколько мы повидали на своем веку смертей и сколько раз видели возвращение к жизни тех, которых мгновенно похоронили в своем сознании после бомбежки или артобстрела... Нет, это не равнодушие и не черствость. Я глубоко убежден, – это самооборона солдата от бесконечных ужасов войны. Не отгородись фронтовик от всего этого внешней коркой равнодушия, подчеркнутым спокойствием или немудрой шуткой, – и невозможно тогда станет ему жить страшной нечеловеческой жизнью на войне.
Забирая у меня пустую фляжку, пеший сказал:
– Город – вот он, близко. Там совсем в память придешь.
На окраинной разбитой уличке солдаты помогли мне сойти с телеги, завели в первый же двор, где сиротливо сутулились изломанные и заметенные снегом яблоньки.
Похлопав меня на прощание по спине, солдаты сказали:
– Не твой черед помирать. Выдюжишь. Я попросил у них сказать свои имена.
Украинец покрутил обкуренные, мокрые от пота усы, проворчал:
– Старый богато знаэ, а ще бильше забув. – И добавил, усмехаясь: – Лихо до нас бижыть бигом, а вид нас навкарачкы лизе...
Я лег на спину возле полумертвых яблонек и закрыл глаза. Прямо перед лицом пылали какие-то ржаво-красные полосы, круги и спирали. Сердце прыгало в груди без всякого порядка, и я поспешил открыть глаза.
Рядом со мной на пенечке сидела, как мне показалось, голенастая девчонка лет тринадцати, а рядом с ней стоял, опершись на палку, невысокий старый человек с мутными усталыми глазами, как будто бы истерзанными болью.
– Курить, небось, желаете? – спросил мужчина и полез за кисетом. Свернув цигарку, он поджег табак и отдал мне папиросу. – Нате – подымите. Хорошо помогает.
Потом он посмотрел на меня жадным взглядом человека, который не совсем доверяет своему зрению.
– Значит, гвардеец будете? – зачем-то спросил он, нервно покашливая. – Ну, спасибо вам.
Я, конечно, понял, к кому относятся эти слова благодарности, и все же сильно смутился. Мне, как и каждому бойцу, было всегда как-то неловко, что ли, слушать такую похвалу в свой адрес, похвалу, которая относилась ко всей армии, ко всей Родине. Было такое ощущение, будто мы берем на себя незаслуженно часть той огромной славы, которая навеки осенила наши знамена.
Может быть, человек понял эти мои мысли.
– Вот смотрю на вас и не верю, что свои пришли. Вы – первый свой, которого со звездой вижу. Потому и все сердечные слова – вам.
Помолчав, он спросил:
– На родине у вас не знают – живы ли, нет ли?
Я заметил, что родился в Ростове.
Мужчина широко открыл глаза, всплеснул руками и закричал девочке, будто она могла его не услышать:
– Маша, беги на сеновал! Беги же быстрей! Постели там!
Девочка медленно поднялась со своего места и направилась в конец двора.
– Ах ты, господи боже мой! – быстро говорил мужчина. – Ведь вы ж земляк. Вы ж навек запомните, как вас встречал родной город! Ах ты, беда какая!
Тут же он пояснил:
– Нету у нас ничего. Ни тулупчика, ни еды. И домик немцы спалили. Вот же горе...
Он помог мне подняться на сеновал, и я вскоре заснул тревожным и мутным сном. Очнувшись, долго рассматривал яркие низкие звезды в дырах разрушенной крыши и неожиданно вздрогнул, услышав короткий вздох девочки.
Она стояла в дверях сарая, почти не видная в сумерках южной зимней ночи.
– Отчего же не в постели? – спросил я ее. – Теперь свои в городе, можно спокойно спать.
Она помолчала, потом вздохнула еще раз и сказала хриплым, будто простуженным голосом:
– Братку у меня убили. Немяки.
Смутившись, я поспешил отвести разговор в сторону:
– А это, наверно, твой папа? Он ведь спит?
– Это не папа. Это учитель наш, Аркадий Егорыч.
Она долго смотрела на меня невидящими глазами и чуть грубовато спросила.
– А вам не интересно знать, как братку кончали?
Мне кажется, я понял ее. В своем, совсем еще чистом возрасте она успела перенести столько взрослой беды и горя, что их с избытком хватило бы не одному пожившему человеку. И вот пришли свои люди, свои войска, – и первый человек, которого она так ждала, чтобы рассказать о своем горе, – не интересуется им.
– А как же, – сказал я торопливо, – это мне надо знать. Только я думал – тебе трудно об этом говорить. Что ж, расскажи, пожалуйста.
В эту минуту за стеной сарая раздались медленные грузные шаги, прозвучал кашель, и у двери вырос невысокий человек. Даже трудно было понять, отчего у него, низкорослого, такая грузная походка.
Он снял шапку и стал утирать пот на лбу. Лунный свет тускло мерцал на гладкой коже его головы, а глаза были темные и бездонные, будто зрачки ушли на большую глубину и не стали видны.
– Ах, коза! – вяло сказал учитель, становясь рядом с Машей. – Я ее по всему двору ищу, с ног сбился.
Это, верно, было смешно – «сбиться с ног» в собственном маленьком дворике, но столько усталости слышалось в словах человека, что я и не подумал улыбнуться. Несомненно, Аркадий Егорович очень беспокоился за девочку; видно, у самого́ пошаливало сердце, и не спалось, потому и пришел он сюда – на слово негромкого разговора.
Маша нагребла сена, устроила из него валик и кивнула учителю:
– Сядьте, Аркадий Егорыч. Вам тут мягко будет.
И пояснила мне:
– Аркадий Егорыч в блиндаже печечку лепит. А то сыро. А здесь тоже жить холодно.
Мы все несколько секунд сидели молча, и в темноте багряными искорками потрескивали цигарки. Учитель дышал тяжко, точно ему не хватало воздуха, потирал лысую голову мякотью ладони, и кожа еле слышно шуршала от прикосновения его грубоватых маленьких рук.
Потом он произнес:
– Ты, кажется, хотела рассказать, Маша, как погиб Метликин. Я тоже послушаю.
Я отметил про себя, что Аркадий Егорыч назвал мальчика по фамилии, как называют взрослых или солдат. И от этого сразу проникся уважением к человеку, о боевом подвиге которого пойдет речь. Что мне расскажут о подвиге – я не сомневался.
Девочка положила большие кисти рук на колени, чуть наклонила тело вперед, будто ей в лицо дул сильный ветер. Казалось, ее глазам виделись в темноте недальние страшные дни.
Аркадий Егорович изредка вставлял в ее рассказ фразу, сообщал факты, которых Маша не могла знать или о которых забыла. И вот так – вдвоем – они передали мне всю историю о Вите Метликине, погибшем за свою негромкую веру в счастье человека.
* * *
Полковник пехоты Курт Вагнер был, вероятно, не злой офицер. Во всяком случае, он верил, что любит детей, природу, искусство и умеет извлекать из этой любви свою долю наслаждения. Пока другие офицеры бродили по поверженному Ростову в поисках водки и хорошеньких женщин, Вагнер свез в свою квартиру полтора десятка картин маслом, множество бронзы и фарфора.
Среди картин были вполне приличные полотна, и полковник уверял друзей, что несколько видов моря принадлежат кисти знаменитого живописца Айвазовского. Целыми ночами, при свете тусклой электрической лампочки, питавшейся от трофейного русского движка, Вагнер аккуратно вырезал полотна из рам, сворачивал в трубки и складывал в углу своей спальни. Он надеялся переправить их с попутной оказией к себе, в Дрезден.
От размышлений Вагнера оторвал обер-лейтенант Саксе. Он вошел в комнату без стука, очень бледный и сказал, что на город идут три волны бомбардировщиков. Надо пойти в убежище. Его вырыли еще русские во дворе. Блиндаж с девятью накатами бревен – вполне безопасное укрытие, и Саксе просит своего полковника немедленно спуститься вниз.
– Хорошо, Саксе, – добродушно согласился полковник, – я пойду. Как вы находите это полотно?
Саксе метнул взгляд на картину, пробормотал что-то, похожее сразу и на «зер гут» и на «майн готт!»[36]36
3ер гут – очень хорошо, майн готт! – мой бог! (нем.).
[Закрыть], и торопливо вышел во двор.
И в тот же миг землю закачало от бомб. Они рвались пока где-то на северной окраине, но, вероятно, это были очень крупные бомбы: даже здесь, на другом конце города, пересыхало в горле.
Вагнер почувствовал глухое раздражение. «Невозможные люди!» Это определение, разумеется, относилось к русским.
В блиндаже Саксе посветил фонариком, и луч света неожиданно выхватил из темноты сгорбленные фигуры людей. Обер-лейтенант схватился за парабеллум, но Вагнер шутливо заметил ему:
– Вы стали пугливы и нервны, Саксе, как девочка. Это – только дети и старик.
Саксе пошарил светом по фигурам русских, и оба офицера увидели их серые недобрые лица. У старого человека были усталые больные глаза, гладкий лысый череп, торопливо, наискось прикрытый фуражкой, и маленькие огрубевшие руки интеллигента.
Девочка – ей было, вероятно, немногим больше десяти лет – смотрела тоскливо, с боязнью, будто увидела перед собой сразу всех леших и людоедов из своих сказок. Ее серые глаза поминутно наполнялись слезами, губы вздрагивали, обнажая белые ровные зубы, бровки ломались от страха.
Зато мальчик был хмур и спокоен. Он удивительно походил на сестру: такой же прямой красивый нос, мягкие русые волосы, стекавшие на глаза, чуть выдвинутый вперед упрямый подбородок.
– Вон! – резко сказал Саксе и вздрогнул: наверху глухо охнули взрывы, и с потолка посыпался песок и упали камешки.
Мальчик и девочка сейчас же поднялись, но старик удержал их за руки. Он недоуменно посмотрел на офицера.
– Нет, зачем же, Саксе? – вяло улыбаясь, пробормотал Вагнер. – Они мне не мешают. Вы кто такие?
– Это – сироты, – ответил Аркадий Егорович. – Фамилия Метликины. Отца нет, мать осколком убило. А я, гражданин полковник, – учитель их. Татарников Аркадий Егорович.
– Господин полковник, – поправил Саксе и зло посмотрел на низкорослого учителя. – Господин – понимаете?
– Отчего же, понимаю, обер-лейтенант.
– Господин обер-лейтенант! – закричал Саксе, но, взглянув на полковника, сдержался. Вагнер, как показалось офицеру, мучительно прислушивался к тому, что творилось на земле.
Воспользовавшись этим, Саксе подтолкнул русских к выходу и, закрыв за ними дверь, подошел к своему шефу.
И оба они застыли, боясь дышать и моля бога, чтобы эта свирепая бомбежка не стоила им жизни.
* * *
Аркадий Егорович Татарников был из той породы российских учителей, для которых работа с детьми являлась и наградой и наслаждением. В школу Аркадий Егорович всегда надевал лучший костюм, будто шел по меньшей мере на свадьбу.
Уже старик, он глубоко чтил учителей своего детства, отлично помнил, – кто как из них говорил, кто что любил, у кого какой характер.
Татарников был совершенно убежден, что учителем надо родиться, что талант педагога так же редок и важен, как талант поэта, и так же огромно влияет на умы и души людей.
Вероятно, поэтому Аркадий Егорович считал просто невозможным учить детей только одному своему узкому предмету. И он с равным увлечением рассказывал детям и о литературе, и о птицах, и о тракторах, и о том, из чего делают железо, словом, о всем, что знал сам.
Однажды в учительскую к Аркадию Егоровичу пришла Пелагея Тарасовна Метликина, мать Вити и Маши. Это была худая и очень нервная женщина с серыми запавшими глазами; и в них навеки, кажется, затерялся какой-то главный вопрос, на который вдова не могла найти ответа.
Муж Пелагеи Тарасовны погиб, переправляясь зимой через реку Вуоксу. Река почему-то не замерзла, свинцовые волны бешено неслись в крутых берегах, и батальон замялся на переправе, неся большие потери. Ночь то и дело разрывали вспышки ракет.
Тогда Софрон Семенович Метликин встал со снега и медленно пошел к берегу. На глазах у противника он столкнул в воду небольшой плотик и, загребая самодельным веслом, поплыл на тот берег.
И весь батальон, будто ему стало стыдно своей нерешительности, бросился за младшим комвзвода Метликиным.
Утром, уже на северном берегу реки, бойцы батальона выловили негнущееся тело Софрона Семеновича и похоронили его в каменной от мороза земле.
Один поэт, тоже солдат, написал о Метликине стихи и напечатал их в армейской газете «Во славу Родины». Витя хотел купить эту газету, но оказалось, что военные газеты не продаются.
...Пелагея Тарасовна пришла к Татарникову с жалобой. Сетовала она на Витю, который с недавних пор попал под влияние улицы. Он связался с какими-то беспутными мальчишками, построил себе во дворе деревянную голубятню и завел птиц. Он тратит на них деньги, которых всегда не хватает в доме, отбивается от учебы. Пелагея Тарасовна не раз заговаривала с ним об этом, но учитель, наверно, знает, какой невозможный характер у ее сына. Если он заупрямится, его ничем не переубедишь.
Аркадий Егорович с удивлением посмотрел на Витину мать. «Странно! Витя настойчив и последователен, когда он делает хорошее дело. «Упрямый» – это другое слово. Это когда делают дурное. А когда делают доброе дело, – то это именно «настойчивый».
– Вы полагаете, голуби – это плохо? – спросил Аркадий Егорович, усадив взволнованную женщину на диван. – Отчего же?
– Боже мой! Вы еще спрашиваете! – всплеснула та руками. – Да узнайте у любой матери – почему? Ведь это же такое сильное увлечение, что они готовы забыть и школу, и дом, и еду. Так, чего доброго, и курить научатся!
Аркадий Егорович взглянул на Метликину и внезапно улыбнулся. «Странная логика у иных матерей! Почему – курить? Нет, тут что-то не так».
Он попытался объяснить женщине, что дети на всей земле возятся с голубями, и от этого никому нет худа. Сам Татарников, если угодно знать его мнение, полагает, что эта любовь благотворно действует на мальчишек. Она помогает им многое видеть, понимать законы птичьей жизни и, значит, в какой-то мере жизни вообще. Она учит детей ценить красоту голубей, проникать в тайны полета и в тайны пера. Короче говоря, учитель может сообщить уважаемой Пелагее Тарасовне, что он сам до девятнадцати лет держал птиц.
– Уму непостижимо! – растерялась женщина. – Ведь вы поймите, Аркадий Егорович, что он дома-то совсем не бывает. Кидает своих птиц из всех окрестных сел. И из Ольгинской бросал, и из Аксайской, и с Зеленого острова. Чуть в Батайск не ушел, да я, слава богу, поймала его. Ведь он так все подошвы на ботинках стопчет.
– Пусть топчет! – улыбнулся учитель. – Мускулы крепче будут. Не вредное для мужчины дело.
Витина мать молча сидела на диване несколько секунд, потом встала и заплакала.
Учитель растерялся от этих слез. Он, будто девочку, успокаивал Метликину и все говорил ей:
– Да ну, перестаньте! Что вы! Нельзя так!
И злился на себя, что не может придумать, кроме этих непременных фраз, ничего путного.
Женщина плакала и говорила сквозь слезы, что ей очень трудно одной, что она хотела бы воспитать сына достойным памяти отца, что такой понимающий и уважаемый человек, как Аркадий Егорович, ничем ей, оказывается, не может помочь.
Аркадий Егорович пообещал женщине наведать Витю дома.
Татарников появился в небольшой квартире Метликиных в следующее воскресенье и, прежде чем выпить чашку чая, предложенную хозяйкой, пошел с мальчиком во двор – посмотреть голубей.
Совершенно неожиданно для старика, у Вити оказались превосходные птицы. Пара черно-пегих русских турманов, два желтых гонных и четыре синих почтаря могли составить имя и взрослому голубятнику.
– Где ж ты столько денег взял? – подивился учитель.
– А очень просто! – сказал мальчик. – Кому дрова рубил, кому огороды поливал. И еще на мороженое мама давала, а я мороженое не люблю!
Сказав это, Витя облизнулся, и Аркадий Егорович с уважением подумал о мужестве мальчишки, вычеркнувшего из своего небогатого детства такое удовольствие.
Учителю всегда было интересно знать в жизни, кто, что и почему любит? И как сильно горит костерок этой любви? Не рассыплется ли она истлевшим углем от маленьких толчков жизни? И оттого спросил Витю:
– А что в них, в птицах, хорошего? Ты-то как думаешь?
Витя несколько секунд смотрел исподлобья на Аркадия Егоровича, будто чувствовал себя неловко, что учитель задает такой чудно́й вопрос. Чуть щурясь и покусывая тонкие губы, Метликин пояснил:
– От голубя нету мяса или чего еще. А все равно птицу кругом держат. Значит, не зря.
Татарников понял мальчика. Витя сам еще твердо не знал, за что ценить голубей, но, безотчетно любя птицу, опирался на вековечную привязанность людей к ней. Он, вероятно, не знал, даже, наверно, не знал, что голубь был зна́ком жизни, воды, мира и любви у множества народов, что голубка, свившая гнездо в шлеме Марса, помешала этому древнему богу отправиться в боевой поход. Просто Витя пока видел в голубе красоту и нежность, его близость к синему небу, его привязанность к дому, и, конечно же, гордился, что это негромкое счастье принадлежит ему – просто мальчишке с городской окраины.
– Ты, пожалуй, прав, Витя, – сказал Аркадий Егорович, не столько беседуя с мальчиком, сколько отвечая своим мыслям. – Я не вижу никакого повода расставаться с голубями. Пойдем к маме.
Пока они шли в комнату, Аркадий Егорович спросил:
– А отчего ты маме плохо помогаешь? Ты ж один мужчина в доме.
Мальчик бросил удивленный взгляд на учителя и ничего не ответил. Уже собираясь открыть дверь, внезапно повернулся к Аркадию Егоровичу и сказал, прямо смотря учителю в глаза:
– Я знаю, маме тяжело. И еще знаю: про голубятников говорят всякое разные старушки. А мне, может, без птиц скучно жить. Это она тоже пусть понимает.
От этих внезапных и очень серьезных слов у старика запершило в горле и руки мелко задрожали, как от сильной усталости.
Мать, увидев входящих в комнату сына и учителя, бросила на Аркадия Егоровича быстрый и тревожный взгляд. Татарникову стало неприятно от этого взгляда. Как будто женщина хотела спросить этим взглядом: «Ну как, обломали вы ему его глупые мысли?»
Все выпили по чашке чаю, и Аркадий Егорович сказал как можно спокойнее:
– Очень хорошие у вашего сына птицы. Мне даже завидно, право...
Пелагея Тарасовна болезненно заморгала глазами и спросила не совсем впопад:
– Вы тоже так считаете?
Отхлебывая чай с блюдечка, Аркадий Егорович поймал Витин взгляд и кивнул мальчику на дверь.
– Я пойду, мам, навоз на огород покидаю, – промолвил Витя, поднимаясь.
Когда за ним затворилась дверь, Аркадий Егорович повернулся к Метликиной и сказал, хмуро потирая щеки:
– У мальчика нет отца, Пелагея Тарасовна... А вы еще хотите обворовать его детство.
Метликина заплакала, а учитель неохотно отхлебывал чай с блюдечка и говорил:
– Хороший, работящий мальчик. Учится, конечно, средне. Что же делать? Отца нет, и часть отцовой работы тоже на него падает. А он – мальчишка, и ему свой возраст забывать нельзя. Поймите его, пожалуйста.
Пелагея Тарасовна вытерла ребром ладони слезы, отозвалась глухо:
– А кто меня поймет?.. Но если вы так настаиваете, Аркадий Егорович, то пусть он водится с голубями.
– Пусть.
Дело было не только в том, что слова учителя очень уж убедили женщину. Нет, просто она привыкла в жизни, чтоб был в доме мужчина, который всегда брал на себя решение и ответственность за самые важные вопросы семьи. И вот теперь тоже мужчина, уважаемый человек, сказал свое слово и, выходит, принял на плечи часть тяжкого груза.
Проводив учителя, Метликина вышла в огород и несколько минут помогала Вите, потом заметила:
– Пойди, сынок, поиграй или с голубями поводись. Воскресенье ведь.
– Навоз перетаскаю – тогда, – ответил сын, и они вдвоем, дружно стали возиться у себя в маленьком дворике.
* * *
Немиы заплатили за Ростов реками своей крови. Город дрался за жизнь и честь с таким злым упорством, с таким отчаянным мужеством, которое можно было сломить, только изойдя кровью и заменив испепеленные немецкие танки и дивизии новыми.
Улицы бомбили бессмысленно и свирепо. Почти весь центр обрушился, похоронив под своими обломками, без разбора, и женщин, и детей, и солдат.
Одна из таких бомбежек застала Пелагею Тарасовну на улице. Прямо над головой заныли, завизжали мелкие бомбы. И почти тотчас по каменным стенам, по асфальту тротуара, по железным крышам заметались осколки, и все вокруг покрылось страшными рваными язвами.
Потом налетела новая волна «юнкерсов», и на улице появилась огромная, как кратер, яма, покрытая серой и красной пылью.
Вите сказали о несчастье. Он кинулся на улицу, не обращая внимания на рев и свист бомбардировщиков, на злобное вытье осколков, и бежал к центру города почти без памяти.
Он нашел улицу, о которой ему сказали, излазил все кругом, но не увидел матери.
Вернувшись домой, отыскал в сарае смертельно перепуганную сестру и сказал жестким скрипучим голосом:
– Ну вот, Маша, уехала наша мама к тетке Авдотье. Знаешь, такая тетка есть у нас в Калаче... Вот... и не реви...
И сел, судорожно сцепив руки на коленях, прямо в серую пыль двора.
На другой день Аркадий Егорович собрал узелок с бельем, хлебом и луком, заколотил доской Свою комнату и перешел к Метликиным. Жену Татарников похоронил давно, а два его взрослых сына дрались с немцами где-то в Заполярье.
Старик и дети стали жить вместе.
* * *
Полковник Курт Вагнер не страдал тщеславием. Он довольно отчетливо помнил прошлую мировую войну, вечный страх, который испытывали немецкие солдаты на Украине, и не желал подвергать себя риску. Вместе с Саксе Вагнер занял маленький домик, где жили Метликины. Метликиных выгнали в сарай.
Здесь, на окраине, было меньше этажей и больше простора. Следовательно, тут сложнее выстрелить ему, Вагнеру, в спину или запустить из чердака гранатой.
Кроме того, Вагнер надеялся, что русские не будут бомбить окраины.
Во дворе сохранился сносный блиндаж, и туда можно было спрятаться, если бы русским все-таки взбрело в голову бомбить этот район.
Обер-лейтенант Саксе, подавший первым эту мысль, полагал, что осторожность – вполне естественная черта в тактике и стратегии немецкого военного гения.
Так, празднуя труса и прикрывая трусость разными учеными словами, оба офицера обосновались в доме Метликиных.
Витя ходил злой, как черт, часто облизывал сохнущие губы и говорил сестре:
– Я, Маш, этого жиряка вилой проткну.
И показывал глазами на Вагнера.
Маша исподлобья смотрела на брата и молчала.
По ночам, когда холод тревожил девочку, она спрашивала:
– Вить, а чего они, немяки, нас прогнали? А чего наши их не победят?
– Победят, – твердо отвечал Витя сестре, – только потерпеть немного надо...
Помолчав, подумав, добавлял, – не столько сестре, сколько себе:
– Конечно же, победят. Я вот и голубятню даже не убираю. Ты же сама видишь...
Девочка мелко дрожала от холода и кивала головой брату.
Вагнер и Саксе, казалось, не обращали внимания на старика и детей. Кончив служебные дела, немцы садились за столик около блиндажа и, посматривая на небо, беседовали о скорой победе и о семьях.
Обер-лейтенант Саксе занимал в штабе дивизии ничтожную должность, и Вагнер никогда не стал бы жить бок о бок с этим глупым и наглым штафиркою. Но полковнику дали понять, что Саксе – человек Гиммлера, а Вагнер не имел никакого желания ссориться с гестапо.
Дивизию дислоцировали в Ростове, и ее офицерам дали понять, что им, вероятно, до конца войны не придется трогаться с места. Дел у немцев и в Ростове было по горло. То тут, то там возникали беспорядки, взлетали на воздух штабы, валились под откос эшелоны, падали под осколками и пулями солдаты рейха.
Дивизии надлежало обеспечить новый порядок в городе и в районе окрест.
На Витину голубятню и Вагнер и Саксе сначала смотрели сквозь пальцы.
Витя, боявшийся за судьбу своих любимцев, целыми днями держал птиц взаперти. Только ночью, при лунном свете, он сносил их по очереди в сарай и кормил. Днем на голубятне висел огромный железный замок с хитрым винтовым устройством.
По мере того, как фронт отдалялся от Ростова на восток, немцы вели себя все свободнее и злее.
Как-то встретив Витю во дворе, Саксе молча притянул его за ворот к себе и сказал, сухо блестя глазами:
– Партизан? Лазутчик?
– Нет, – ответил Витя, облизнув губы, – оружия нет.
– А зачем – голуби? Почта?
– Нет, – снова сказал Витя, – просто так...
– М-м-м, – морщась, пробормотал Саксе, – просто так... фриеденстаубе[37]37
Фриеденстаубе – голубь мира (нем.),
[Закрыть]?
– Просто так, – повторил Витя, – для красоты. Они от мирной жизни остались. Пусть живут.
– «Пусть живут»! – злобно узя глаза, повторил Саксе и поспешил навстречу полковнику, несшему в обнимку свернутое полотно картины. – «Красота» – по-русски – это, кажется, то же, что «красный»...
Выслушав между прочими мелочами сообщение Саксе о голубях, Вагнер чуть пожал плечами:
– Пусть себе возится. Это не мешает нам выполнять свой долг перед отечеством.
Полковник любил шутки, когда ниоткуда не грозила опасность.
Как-то Вагнер вернулся к себе бледный и трясущийся. В нескольких кварталах от дома его обстреляли из чердака, какого – он даже не успел заметить. Вагнер счастливо спасся от смертельной опасности, выскочив из машины в канаву и отутюжив ее честно животом.
Это было черт знает что! Несколько дней назад русские партизаны проникли в расположение десятой автоколонны 605-го штаба, закололи часовых и, истребив четыре десятка солдат, захватив их оружие, испарились.
Через неделю, вероятно, другая группа партизан взорвала гаубицу на 17-й линии Пролетарского района и так же бесследно исчезла.
Нет, так воевать положительно нельзя!
Саксе счел удобным напомнить полковнику о голубях мальчишки.
– Это опасно. Однажды к нам могут явиться русские. Голуби еще древним служили почтой.
Полковник нашел в себе силы улыбнуться:
– Железный крест за храбрость мне, пожалуй, не стоит давать, Саксе, – сказал он в приливе откровенности. – Но что касается вас, мой друг, то просто трусость все-таки непростительна в немце.
Полковнику казалось, что он прекрасно выразился, доказав этому дураку Саксе, что он, полковник, все же умеет держать свои нервы в кулаке.
– Я не понимаю вас, – надулся Саксе.
– Ну, хорошо: приведите мальчишку.
Витя остановился у двери, лизнул сухие губы и хмуро посмотрел на круглого низкорослого полковника.
– Значит, у тебя есть птицы, мальчик? – насколько мог дружелюбно осведомился Вагнер. – Это очень хорошо. Но тебе придется зарезать их. Весьма жаль.
Полковник развел руки и повторил:
– Весьма жаль.
– Я резать не буду, – сказал Витя. – Они никому не мешают.
– О, да, вполне возможно! – согласился Вагнер. – Я тоже ценю птиц. Но сейчас война. Сейчас нельзя. Я тебя очень прошу освободиться от голубей. Иди.
– Я резать не буду, – уходя сказал Витя и сжал зубы.
Саксе в немом удивлении посмотрел на Вагнера.
Тот, перехватив взгляд, задумчиво постучал пальцами по столу.
– Вы еще молодой человек, Саксе, и не можете знать, как бывает в жизни. А я – травленая лиса, обер-лейтенант... – В голосе полковника появились жесткие нотки. – Я не знаю, чем кончится война, Саксе. Вежливость никогда никому не вредила. Впрочем, вы знаете цену моей вежливости. Не так ли?
Бросив взгляд на злое лицо Саксе, Вагнер добавил:
– Мы могли бы сами прирезать птиц. Но у этого волчонка злое лицо. Война есть война, разумеется, но мне не нужны личные враги.