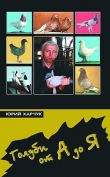Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 39 страниц)
И, подняв синюю почтовую птицу на уровень груди, я быстро разжал ладони.
Незабудка могуче всплеснула крыльями и почти отвесно ринулась вверх.
Буран, за секунду до этого уныло клевавший зерно, мгновенно преобразился. Глаза его вспыхнули, как спичечные головки, он вскинул голову и сжал тело в пружину.
Да, да, он узнал «походку» жены, он вспомнил облик голубятни, в которой появился на свет! Вся душа его, крошечная птичья душа, до краев переполнилась ощущением своей родины, своего дома, своей семьи.
В следующий миг пружина со свистом распрямилась, и белая косая молния ушла в небо.
Голубь мчался за женой во все крылья. Вот он догнал ее, и тогда в воздухе разнеслись торжествующие хлопки: птицы били перьями о перья, празднуя встречу, любовь и возвращение на родину.
Незабудка не сделала и половины круга над домом, когда длинные крылья сами собой повернули ее на север. Будто где-то в глубине сердца был скрыт у нее маленький компас, и по его стрелке направила она свой полет. Грудь в грудь, рядом с женой, несся над степью Буран.
– Ушел, – сказал тракторист и внезапно улыбнулся – вполовину весело, вполовину страдальчески. – Ушел молодчага! Не забыл жену.
А я смотрел на пару точек в дальнем синем небе и не мог скрыть своей радости и благодарности к птицам. Но, взглянув на огорченное лицо тракториста, почувствовал, что это вроде бы как-то нехорошо. Радоваться, когда человеку рядом с тобой грустно.
– Ты не печалься, – взял я парня под руку. – Вот адрес. Будешь в городе – приходи в гости. Первые же птенцы Бурана – твои.
– Ну да? – недоверчиво откликнулся он. – Это ты сейчас, сгоряча, сулишь.
– Нет, не сгоряча. Твердое слово.
Парень внезапно улыбнулся и весело потер руки:
– Честно?
– Честно.
– Ну так жди меня, через два месяца!
– Добро. Приезжай.
Я с легкой душой пожал ему руку и вышел на дорогу. «Проголосовал», уселся в мягкую кабину грузовика и покатил на юг, в город, где живут мои родичи.
За Незабудку и Бурана я не беспокоился. Они дойдут, они не могут не дойти домой.
Нет, что ни говорите, а старая любовь долго горит! Если это настоящая любовь, а не подделка.
ДОМОЙ – ИЗ ПЛЕНА
Возвращался я с охоты теплым осенним утром, и настроение было самое светлое и праздничное. Вот сейчас отдам детям гостинцы-трофеи, выкурю на балконе трубочку, поболтаю немного с голубями.
Все-таки сносно устроена земля и жить можно сносно!
Вылез я из трамвая и первым делом посмотрел на балкон. Странно! Взглянул на крышу. И забеспокоился. Только одна белая птица сидела на притолоке, над балконом.
«Не может быть, чтобы в такое утро птицы прятались в голубятне», – думал я, ускоряя шаги и мрачнея от неприятных предчувствий.
Поздоровавшись торопливо с домашними, быстро прошел на балкон и заглянул в голубятню.
Она была пуста. Только кое-где в гнездах лежали окоченевшие трупики голубят, еще совсем маленьких и голых трехдневных пичуг. Значит, взрослых голубей украли самое малое – день назад.
Жена ничего не смогла мне ответить на вопросы.
И сразу для меня теплый солнечный день посерел, и на душе стало смутно и нехорошо.
Занятый грустными мыслями, я бросил взгляд на притолоку и увидел там старого дряхлого Снежка. Перья на голубе стояли торчком, несколько рулевых было сломано. Птица зябко поводила головой.
Я любил Снежка – всегда тихую и по-своему мудрую птицу. Когда я выходил на балкон, Снежок сейчас же садился мне на руку и мягко, требовательно стучал по ней, прося пшеницы.
Я зачерпывал ладонью зерно, и голубь неторопливо склевывал его, что-то бормоча от удовольствия.
Теперь он даже не посмотрел на меня, только сильнее сгорбился, будто укорял за все, что случилось.
Я позвал его легким свистом, но и на это он не обратил внимания.
* * *
На другое утро я сказал юнгам, что снимаю голубятню, – хочу заменить ее к зиме теплым домиком. Птицы пока побудут в кухне.
Конечно, обманывал приятелей, – какая там замена! Знал: весть о краже быстро распространится по городу, меня станут навещать всякие люди, выражать сочувствие. Страх как не люблю этого.
Я знал, верил, не мог не верить в возвращение своих птиц. Сейчас они – в связках или в рывках и, значит, только через месяц могут и должны вернуться из плена. Те, которым сердце не позволит забыть родной дом.
А еще больше надеялся на весну. Ведь весной все живое сильнее тоскует по родине.
Убрав голубятню с балкона, снес ее в подвал. Теперь никто не должен тревожить меня расспросами: убрали голубятню – убрали и птиц.
Очень тоскливо и одиноко чувствовал я себя без них.
Они все были для меня, как добрые друзья, со своим лицом и достоинствами. Я составлял себе компанию много лет, помогал голубям устраивать свадебки и очень гордился внуками и правнуками своих птиц – чистотой их пера, совершенными формами, летной силой.
Каждый бывалый голубятник отбирает себе птиц по своему характеру и привязанностям. Одни держат только сильных и верных почтарей, другие – легкокрылых гонных, третьи – нежных и красивых декоративных птиц. У меня были всякие голуби, но каждый имел свою отличку, свой особый характер. Я резко отделял двух совершенно похожих пером птиц.
И вот теперь некого было поить и кормить, не с кем поболтать просто так, о чем-нибудь.
Оставалось одно – перемогаться и ждать, хотя по складу своего характера я плохо это умею.
* * *
Завывала февральская непогодь, и в воздухе плясали мутные хлопья снега.
Я каждое утро выходил на балкон, подсыпал пшеницы в кормушку и огорченно видел, что зерно не убывает. Снежок почти ничего не ел.
– Здоровьем прохудился, – говорила, качая головой, старушка-соседка, изредка выходившая на свой балкон подышать воздухом. – Горько зимой безгнездой и одинокой птице.
Конечно, – горько! Бродяга-воробей или необщительная ворона могла бы, вероятно, спокойно жить в одиночку и радоваться подножному корму. А Снежок всю жизнь был на народе, с крышей над головой, всегда ласкал голубку или принимал ее ласки. Что ему теперь – жизнь?
Известно немало случаев, когда голубь или голубка, потеряв друга, неделю не двигались с места, скучали, но потом решительно поднимались в небо и улетали искать себе новую жизнь и новое счастье.
Я втайне надеялся, что и Снежок поступит так. Пусть он родился и вырос на балконе, пусть возмужал и состарился на этом кругу, но он же видит, что здесь уже ничего нет, что кругом пусто. А рядом, на близких кругах ходят пары и стаи, там – обычная нескучная жизнь, там можно найти себе и жену и дом.
Но Снежок не улетал. Он так и жил на притолоке, с удивлением и тоской опускаясь на балкон, где была – это он, наверное, все-таки хорошо помнил – большая деревянная голубятня с его Пелагеей Аркадьевной, с Шоколадкой и Орликом и с вечно требующими еды голубятами.
С каждым днем голубь становился все плоше и плоше, а нетронутое зерно в кормушке заносило снегом.
Наконец, я подумал, что нельзя больше мириться с этим, надо поймать Снежка и насильно накормить его.
Перед сумерками я вышел на балкон, взглянул на притолоку и не нашел там Снежка.
«Неужели улетел? – подумал я, и какое-то странное чувство негромкой радости и маленькой печали потревожило душу. – Значит, спас себе жизнь, бросив родную голубятню».
И хотя я все это время желал, чтобы он так поступил, мне стало немного неприятно и грустно, как всегда бывает, когда тебя покидают близкие существа.
Может быть, еще и поэтому я решил слазать на чердак и посмотреть, не укрылся ли голубь туда от ветра и холода?
В темной тишине чердака долго светил фонариком, ощупывал балки и углы, покрытые паутиной.
И вдруг луч фонаря уперся в белый взъерошенный комок из перьев.
Это был Снежок.
«Докарала тебя судьба», – подумал я, торопливо пробираясь к голубю, чтобы отогреть и накормить его.
Но оказалось, что уже поздно и ничего сделать нельзя.
Он так и умер на чердаке нашего дома, добрая и верная душа, но не покинул родной, разгромленной и обворованной, голубятни.
* * *
А я все поджидал голубей и, похлопывая валенком о валенок, выстаивал на балконе часы... То вдруг казалось, что две почти незаметные птицы на горизонте – это Шоколадка и Одуванчик, и я даже готов был утверждать, что узнаю́ их лёт; то мерещилось, что голубь, пронесшийся над головой – это Лебедь, и он, привычно обойдя круг, сядет на балкон.
Но никого не было – ни Аркашки, ни Коленьки, ни Орлика.
И все же я ждал птиц, верил, что они не обманут меня, – ведь я так много лет дружил с ними и учил любить дом.
Холодно было на балконе, но мне хотелось самому увидеть, как, свистя крыльями, будут падать на крышу м о и голуби.
Но первая радость пришла не оттуда, откуда ее ждал.
В один из воскресных дней ко мне заглянули юнги Пашка Ким и Витька Голендухин. Хитро посматривая друг на друга, они завели какой-то пустячный разговор, а потом внезапно вытащили из-за пазух голубей.
Я посмотрел на птиц – и обомлел. В руках у мальчишек темнели Шоколадка и Одуванчик. Сестры были сильно выпачканы, похудели, но все равно я обрадовался им несказанно и готов был расцеловать мальчишек.
Юнги увидели голу́бок на базаре. Таскал их в кулаках низкорослый сморщенный мужичонка, которого раньше никогда не видела голубинка.
По сигналу мальчишек базар на время оставил свои дела. У мужичонки отняли голубей и выгнали с базара.
...Вместе с ребятами я водворил голубятню на место, посадил в нее голу́бок и, совершенно довольный, уселся на морозце.
Первые птицы вернулись из плена. Голубятня снова начинала жить!
* * *
Наступала весна. И пусть по ночам еще случались морозцы – апрелевы затеи, пусть днями выпадал дождь пополам с солнышком – все равно шла по земле весна.
Каждое утро я выходил на балкон, запахивался в шинель и упрямо ждал своих голубей.
Если они выжили, весна властно позовет их в родной дом. Голуби будут тосковать и волноваться, пока эта тоска не поднимет их ввысь и не понесет безотчетно к дому.
И я ждал, каждый день ждал, до боли утомляя глаза.
Как-то в воскресенье вышел на балкон, совершенно уверенный, что сейчас увижу в голубом небе того, кого жду. Не знаю, откуда эта уверенность, но я был убежден, что сегодня прилетит Паша – один из тех, кто родился в моей голубятне.
И когда сердце подсказало: «Сейчас он прилетит. Смотри лучше» – на востоке появилась далекая, еле видная птица.
Пусть она росла медленно, медленней, чем хотелось, я все равно знал, что это Паша.
Голубь еще только подходил к поселку, а я уже держал в ладони кроткую Пашину жену – Одуванчика, чтобы выбросить ее в воздух и осадить голубя.
Но не успел этого сделать.
Выйдя на свой круг, красно-синий почтарь со свистом кинулся к голубятне и у самого балкона выпрямил полет. В тот же миг он пробежал по моему плечу и бросился к голубке, дрожавшей от нетерпения и радости.
Я легонько выпустил жену почтаря на притолоку. Паша сейчас же устремился туда.
Что там было – и сказать трудно!
Целовались они, целовались, даже у меня терпение лопнуло.
– Послушай, Паша, – хватит!
Ночью я достал голубя из гнезда и занес в комнату.
Все маховы́е перья у Паши были совсем короткие и чистые. Значит, его долго держали в резках, потом вырвали перья.
И вот теперь, – как только отросли короткие культяпки, которые с трудом могли поднять его в воздух, – он бросился из плена на родину, где его ждали жена и друзья, первым из которых был человек.
* * *
Дичок Аркашка явился так задиристо, будто весь мир был повинен в его недавних несчастьях. Он шатался по голубятне, толкал всех, кто ему попадался под крыло, и вообще вел себя, как герой, которому почему-то не воздают положенных почестей.
Но больше всего Аркашка торчал у кормушки. Он ел почти непрерывно и живо пускал в ход длинные крылья, если кто-нибудь рисковал подойти к зерну.
Я понимал его. Для меня он всегда являлся бесценной птицей и другом. А что он такое для тонкого ценителя голубей? Глупый дикарь с длинным носом и голыми красными лапами. Только и всего.
Воры, вероятно, продали его за гроши, и какой-нибудь мальчишка, купивший эту образину, держал Аркашку в сенцах или под кроватью, не очень-то разоряясь на корм.
И теперь дичок быстро клевал пшеницу, орал на Пашу, на двух сестер, которые, конечно, не перенесли такой нужды, какой хватил он – красноногий дикарь.
Наконец Аркашка отъелся и сейчас же решил жениться. Хватит с него обид. Он хочет жить, как все, и иметь семью.
Сказано – сделано. Дикарь мелким бесом подкатился к Одуванчику, и только было начал длинную любовную речь, как рядом очутился Паша.
Дичку очень не хотелось бежать с поля боя при даме, но рассерженный почтарь совершенно не пожелал с этим считаться.
Потирая ушибленные бока, Аркашка скорехонько взобрался на крышу и там увидел Шоколадку.
Несчастная сестра Одуванчика, которую всю жизнь преследовала злая судьба, одиноко сидела у трубы и равнодушно глядела на мир.
Возле нее никого не было, и Аркаша, забыв даже причесаться и почиститься, заорал во все горло песню своих предков – скалистых голубей. Он даже не догадался, что, женившись на Шоколадке, станет свояком своему смертельному врагу Паше.
Шоколадка, у которой всегда помирали или улетали некрасивые, слабые мужья, уже давно не выбирала себе друзей. С радостной завистью посматривала она на сестру-красавицу.
В конце концов Аркашка был голубь хоть куда. Нос? Подумаешь – нос! Если хотите знать, такой нос должен только радовать – им легче кормить малышей. Лапы? Голые? Красные? Тоже не велика беда!
И Шоколадка поклонилась Аркашке и распушила хвост, доказывая этим, что ухаживания буйного дичка небезразличны ей.
Через полчаса Аркашка слетел в голубятню, растолкал птиц и с нахальным видом занял лучшее – верхнее – гнездо. Затем он пригласил туда жену, и они стали вдвоем распевать какую-то песню и греть гнездо.
И на балконе сразу стало трое счастливых: Шоколадка с Аркашкой и я.
* * *
А весна становилась старше, все зеленое кудрявилось, тянулось к солнышку, трава в лугах была туча тучей.
И постепенно в голубятне почти не осталось свободных гнезд. Птицы упорно летели из плена.
Вернулся кривой Коленька, тот, которому градиной выбило глаз, и сразу принялся устраивать себе гнездо, хотя у него и не было жены.
Много дней назад – Ранняя Весна, его жена, погибла от усталости и истощения, пробившись домой по долгой тяжкой дороге. С тех пор я не раз пытался подружить Коленьку с молодой голубкой Машей, но оба они отворачивались друг от друга.
Сейчас я одобрял заботу голубя о гнезде, надеясь, что вернется Маша, и вдовец женится на молодой голубке.
Но Маши не было.
Вечерами, выбрав минуту, я садился около голубятни и беседовал с Коленькой.
– Завесновала Маша в чужом краю, – сообщал я вдовцу, а он смотрел на меня единственным глазом, ворчал и продолжал прибирать гнездо.
Потом он плотно прижался к примятому сену и тихонько запел что-то грустное и скорбное. И мне казалось, что я понимаю его глухую жалобу.
«Где же ты, Ранняя Весна? – тихо пел Коленька. – Трудно мне жить одному без тебя...»
Когда стало совсем уже темно, я погладил Коленьку, попросил его:
– Ты же, Коленька, выкричал весь голос. Изворковался весь. Довольно, милый!
Но он не понимал меня. А весна шла по земле и исторгала из его горлышка тоскливую и неуемную песню вечной любви.
* * *
Время бежало вперед, и весна уступила место лету.
И я уже устал ждать Лебедя и Орлика и даже говорил о них иногда худо, думая, что забыли они о родном доме.
Как-то утром услышал за окном треск крыльев: кто-то из птиц ссорился.
«Что они там не поделили?».
Вышел на балкон и увидел: ходит по перилам весь белый, с круглой гордой головкой голубь, – крылья опущены, хвост трубой.
Лебедь же!
Все девушки-голубки прямо с ума посходили, даже некоторые замужние молодухи и те – нет-нет, да и поглядят на красавца, хвост веером.
Зато голуби – будь они неладны! – стенкой у дверей стали, крыльями и клювами орудуют, – не пускают – и баста!
– Ах, леший вас забери! – рассердился я. – Что же это вы товарища своего домой не пускаете?
А Лебедь то в голубятню кинется, то на крышу взлетит. Посмотрел я наверх: вон в чем дело!
Сидит у самого края писаная кралечка, черненькая, с полоской по хвосту, головка на крутой шее вздрагивает.
«Жена!».
Выходит, обручился Лебедь в чужом краю, да все равно вспомнил о родном доме и жену уговорил с ним лететь.
Захлопнул я дверку голубятни, всех голубей пособирал и в кухню отнес. «Посидите пока тут, ревнивцы несносные!».
Потом открыл дверку голубятни, и Лебедь живо залетел на полочку.
А я в окно гляжу, волнуюсь: слетит новенькая или нет?
Вот наконец осмелилась она и направилась за мужем вниз.
Только тут уж голубки шум подняли.
Взлетели Лебедь с женой на крышу, сели возле трубы рядышком и задумались.
А кругом вечерняя теплота, в голубятне малые детишки пищат, и жизнь идет своим чередом, как ей и положено.
Долго сидели Лебедь и Кралечка не двигаясь. Но вот голубь поднял голову, вытянул и сжал крылья, и мне показалось, будто Лебедя и его жену кинула в небо неведомая сила.
Ни одного круга не сделали они над домом, унеслись под облака.
Даже пера не оставил мне Лебедь на память, – ушел к новому месту, к новому дому, к новой семье.
* * *
Уплыли годы, как вешние воды, все стали старше – и люди, и голуби, и деревья, а я все не мог прогнать из памяти Орлика и никак не хотел верить, что позабыл он совсем свою родину, свой круг, свою молодость.
Ведь он же прилетал за сотни километров, по дождю и снегу, почему же теперь его нет, целых семь лет не возвращается он ко мне?
Где же ты, Орлик? Ведь исскучался я по тебе...
Нет, он вернулся бы, если б смог! Значит, не может, значит, долгие годы сидит он в резках, и кто-то бездушный, жестокий, холодный терпеливо держит его в плену.
А жизнь не может теплиться только памятью, да и память становится старше и теснее оттого, что пробиваются с ее донышка новые ростки жизни.
И вот эти росточки стали уже густой травой, и постепенно в этих зарослях потерялись очертания сильного и верного голубя Орлика.
«Верного ли?»
Над моей головой пронеслось уже много бурь, какие гремят над каждым человеком. Желтые пустыни Азии и слепящая белизна Арктики, прибрежная синева Крыма и Кавказа – все уже стало прошлым, а я еще помнил о птице, о маленькой птице, и грустил о ней.
Вот так, скучая, я сидел на балконе и глядел на птиц долгим пристальным взглядом.
На коньке красно-синий могучий почтарь ухаживал за желтой голубкой и пел ей, как умел, песню.
Нет, нет, это – не Паша, это даже не его сын! Это внук Паши, удивительно похожий на деда.
А вот голубка, – она совсем не сходна ни с кем из моих стариков, желто-рябая остроносая птица. Но все равно я знаю, что эта старушка вовсе не чужая мне, это дочь Шоколадки и Аркашки, это дитя их негромкой любви.
А вот этот огромный синий голубь на притолоке – сын Незабудки, старой и верной почтовой птицы. Как он быстро вырос, какие прекрасные крылья у этого летуна! Только почему у него такие большие стариковские наросты на клюве?
Боже мой, это же не сын Незабудки, не Вьюн! Я еще не верю в свою догадку, еще шарю глазами по крыше, по балкону, в голубятне. И вижу: вон же, на своей полочке чистится Вьюн!
Так на притолоке не он, не он, не он! Не Вьюн!
– Ну, здравствуй, Орлик! – говорю я птице на притолоке и, достав трубку, засовываю ее не тем концом в рот. – Здравствуй, старичина!
Моя старшая дочь слушает из комнаты смешные слова отца и, наверное, думает, что у него опять отчего-нибудь защемило сердце.
А я ни на кого не обращаю внимания и сосу трубку, не замечая, что она пуста, и радуюсь жизни, которая не стоит на месте.
ВЫСОКАЯ СТРАСТЬ
В детстве я не понимал отца, когда он хмуро говорил мне:
– Черт те что! У меня сложная операция, подготовиться надо, а ты на голове ходишь!
Я пожимал плечами и возражал:
– Ты не сердись, батя. И вовсе не на голове. Что же мне – не дышать теперь, что ли?
– «Не дышать»! – ворчал отец. – Куешь молотком по лбу, весь дом – вверх дном.
– У всех мальчишек голубятни – как голубятни. А у меня – каши просит. По-твоему – так и надо?
В своем мальчишеском неведении я досадовал на отца и не знал, ка́к ему нужна тишина.
И еще приходит в память вот что.
Мы много раз атаковали рощу Ухо – и путь наш лежал через большую ровную поляну, похожую на чистую скатерть. Но уже после третьей атаки скатерть эта превратилась в рваные клочья, покрытые серым и красным. Вскоре даже это – кровь и шинели убитых – было забрызгано черной гарью взрывов. Выстрелы и гуденье сомкнулись в сплошной рев.
Приказ комбата снова поднял нас в атаку, – и мы нырнули в этот рев, чтобы пробиться или упасть рядом с товарищами.
Я был тогда совсем молодой, – и добежал к окопам в роще одним из первых. Полоснул из автомата в теплую длинную тьму траншеи, спрыгнул вниз и, увидев, что там нет живых врагов, почувствовал вдруг смертельную усталость.
Комбат велел отдыхать. Я лег прямо на дно окопа, сунул автомат под голову – и тут же заснул мертво́. Над головой визжали бризантные снаряды, захлебывались в скороговорке пулеметы, ныли мины. Я ничего не слышал. Нет, не только потому, что измотали атаки, – еще и потому, что молодость непритязательна к шуму, даже если это очень неприятный шум.
Потом уже, на другой войне, мне было трудно забываться в окопе, содрогавшемся от взрывов, и я даже с завистью смотрел на мальчишек, безмятежно спавших под зверье вытье взрывчатки.
И вот теперь знаю: чем ты старше – тем больше тебе нужна тишина. Еще и потому, что с годами человеку следует думать о прошлом и будущем и делиться своим опытом с теми, кто начинает путь.
Пусть читатель не сердится на меня за это длинное вступление, – без него, может статься, не все будет понятно в той истории, которую я хочу рассказать.
Итак, вот эта история.
В небольшом дворе нашего дома – масса мальчишек и девчонок. Их так много, что даже когда одни молчат, то другие производят столько шума, что его с избытком хватает на головную боль.
Вы писали, конечно, школьные сочинения – и знаете, какая это прямо невозможная вещь – сочинять. Но в классе, на уроке, вам никто не мешает, а тут только присядешь к пишущей машинке, – слышишь под окном:
– Петьк! А Петьк! Ты – казак, я – разбойник. А?
И мальчишки начинают играть в казаков-разбойников с такой свирепостью, что карандаши у меня на столе трясутся, как в лихорадке.
Или совсем мелкие девчонки соберутся в колечко и начинают выводить дискантишками свое: про серенького козлика и каравай.
Обычно громче всех поет моя младшая дочь.
Тут уж у меня есть некоторые права, и я, высунувшись из окна, кричу ей:
– Доня! Ты б подальше куда-нибудь, право. Ну, что вам – места во дворе мало?!
Девчонки безропотно отходят на десяток шагов, опять сдвигаются в кружок – и продолжают тащить из меня душу своими козликами.
И я чувствую, как начинает ныть голова, будто ее сверлят ржавым тупым гвоздем. Можно, я вас спрашиваю, писать сочинения в таких плохих нечеловеческих условиях?
Но больше других мне досаждает Гошка и его компания.
Гошка – мой лучший друг и единомышленник. Полгода он ходил ко мне на балкон и набирался всякой премудрости. Если вам теперь понадобится купить декоративного или гонного голубя, смело обращайтесь за советом к Гошке: по этой части Гошка знает все, даже если вы покажете ему египетского смеющегося голубя или снимок дронта, жившего в древние времена на острове Маврикия.
Короче говоря, Гошка наконец объявил мне, что строит голубятню и приглашает принять участие в этом торжественном акте.
И я сам, собственными руками, ничего не подозревая, построил у себя под окнами свою беду.
Уже в следующее воскресенье – голубиный базар собирается только по воскресеньям – Гошка приобрел на рынке три пары птиц в общей сложности – на полтинник. Это были облезлые и задиристые особи, в полном соответствии с невысокой ценой.
Гошка, моментально обросший поклонниками и приятелями, уверял их, что добытые птицы – прямые потомки бельгийских почтарей и николаевских тучерезов.
Неделю у меня под окнами было сравнительно тихо. Мальчишки кричали только изредка, мирно согласуя планы приручения и облёта птиц.
Но уже в следующее воскресенье я проснулся от свирепого свиста, воплей и криков. Выглянул в окно: Гошка и его приятели гоняли птиц. К вечеру я ходил с мокрым полотенцем на голове и ругал жену за пересоленный суп.
Жена тоже сердилась и говорила, что у нее дрожат руки от бесконечного шума под окнами, – и что в таких условиях только бесчувственный робот может не пересолить суп.
Еще через неделю я обращался к дочери:
– Пойди-ка ты, доня, к Гошке – и дай ему рубль на кино. Скажи – нашла. Только обязательно – на кино. Понимаешь?
Леночка отправлялась вниз и, вернувшись, сообщала довольная:
– Гошка очень, обрадовался. У него денег на корм нету.
– Господи, какая бестолковая! – сокрушался я. – Ведь сказал: на кино.
– И я говорила – на кино, – обижалась дочь. – А он говорит – голуби лучше кино. Он знает. Он в шестом классе.
Я долго ломал себе голову – что́ делать? – и наконец нашел прекрасный выход. Выспался днем, а вечером сел за машинку и стал работать. И даже не верил – так бесшумно было кругом.
Но в это время железная крыша над головой стала греметь и вздрагивать, будто по ней топали большие африканские слоны.
– Боже мой! – воскликнула жена. – Это злоумышленники!
Я старался сильнее бить по клавишам машинки, чтоб заглушить гром на крыше. Но машинка у меня маленькая, а железо наверху скрежетало так, точно на слонов шли облавой и раздразнили до крайности.
– Я вот сейчас пойду и покажу им, этим злоумышленникам, как шуметь! – сказал я в сердцах. – Безобразие какое-то!
– Возьми хоть оружие! – взмолилась жена. – Они там тебя убить могут!
Я залез на крышу и сказал Гошке:
– Мало тебе дня, Гошка?! Ты еще ночью у меня по голове бегаешь!
– Понимаешь, тучерез один не слетает... – зашептал Гошка. – А на крыше оставить – коты съедят. Ведь сам говорил: ночью голуби ничего не видят...
– Ну да – говорил, – смутился я. – Только ты побыстрей давай.
– Антенна оборвалась, – сказал я жене, вернувшись, – так ее Кузьма Антоныч чинит.
– Смотри-ка, – удивилась жена, – такой маленький сухой старичок, а топает, как гвардия на параде.
Вот так случалось каждый день и почти каждую ночь. Жить еще было можно, но на работу, выходило, надо махнуть рукой. Я пытался бороться: привязывал даже подушку к голове, надевал зимнюю меховую шапку сушами, но свист и крики прорывались через эти ненадежные препятствия.
И тогда меня осенило.
Я спустился вниз и подошел к Гошкиной компании. Сначала она не замечала меня, увлеченная гоном птиц. Но потом Гошка подмигнул мне и сказал, улыбаясь:
– На большой палец птица. По твоим советам выбирал.
– По моим, верно, – попытался я улыбнуться. – Исключительная птица у тебя, Гошка. Что правда – то правда.
Потом я вздохнул и покачал головой.
– Что ты? – поинтересовался Гошка.
– Завидую! – сказал я со всей пылкостью человека, решившегося на отчаянный шаг. – Мне бы таких голубей.
Мальчишки прищурились. Они полагали – над ними посмеиваются.
Но я не дрогнул ни одним мускулом лица.
– Ты почем их покупал, Гошка?
– Каких – по двадцать, каких – по тридцать копеек, – как истый голубятник, соврал мальчишка. – Только теперь такие дороже. Может, даже по сорок копеек штука.
Я предложил с ледяной решимостью:
– Знаешь что? Продай мне своих птиц. По рублю за штуку хочешь? Всю голубятню куплю.
– Хе! – засмеялись мальчишки, не веря моим словам. – Шутишь, небось, дядя!
– То есть – как это шучу! – покраснел я от искреннего возмущения. – Вот вам честное слово!
На физиономии Гошки отразилась сильная борьба. Шесть рублей за птиц – такого богатства он еще не имел в своем кармане. Но мальчишке не верилось, что опытный и даже известный голубятник может купить его беспородных птиц за такую баснословную цену.
На всякий случай прижмурив глаза и иронически улыбаясь, что должно было свидетельствовать о том, что он отлично понимает шутки своего брата-голубятника, Гошка сказал:
– Ладно, только для тебя уж. Забирай по рублю.
Я дрожащими руками отсчитал деньги, сунул их обомлевшему Гошке и, запихав птиц за пазуху, побежал домой.
Вечером того же дня приехал на вокзал, нашел отходящую электричку и, увидев маленького мальчишку, отдал ему корзинку с птицами.
– Забирай, парень. Только придержи их как следует, чтоб не улетели от тебя.
Десять дней под окнами стояла неслыханная беспробудная тишина. Сначала я даже не мог работать с непривычки. Я бы даже сказал: это была громкая тишина, утомлявшая, как сильный шум. Но под конец я свыкся с ней, и работа пошла как следует.
В воскресенье сел за машинку, вставил в каретку чистый лист бумаги – и вдруг вскочил, как обожженный. Из-под окна неслись вопли и свист такой силы, будто весь двор заложил пальцы в рот.
Бегом спустился вниз и увидел: у голубятни, задрав головы, стояли Гошка и его приятели. Над ними без всякого строя, еще не привыкшие к кругу, носились птицы.
«Боже мой! – застонал я про себя. – Значит, они купили их в прошлое воскресенье!».
Увидев меня, мальчишки как по команде повернули головы, вперили в меня голубые, серые и черные глаза, сияющие невинностью, и Гошка сказал:
– Вот уж большое тебе спасибо! Я на те деньги двенадцать птиц купил. А то откуда бы у меня деньги?..
Я глотнул воздух, пробормотал: «Пожалуйста, я очень рад...» – и уныло побрел к себе на второй этаж.
Поднимаясь по лестнице, я вдруг вспомнил, что в детстве у меня вот так же купила птиц тихая красивая студентка – соседка по дому. И я тоже на вырученные деньги приобрел голубей. Не только себе, но и всем приятелям во дворе, чтоб нам веселее было гонять компанией.
От этого у меня стало полегче на душе, и я подумал, успокаивая себя: «Значит, голуби – высокая страсть, и мальчишкам без них никак невозможно.
И пока шел домой – мне это стало совершенно и окончательно ясно.
На этом я стою и теперь, даже тогда, когда у меня очень болит голова от свиста Гошки, его воплей и криков.