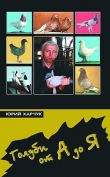Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 39 страниц)
ЧУЖИЕ ЛЮДИ
Есть дураки безобидные. Это, случается, даже терпимые люди. Они, открыв рот, слушают всякие слова, охотно кивают головой, невпопад соглашаются с каждой мыслью, спешат услужить и правому, и виноватому.
Но есть злые дураки.
Главная коренная черта злого дурака – непомерное самодовольство. Как все дураки, он скуп на мысли, но с неколебимой уверенностью изрекает истины, которым цена – медная деньга.
Возражения и чужие несходные слова такому дураку кажутся – самое малое – посягательством на его личность.
Пашка Кузьмин – злой дурак. Вероятно, поэтому его никто не зовет Павлом Гурьянычем, как и надлежит называть человека, которому за пятьдесят.
Маленький, корявый, он низко носит на плечах неподвижную черепашью голову. Узкие рыжие глаза Пашки постоянно наполнены беспокойством и в любое мгновенье готовы задымить злым огоньком.
Увидев, что кто-нибудь из завсегдатаев голубинки купил птицу, Пашка кривится и облизывает тонкие серые губы:
– Гал-лубятник тожжа! Чего взял?!
– Ну, бантовый, – неохотно откликается покупатель. – Нужен мне – и взял.
– Ххех! Бантовый! – пожимает плечиками Пашка. – Ты приди глядеть на бантовых к Кузьмину. Он тебе покажет, какой есть голубь!
Через несколько минут высокий, дрожащий от негодования голос Кузьмина слышится уже в другом конце голубинки. Пашка тычет локтем в бок невысокому старичку с голым черепом и невесомой прозрачной бородой и кричит на весь базар:
– Ить врешь! Ты Павла Кузьмина на мякине не спутаешь!
– А что мне тебя путать, – убирая Пашкин локоть, отвечает старичок. – Шли мои почтовые триста верст. Это все знают.
– Все! – хихикает Пашка. – Ты их, которые все, небось, водкой поил.
Старичок начинает сердиться:
– Ну, чего ты на меня взморщился? Сам не пью и других не пою.
– Ты-то?! – удивляется Пашка, не только лицом, но, кажется, и телом выражая ехидную усмешку. – Это верно, как сто баб нашептали.
– Конечно, не пьет, отстань, – говорит кто-нибудь из стариков Пашке. – И не путайся под ногами.
– От того и слышу, – цедит Пашка сквозь зубы явную глупость. Он не может допустить, чтоб последнее слово осталось за другими.
Устав от крика и разговоров, Кузьмин наконец подходит к своему садку и начинает торговать. Собственно, никакой торговлей он не занимается, хотя его садок полон голубей. Пашка и в этом случае просто подкармливает свое самодовольство.
Его садок, покрытый тряпицей, стоит на самом видном месте. Пашка торжественно снимает с ящика тряпку, свертывает и кладет ее в карман. Затем он циркулем раздвигает ноги и с отсутствующим видом начинает разглядывать небо.
Но это – опять поза. Глаза на его малоподвижной голове внимательно следят за всем, что делается на базаре.
В садке у Пашки жмутся друг к другу странные птицы. Чем меньше они сходны с голубями, тем торжественнее выражение на Пашкиной физиономии.
Какой-то мальчишка, округлив глаза от изумления, рассматривает в садке двух жалких пичуг глиняного цвета. Они печально держат головки на тонких слабых шеях и безучастно глядят вокруг.
– Проходи, – не поворачивая головы, говорит Пашка. – Не по карману тебе.
– Это что ж за голуби? – не то удивляясь, не то с состраданием справляется юный любитель птицы.
Пашка отвечает громко, чтоб слышал базар:
– Ххех! Темнота! Иль не видишь: японцы. Двенадцать пара. В долг не даю.
– Сколько? – пятится ошеломленный мальчишка.
Пашка брезгливо машет рукой:
– Сгинь, дай место настоящему человеку.
Еще в садке у Кузьмина сидят крошечные лупоглазые птицы, которых Пашка выдает за бельгийских почтарей, и огромные дикие сизаки. Этих хозяин аттестует драконами и утверждает, что меньше полета взять за них не может.
Никто Пашкиных голубей, разумеется, не покупает. Он это отлично знает и таскает сюда своих бедных птиц единственно ради тщеславия. Пусть все видят, какова птица у Павла Кузьмина!
Все и видят это. Но еще явственнее бросается в глаза людям сам Кузьмин. Каждому ясно: для него птица, или, скажем, собаки, или лоток со старьем на толкучке – все едино. Лишь бы попетушиться и убить время.
Пашка нигде не работает, и этот его паразитизм навлекает на честных работяг, любящих птицу, незаслуженные наветы и упреки. И оттого многим голубятникам очень хочется, проходя мимо Кузьмина, плюнуть ему в глаза. Но этого делать нельзя, да и смысла нет: Пашка, даже не сбавив высокомерия, станет утверждать, что на очи ему упала божья роса.
Приходится терпеть. И люди терпят.
* * *
Как-то ко мне зашли Колька Цыган и Филя Бесфамильный.
Они были навеселе, и я никак поначалу не мог разобраться, зачем пожаловали.
По городу о Кольке и Филе ходит дурная слава, они нигде не работают и добывают деньги на житье темными путями.
Я не люблю их, они знают это и никогда бы не пришли ко мне трезвые.
За Цыганом числится еще добрый десяток кличек, но за глаза его больше зовут – «Красавчик – да мерзавчик». Это – очень верное прозвище. У Цыгана курчавится щегольская шевелюра, и он часто поправляет ее тонкими, желтыми от курения пальцами. Разговаривая, задумчиво щурит красивые нагловатые глаза, между делом сообщает какую-нибудь гадость, кого-нибудь осмеивает или ославляет. На хорошие слова Колька заикается, а плохие знает все до единого.
Филя, наоборот, – маленький и тощенький, с лицом капуцина[26]26
Капуцины – род мелких обезьян.
[Закрыть] и осторожными движеньями кошки, шевелящей пойманную мышь. Изъясняясь, он то и дело всовывает в речь «позвольте сказать» или «простите великодушно».
Колька, войдя, кинул глазом, ловко воткнул в рот папироску и, ухмыляясь, уселся возле стола.
– Как живем?
У меня не было никакого желания вступать в разговор, очень хотелось выставить обоих непрошеных гостей за дверь. Но у каждого, наверное, бывали такие случаи, и все знают: сидишь, отвечаешь, да еще – черт за язык дернет – предложишь чаю.
– Ничего, живу, – мрачно ответил я. – Под гору.
– Дело есть, можно славно пожить, – ухмыльнулся Цыган, пуская папиросный дым колечками и стараясь колечком поменьше попасть в колечко побольше. – Станешь слушать?
Я промолчал.
– Нет, позвольте, сказать, ты выслушай, – вмешался Филя, и на его сморщенном лице появилось хитрое выражение. – У Коли планчик есть.
– Ага, – подтвердил Колька. – Заработать можно.
– Выкладывай планчик-то, – поторопил его Филя. – Человек, видишь, занятый, некогда ему, небось.
План Цыгана оказался не ахти какой затейливый. Это было всего-навсего мелкое жульничество, для которого Кольке требовался компаньон.
Сосед Кольки доменщик Гриша Рудой имеет отличную почтовую голубятню. Он страстно любит почтарей и готов биться об заклад, что его птицы обойдут любых других голубей с нагона. Вот эту его страсть и постарается использовать Цыган. Как? Очень просто.
У Кольки и у меня есть синие почтари-самцы. Оба они – одно гнездо, вывод старой почтовой пары деда Михаила. Мы приобрели их у хозяина несколько лет назад. Колькину птицу зовут неведомо почему Горбач, а моя, как известно Цыгану, называется Орлик. Братья похожи друг на друга так сильно, что самый дотошный голубятник, пожалуй, не отличит одного от другого.
Это и навело Кольку на мысль одурачить Гришу Рудого. Он, Цыган, «растревожит Гришку», всячески понося его синего почтаря, а потом заключит с раздраженным хозяином спор. Доверенным будет поручено отвезти птиц Рудого и Цыгана на дальнее расстояние. Доверенным Кольки поедет Филя.
Но это, разумеется, – не главное. Цыган явился ко мне с просьбой: «занять» ему на время Орлика. Для чего? А вот для чего. Перед отъездом доверенных Колька вручит Филе не Горбача, а удивительно похожего на него Орлика. Рассерженный Гриша Рудой, конечно, не заметит подмены, и Филя увезет к месту выброски не «игровую», а мою птицу.
Своего Горбача Колька спрячет в комнате и тихонько выпустит его через форточку за полчаса до возможного прилета гонных птиц. И Горбач, понятно, через минуту окажется на прилетной доске Колькиной голубятни.
И Гришка Рудой, посрамленный и униженный, вынужден будет выложить проигранные деньги.
Пока я слушал Цыгана, в груди у меня свертывалась какая-то пружина, и я боялся, чтоб не выскочил гвоздик, сдерживающий ее.
Но тут я подумал, что они, может быть, просто дурачат меня, – уж больно все это было мелко и подло. Может, затеяли глупую шутку? И спросил Филю:
– А если Рудой заметит подмену? Ведь тебе тогда плохо будет, Филя.
Бесфамильного разморило в теплой комнате, и он, заплетая языком, мелко усмехнулся:
– Где ему! Мы Гришку до того разогреем – аж пар с него течь будет.
Колька взглянул на меня и, видимо, заметив неладное, дернул Бесфамильного за рукав:
– Не мели, Филька! На языке мозоли натрешь.
– Можно и помолчать, – ухмыльнулся тот. – Простите великодушно.
– Все? – спросил я у обоих.
– Все.
В этой маленькой и, вероятно, нелепой истории нет никаких неожиданных поворотов. Автор не припас к концу внезапного хода, которым часто отличается новелла. Все кончилось буднично и просто.
Судите, как хотите, но только потом соседи уверяли, что я вывел Кольку и Филю во двор и треснул их по шее. И что они бежали восвояси так быстро, будто за ними гнался весь наш поселок.
Во всяком случае, я их больше не видел и в гости они ко мне не приходили.
Вы скажете, что это просто мелкие жулики, а голуби здесь ни при чем.
И я, конечно, не стану с вами спорить.
* * *
Есть разные голубятники. Одни – просто очень любят птиц, не задумываясь, откуда она, эта любовь. Другим доставляет удовольствие владеть хоть какой-нибудь живностью. Третьи – совершенно неравнодушны к красоте птиц. Четвертым красота – ничто, им – спорт. Пятые, шестые, седьмые находят в голубях свое – тоже чистое и доброе.
А есть и такие, которые и тут исхитрились найти почву для торговых операций, выпивок и шалопайства.
Этих последних – шалопаев и барышников – я не люблю. И никто не любит. Прежде всего – сама голубинка.
Вот загляните в дальний конец базара. Здесь, на ящике, сидит лохматый и грязноватый дядя. Он уже продал пяток голубей – не то ловленных, не то перекупленных, и теперь, позвякивая монетами, пристально вглядывается в соседей.
Голубинка отлично понимает этот взгляд. Дяде не терпится строи́ть. На языке выпивох «строи́ть» – сложиться втроем на бутылку водки.
К ящику подходит Ванька Филон и, вздыхая, достает из кармана деньги. Протягивает их лохматому дяде и усаживается рядом.
Наконец, появляется и третий компаньон. Вложив свою долю, он отправляется за бутылкой.
Дома пить нельзя – жены ругаются, да и денег у бездельников – кот наплакал. На базаре – дело иное: супруги сюда не пойдут, а пойдут – скандалить на людях не станут. Деньги? Деньги тут «свои, заработанные».
И вот сидят у всех на виду три пожилых шалопая и с удовольствием, даже с важностью цедят по очереди водку из горлышка.
Теперь им черт не брат, они клянут жен за скаредность, бахвалятся птицей и без устали топят персидскую княжну в набежавшей волне.
Домой идти нельзя, неприятностей не оберешься, и теперь они будут торчать здесь до конца базара.
Глядеть на них грустно и противно, да приходится.
Шалопаи и выпивохи, попадая на глаза журналистам, дают последним повод для злых нападок на голубинку. А ведь зря!
* * *
И я хочу попросить своих товарищей по профессии: не заблуждайтесь! Среди множества честных людей, разводящих птицу, найдется десяток прохвостов. Спекулянт, выпивоха, шалопай не ценят птиц и не радуются их красоте. Голубь для них только способ добыть деньги и покуражиться за бутылкой вина.
Это люди, которых не любят. Они чужие и здесь, среди гомона, смеха и шуток голубятников, влюбленных в свое маленькое крылатое счастье.
ОРЛИК
Нет, никак нельзя назвать этого голубя красивым! У него грязновато-синее оперение, длинные голые, без единого перышка, прямые ноги, а нос!.. Нос у него большущий-пребольшущий, да еще вдобавок с белыми шершавыми наростами у основания. Но именно этот нос вызывал шумные восторги всех окрестных голубятников в возрасте от восьми до пятнадцати лет.
Первое время они приходили по утрам к моему балкону и хором требовали:
– Дядь, покажи почтаря!
Я вынимал из гнезда голубя и сверху показывал его ребятам.
– Ай да птица! – восторгались голубятники. – Ай да орел! Гляди, нос какой – с шишками!
Купил я Орлика совсем маленьким. Он еще пищал, широко растопыривая крылья и подергивая ими. Потом, когда он подрос и начал смешно, как утка, крякать, мой сосед, дядя Саша, щурясь и потирая подбородок, сказал:
– Этот пойдет! Этот будет резать. Эх, братец мой, как он будет резать!..
Это означало, что Орлик будет быстро и издалека приходить к своей голубятне.
Весной я начал нагон Орлика. Выбросив его в противоположном конце города, я скорее сел в трамвай и медленно покатил к дому. Вероятно, трамвай шел, как всегда, не очень быстро и не очень медленно. Но мне казалось, что вагон не катится по рельсам, а ползет.
Когда я вернулся домой, Орлик сидел в голубятне очень довольный и чистил перья.
На следующий день я выбросил Орлика и двух старых красноплёких голубей с пригородной станции.
Ни в эти сутки, ни в следующие ни одна из трех птиц домой не вернулась. На третий день Орлик появился над домом и пикой[27]27
Пикой... – голуби, хорошо знающие дом, еще издалека начинают складывать крылья и «пикируют» на голубятню.
[Закрыть] промчался к голубятне.
Вид у Орлика был жалкий. За время бродяжничества он так похудел, что кости, казалось, выпирали у него сквозь перья, а нос стал еще больше. Было ясно: пока Орлик искал свой дом, он ничего не ел, не спускался на чужие голубятни и пролетел, без сомнения, много сот километров.
Красноплёкие голуби не вернулись совсем.
* * *
Как-то в воскресенье ко мне пришли два старика и, как положено в таких случаях, начали разговор издалека.
– Слыхал я, – сказал один старик, – что нынче в соседней области хороших почтарей держат. Ты, говорят, бываешь там. Поглядел бы.
Я обещал поглядеть.
Старики попыхтели трубками и, не найдя, видно, больше предлога для общих разговоров, перешли к делу.
– У тебя, слышно, молодой почтарь есть. Не продашь ли?
Я ответил, что голубей не продаю.
– Ну подари.
Это было так неожиданно и против всяких правил, что я растерялся и не нашел ответа. До сих пор не могу понять, что со мной случилось, но старики ушли, завернув в газетный кулек Орлика.
Орлик пришел в тот же день в связках. Крылья у него – по четыре пера в каждом крыле – были прочно связаны суровой ниткой, и он летел до того тяжело, что, казалось, сердце у него должно разорваться от усилий.
Через час явились старики.
По неписанным законам голубятников птица, которая вернулась от новых хозяев к старым, считается снова собственностью последних.
– Бери двойную плату за своего змееныша, – сказал один из стариков. – Знаем, не продаешь. Уважь. Сделай исключение.
Я отказал.
Тогда старики предложили другое:
– Давай на спор. Ты выиграешь – берешь голубку почтовую у нас. Мы выиграем – Орлика возьмем. Так и так – пара будет.
На это, не желая ссориться с гостями, я согласился.
Условия спора заключались в следующем. Наши доверенные должны были отвезти голубей на электричке за двадцать пять километров и одновременно выпустить их. Старики будут ждать свою голубку дома, я Орлика – у себя. Как только птицы прилетят в свои голубятни, мы должны будем «сбегаться» на полянке, до которой и от меня, и от стариков метров по пятьсот. Тот, кто явится на полянку первым, конечно, с голубем, – выиграл.
Студент-отпускник, сын моего соседа, и доверенный стариков в полдень увезли голубей.
В лучшем случае, птицы могли вернуться через полтора часа. Но уже через час со мной начало твориться что-то непонятное. Я то включал радиоприемник и сразу же выключал его, то вдруг вспоминал, что недописано письмо товарищу, и садился за стол. Но ничего у меня не получалось. Я начинал читать книгу – и бросал ее.
Пришлось махнуть рукой на все дела и выйти на балкон.
Орлик! Где сейчас Орлик? Идет ли он, мой несуразный малыш, домой, или запутался где-нибудь над полями и рощицами? Нет, нет, он, конечно, несется теперь к родной голубятне! Он не станет, как это делают иные почтари, лететь за чужой голубкой, а сам, сам выберет верное направление!
Но тут же на меня находили сомнения. Всякое случается: то не сразу голубь выберет правильное направление, то закружит над местом выброски, пойдет в одну, в другую сторону, прежде чем лететь домой.
А мало ли всяких опасностей и соблазнов подстерегают голубя в пути? Может он попасть в лапы и к соколу и к ястребу-тетеревятнику. Или из рогатки его глупый мальчишка подшибет.
А соблазн полетать с чужой стаей, встретившейся на пути?
В таких случаях всегда кажется, что с голубем противника ничего этого не стрясется, а вот с твоим...
И Орлик, и синяя голубка должны были прийти с запада. Я до слез всматривался в небо, но ничего не видел.
Вдруг что-то дрогнуло у меня в груди: вдали, быстро увеличиваясь, летела птица!
Прошло несколько секунд, и я понял, что это не Орлик! Нет, он не пошел бы к дому стороной. Он всегда от высокого здания элеватора мчался сюда по прямой. Это была – конечно же – чужая птица, синяя голубка стариков.
Всегда в таких случаях становится обидно. Не только жаль проигранного голубя! Обидно, что он оказался в споре слабым, что твоя система воспитания и нагона птиц, твой выбор, твои вкусы плохи.
Грустно раздумывая об этом, я не заметил, как вдалеке появился Орлик. Почти над самым домом он сложил крылья и стремительно понесся к голубятне.
Я взял Орлика из гнезда и без особого желания пошел в условленное место. Я хорошо представлял себе, как там, на небольшой полянке, сидят уже старики со своей синей и, посмеиваясь, подмигивая друг»другу, ожидают меня.
Вон вдали показалась полянка. Что-то не видно стариков. Лежат, наверно, на травке, покуривают, пошучивают.
Но сколько я ни вглядывался, стариков нигде не было видно. Что за черт! И тут снова что-то екнуло у меня в груди: да нет же стариков на полянке! Не прилетела их синяя!
И тогда я со всех ног бросился бежать, не обращая внимания на шарахавшихся от меня прохожих.
Вот и полянка! Я сажусь на травку и, тяжело дыша, достаю папиросу.
Чудесный, замечательный день! Какие-то пичуги трещат, воробьи, что ли? Отлично трещат, вполне музыкально. И вообще все кругом очень мило и хорошо. Как я этого раньше не замечал?
Минут через пятнадцать, задыхаясь, прибегают старики. Увидев у меня Орлика, они останавливаются и неожиданно начинают смеяться.
– Ну и змееныш! – от души восторгаются мои «противники». – Ну и молодчага: старую голубку обошел ведь!
Но все-таки они долго рассматривают Орлика, считают перья у него в хвосте и крыльях – тот ли? Потом тяжело вздыхают и кладут мне в чемоданчик такую же, как Орлик, синюю голубку.
* * *
Скоро я стал выбрасывать Орлика уже за пятьдесят и даже за сто километров. Ориентировался он превосходно. Сделав круг над местом выброски, Орлик мчался к голубятне по прямой. Другие голуби приходили домой, «завивая» спираль или прокладывая в воздухе множество ломаных линий. Орлик шел так, будто видел за лесами и горами свою голубятню и боялся опоздать домой.
В начале сентября я собрался на охоту. Уже выходя из дома, столкнулся с одним из давешних стариков.
Узнав, что охотиться я буду в двухстах километрах от города, старик хитро прищурился и сказал:
– Хорош у тебя голубь, спору нет. Да слабоват все-таки. Нипочем ему за двести километров не прийти!
– За двести?
– За двести!
– Не прийти?
– Нет, не придет!
– Да ты что мелешь?
– А на спор!
Одним словом, я уехал на охоту с Орликом. Доконал-таки меня вредный старик. Не забыл нанесенной ему когда-то обиды!
Но, выйдя из поезда на небольшом разъезде, я смалодушничал. Вспомнил, что у Орлика дома осталась голубка, которая вот-вот снесет яйца, вспомнил, что до города добрых двести километров, и сунул голубя за пазуху. Я свистнул своего старого лаверака[28]28
Лаверак – порода охотничьих собак, английский сеттер.
[Закрыть] Рея и пошел в глубь леса. Пусть лучше Орлик посидит в темнице, а то еще оставишь его семью без кормильца...
Известно, охотники народ горячий. Я настрелял уже порядочно дичи, когда напал на отличное озерцо. Но надо было возвращаться домой. Да где там! Утки так и свистят над головой. Вот опять...
Я выстрелил дублетом[29]29
Дублет – быстро следующие один за другим выстрелы из обоих стволов двустволки.
[Закрыть]. После каждого выстрела Орлик вздрагивал у меня за пазухой.
Один из селезней, загребая крылом, упал неподалеку от опушки, где я укрывался.
Я со всех ног кинулся за подранком. Ружье, сумка с продуктами и охотничьим снаряжением тяжело хлопали меня по бокам и спине. Бежать было очень трудно. Я споткнулся – нога подвернулась. Я грузно упал на нее всем телом.
Через полчаса ступня распухла, я чувствовал, как сапог становится мал, и с большим трудом снял его.
Идти было нельзя. Набрав с грехом пополам хвороста, развел костер, испек одну из уток, поужинал.
Заснуть я не мог. Дело было, конечно, не в ночном холоде: на войне мне приходилось спать в снегу и даже в холодной воде. Досаждала боль. Каждый удар сердца остро отзывался в распухшей ступне.
Но хуже всего было не это: ведь я не знал, сколько времени надо, чтобы выздоровела нога. Сутки? Двое? Трое?
Прошла ночь, наступило утро, потом время обеда, а нога все распухала и распухала. Поблизости никаких дорог, а до станции верст тридцать – тридцать пять.
К вечеру я не выдержал. Аккуратно разорвав по месту склейки обертку папиросы из тонкой рисовой бумаги, я написал на ней мелкими буквами:
«Убил медведя. Пусть дядя Саша немедля едет на разъезд Лужки, берет подводу и двигается по речке до опушки близ озера».
Вынув Орлика из-за пазухи и привязав ниткой записку к его ноге, я немного подержал голубя в ладонях, даже – сознаюсь уж... – поцеловал его в длинный шишковатый клюв и разжал пальцы.
Голубь почти вертикально взмыл в небо, медленно прошел круг над опушкой: выбирал направление.
«Собьется?.. Неужели не выручит?» – лихорадочно соображал я, наблюдая за полетом Орлика.
Вот, наконец, голубь выбрал направление, и сразу его полет стал резким и быстрым.
– Давай, давай, Орлик! – напутствовал я голубя. И вдруг закричал: – Да не туда, не туда, Орлик!
Эх, не на запад ему лететь, на восток надо!
Растаяла на горизонте черная точка.
Теперь только Рей разделял мое вынужденное одиночество.
Всю ночь я не спал: думал об Орлике. Мерещились сокола́, нападающие на беззащитную птицу, внезапные ливни, чужие голубятни на пути.
Забылся я под самое утро.
* * *
Проснулся я оттого, что громко и весело лаял Рей и где-то пофыркивала лошадь.
Рядом стоял дядя Саша.
– Ну, где твой медведь?
Я молча показал на голую распухшую ступню.
– Так и знал, – усмехаясь, сказал дядя Саша. – Какие уж в этих местах медведи! Так только, чтоб дома не беспокоились. Ну, садись.
Дома мне сказали, что Орлик прилетел в восемь тридцать вечера.
Выпустил я его ровно в пять.