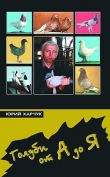Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 39 страниц)
Взявшись за луку седла, есаул выругался про себя и вернулся к убитому.
На ощупь нашел в железно зажатой ладони наган, снял саблю в ножнах, обшарил карманы: в них ничего не было.
Мгновение поколебавшись, Шундеев раз за разом выпустил все патроны из нагана в лицо мертвому. Решив, что теперь уже никто не сумеет его опознать, есаул пошел к коню.
К Шеломенцевой подъехали при первых петухах.
На крыльце разжигала самовар Настя. Увидев конников, спросила:
– Будить Дементия Лукича?
– Не надо, – махнул рукой Шундеев. – Проснется, тогда и потолкуем.
Обернулся к верховым, распорядился:
– Тихон, помоги Ческидову сойти. Да кто-нибудь сбегайте за фершалом, – перевязать казачка.
Шундеев взял Зимних под руку и, держа ее на весу, будто трофей, ввел раненого в горницу. Посадил на скамейку у окна, подмигнул:
– С крещеньем тебя, паря...
Гришка ничего не ответил. В теплом доме его сразу повело в сон, и Зимних хлопал ресницами, силясь не свалиться под лавку. Он даже не заметил, как Настя, страдая, глядела на него.
Пришел «фершал», из коновалов-самоучек, разрезал на раненом рукав. Пуля навылет пробила мякоть чуть выше локтя; нижняя рубашка задубела от крови. Лекарь полил на рану немного йода, обмотал ее узкой стираной тряпкой.
– Была бы кость цела, сынок, а мясо нарастет.
– Шею погляди еще, – попросил Зимних. – Жгет.
Лекарь посмотрел, махнул рукой: «Пустое!» – и отправился восвояси.
Вскоре проснулся Миробицкий. Он вышел из боковушки в горницу,спросил:
– Ну, что скажешь, есаул?
К величайшему удивлению Гриши, Шундеев изложил ход «операции» в самых красочных выражениях. Выходило, что стычка была с немалым числом красных и в бою отличился не кто иной, как новый казачонок. Мальчишка оказался дерзок на руку и преследовал коммунистов бок о бок с Шундеевым. Забиячливого конника ранили в упор, однако ж Ческидов самолично добрался до штаба.
Есаул положил на стол саблю и наган убитого:
– Это тебе презент, господин командующий...
– Перестань, – поморщился сотник. – Не скоморошничай!
Он подошел к Гришке, спросил:
– До землянки доберешься?
– Дойду, ваше благородие.
– Ну, иди. Наган этот себе возьми. Да вот еще что, братец: срежь патлы и бороду побрей. Казак все ж таки. Ступай с богом.
Неделю подряд сыпали густые дожди, и «голубая армия» не покидала землянок. Гришка лежал на нарах, между Увариным и Суходолом, лудил бока за прошлое и будущее. Потом они втроем бесконечно беседовали о житье-бытье. Гриша поддерживал эти разговоры, пытаясь разобраться в настроении соседей и выяснить, не будет ли от них какой пользы.
Уварин не одобрял храбрости Ческидова в ночной сшибке.
– Гнался, пока хвост оторвался, – усмехнулся рыжий. – А зачем, спрошу я тебя?
– Що головою в пич, що в пич головою – то все не мед, – кряхтел Суходол не то осуждая, не то поддерживая Уварина.
Старик, кажется, искренне привязался к немногословному мальчонке с голубыми глазами и совсем детскими ямочками на чисто побритых щеках. Может, Гриша напоминал ему сына, далекую прошедшую жизнь, тихую и сытую.
Они поочередно варили в мятом котелке вяленую рыбу, запивали ее чаем из листа смородины, даже без сахарина.
– Приходится чаек вприглядку лакать! – утирая пот на своем нелепом носу, сердился Тихон. – Чтоб, она и вовсе провалилась, такая жизнь!
– На вику горя – море, а радощив – и в ложку не збереш, – соглашался Суходол. – Чи сьогодни, чи завтра – те саме.
– А-а... – вздыхал Тихон. – Скучища! Самогонки бы, что ли!
Разжившись спиртным и выпив, он вперял в Гришку бесцветные, как луковицы, глаза, размазывал по щекам тощие и мутные слезы, допытывался:
– Ты знаешь, кто я есть, Ческидов?
И трагически разводил длинные руки:
– Лошадь-человек – вот кто я есть! Вся жизнь – на узде...
Однако он тут же совершенно менялся и говорил Суходолу:
– Бежать нам надо, умным людям, дед! Опосля отсюда головы без дырки не унесешь!
– Ото дурень... – хмурился Суходол. – Мени це ни до чого.
Уварин смеялся:
– Так что ж – что дурень? Голове, ежели порожняя, легче.
– Щоб тоби язык усох! – окончательно сердился старик и замолкал.
Оставаясь наедине с Гришкой, Суходол рассказывал иногда об ушедших годах, жаловался:
– Тикав вид дыму, та впав у вогонь я, хлопець. Погано.
– А может, и верно, податься вам домой, дядя Тимофей? – осторожно спрашивал Зимних. – К семье, к землице.
– Тилькы й земли маю, що по-за нигтями, – грустно усмехался старик. – Та й не в тому справа...
И он давал понять Грише, что власть, надо думать, не простит ему ошибок прошлой жизни.
Иногда выпадали по вечерам сухие часы, без дождя, и Гриша, Суходол и Уварин уходили в лес искать грибы.
Сентябрь перевалил на вторую половину, и в мокром лесу было свежо, пряно пахло опадающим листом. Остро, будто поперченные, благоухали сыроежки, кучно грудились семейки опят.
Также и ягод было много в лесу. По хвойным вырубкам еще сохранилась малина, ярко краснели кисточки костяники, чернели тяжелые, видом похожие на малину висюльки ежевики.
У Гриши правая рука покоилась на ремне, перекинутом через шею, и он срывал ягоды левой.
В лесу в это время хорошо была видна смена летней поры на осень. Зайцы торопились перекочевать из-под облетавших берез в сосняк и ельник, молодые тетерева сбивались в стаи, перелетные с криком уходили на юг.
В прохладные росные вечера повизгивали молодые волки; они к этому времени сильно выросли, как и лисята, сменившие темный детский мех на взрослую рыжину.
Однажды неподалеку от заимки Гриша опустился отдохнуть на ствол гниловатой, упавшей от старости сосны. В средней части ствола было большое дупло, и Зимних запомнил это.
Рана у Гриши заживала хорошо; в конце месяца он решил попросить Миробицкого отпустить его в Селезян. Но до этого сотруднику губернской чека хотелось посмотреть карту сотника. Впрочем, и без карты он знал уже многое. Уварин успел рассказать Григорию, кто и в каких станицах поддерживает Миробицкого, где укрыты запасные коли и продовольствие.
Однажды, узнав, что Миробицкий уехал в Каратабан, Гриша отправился к Насте, надеясь, что, может, удастся выведать у нее, где карта.
Войдя в горницу, он удивленно остановился у порога. В комнате не было никого, кроме отца Иоанна. Священник попытался подняться навстречу Гришке, но не смог этого сделать.
«Пьян, – усмехнулся Зимних. – И этот туда же».
– Здравствуйте, отец Иоанн, – сказал он не очень любезно. – А где же их благородие?
– Живем, поколе господь грехам нашим терпит, – не слушая вошедшего, вздохнул поп и вздел к потолку тощенький палец. – Не копите сокровищ в скрынях, копите же в сердце своем!
В комнату забежала Калугина, всплеснула руками:
– Господи, отец Иоанн! Как же это вы?
Поп жалко сморщил личико и попытался развести руки:
– Яко червь в древе, тако и кручина в сердце.
– Ах, беда-то какая... – сказала Настя огорченно. – Пойдемте, отец Иоанн, в боковушку, прилягте. Вам там покойно будет...
Она помогла пройти священнику в боковую комнату, уложила его на кровать и вернулась в горницу.
– Мне господина сотника, – сказал Гришка. – Дело к нему.
– А нету его, Гриша, – ответила Настя, оглядывая узкими черными глазами молоденького красивого казака. – В Каратабане он.
Она грустно погрызла кончик длинной косы, вздохнула:
– Гуляют, видать.
Еще раз кинула Взгляд на Гришу, сказала, глядя в сторону:
– Посидела б я с тобой маленько, да некогда мне. Стирки полно...
Гришка хотел сказать казачке, что он подождет здесь сотника, но в это время из боковой комнаты донесся голос отца Иоанна.
– Доколе терплю вам?! – грозно вопрошал кого-то поп, и железная кровать поскрипывала под его худеньким телом.
Настя кинулась в боковушку, и Гриша слышал, как она уговаривала отца Иоанна отдохнуть и поспать.
Вскоре торопливо вернулась в горницу и, смущаясь, попросила:
– Ты посидел бы с ним, Гриша. Стыд-то какой! Не дай бог, кто увидит.
Зимних пристально посмотрел на Калугину и, внезапно повеселев, согласился:
– Ладно уж! Только ты забегай почаще, а то скушно мне будет.
– Я стану приходить, – пообещала казачка, провожая молодого человека к отцу Иоанну.
Священник лежал на спине, бессмысленно уставив взгляд в потолок, и не обратил никакого внимания на вошедших.
Настя поставила рядом с кроватью табуретку, растерянно посмотрела на симпатичного казака и вышла.
Зимних медленно оглядывал комнату. В переднем углу, под иконами, небольшой стол. На нем – чернильница, тоненькая ученическая ручка, железная линейка с делениями, маленький пистолет без обоймы.
«Для нее, для Насти, – отметил про себя Зимних. – А обойма, небось, у самого».
В стене слева – гвоздь, к нему на веревочке привешена палочка, а на палочке – глаженый, с Георгиями, офицерский китель.
«К параду готовится, чай, – зло усмехнулся Гриша. – На белом коне в Челябинск въезжать собирается, надо полагать».
Еще в комнатке был старинный дубовый комод, и на полу – вылинявший домотканый коврик. Трудно было сказать, что здесь хозяйское, что натащенное со стороны.
Того, что требовалось Грише – планшета с картой – в комнате не было.
Отец Иоанн наконец оторвал взгляд от потолка, посмотрел на Зимних и вдруг заплакал:
– Яко тать в нощи... Сгинь, нечистая сила!
Попытался сесть, но ударился затылком о спинку кровати и свалился на подушку. Трудно повернулся к стене, задышал неровно, с хрипом.
Гриша быстро поднялся с табуретки, кинулся к комоду, выдвинул ящики, – планшета с картой в них не было. Не было его и в ящике стола.
«Неужто взял с собой? – подумал Зимних. – А зачем ему карта в Каратабане, он и без нее там все дорожки и тропинки знает».
Кинув взгляд на отца Иоанна – «совсем охмелел попик!» – Гриша подошел к кителю, ощупал внутренние карманы: «Может, важные бумаги какие-нибудь в карманах?» – и устало вздохнул: карманы были пусты.
Китель покосился на палочке, и Зимних решил его поправить, чтобы не вызвать подозрений у осторожного сотника. Сняв палочку с одеждой, Зимних непроизвольно вздрогнул. На стене, под кителем висел планшет с картой. Через прозрачную боковинку сумки мутно виднелись цветные линии карты.
– Праведных же души в руце божией, и не прикоснется их мука, – внезапно забормотал поп, поворачиваясь на спину. – Ух, дьявол, печет как...
– Чтоб тебя!.. – тихонько выругался Зимних и поспешил в сени. Нашел там кадку с водой, зачерпнул пол-ковша и понес попу.
– Пейте, пожалуйста, отец Иоанн, – уговаривал он священника. Тот мотал головой и бессмысленно мычал.
Гриша насильно напоил пьяненького студеной водой, расстегнул ему рубаху и укрыл одеялом.
Попу, видно, стало легче, и он уснул.
Гриша быстро вышел в сени, прислушался: тихо. Вернулся в боковушку. Снял сумку с гвоздика, сел на табуретку у кровати, положил планшет себе на колени.
Зимних не собирался снимать копию с карты. Это было не только рискованно, но и не нужно. Он опустил голову, вцепился взглядом в линии и значки карты и точно заснул с открытыми глазами.
Запоминать условные знаки было трудно: приходилось все время прислушиваться к звукам в горнице и в сенях.
Но все было тихо. Зимних не отрываясь глядел на ромбики, кресты и квадратики, нанесенные цветными карандашами на лист.
Прошло десять минут, двадцать, полчаса. Глаза уже стало резать от напряжения, когда Зимних понял, что запомнил все, что нанес Миробицкий на карту.
Снял китель со стены, повесил планшет на гвоздик, и снова вернул одежду на место.
Насти все не было. Зимних вышел в горницу и стал сворачивать пальцами одной левой руки цигарку.
Наконец вошла Калугина.
– Ты не серчай, – сказала она, краснея. – Достирать я хотела и потом уже посидеть с тобой маленько.
– Я пойду, – мрачновато отозвался Гриша. – Сколько времени истратил впустую.
– Нет, ты посиди, – попросила Калугина. – Теперь уже скоро, видать.
«Штаб голубой армии» вернулся в Шеломенцеву к самому вечеру.
Миробицкий, войдя в горницу, ястребом поглядел на Гришку, бросил шинель в угол, кивнул Насте:
– Дай воды. Умоюсь.
Они вышли в сени, к умывальничку, и Зимних слышал, как Настя говорила:
– Вы бы отдохнули, Дементий Лукич. Ведь захвораете так.
– Потом отдохну, – отозвался с досадой сотник. – На то ночь есть.
Войдя в горницу и вытирая руки чистым полотенцем, спросил у Гришки:
– Что надо?
– Пустите, ваше благородие, в Селезян, – сказал Зимних, вставая, – Девка у меня там. Повидаться охота.
– А ты – лихой малый! – усмехнулся Миробицкий. – Когда успел?
– Вас искал – в Селезяне останавливался. Ночевал там, стало быть.
– Обойдешься! – отказал сотник.
– От меня сейчас проку мало, – кивнул Гришка на руку. – Так что не откажите, ваше благородие.
– Пустите его, Дементий Лукич, – вежливо вмешалась Настя. – Они же давно не виделись.
– Обойдется, – повторил сотник.
Две пары холодных голубых глаз на одно мгновение скрестились.
– Ладно, – внезапно сказал сотник. – Поезжай, черт с тобой. Узнаешь заодно, как там? Настя, крикни Прохора Зотыча.
Калугина ушла во двор и вскоре вернулась с хозяином заимки.
Миробицкий подошел к рослому старику, сказал сухо:
– Поедешь с Ческидовым в Селезян. Коли не вернешься или вернешься один – сожгу дом. Понял?
Старик кивнул головой:
– Как не понять, ваше благородие.
Первую половину дороги ехали молча. Шеломенцев курил цигарку, зажатую в огромном кулаке, хмуро поглядывал на спутника.
Потом не выдержал:
– И чего тебе, дураку, при мамке не сидится? Иль не жаль ее?
– Невозможно! – сухо отозвался Гриша. – Нельзя, дядя Прохор. Россия погибнет.
– Россия! Жила она народом во-он сколько и до конца ей износу не будет.
– Темный вы, Прохор Зотыч. Никакого политического взгляда на данный момент.
Шеломенцев покосился на Гришу, но промолчал. Некоторое время ехал молча, вдруг остановил коня и, сворачивая новую цигарку, заметил с усмешкой:
– Прям, как дуга, ты, парень – сдается мне.
Зимних спросил холодно:
– Это отчего же, дядя Прохор?
– Да как тебе сказать?.. – не меняя насмешливого тона, ответил Шеломенцев. – Вроде бы и богу молишься, и черту не грубишь.
Закурил, тронул коня.
– Однако кто тебя знает?.. В чужую душу не влезешь...
– Мутно вы говорите, – махнул рукой Гриша. – Неинтересно мне.
Подумал не столько со страхом, сколько с раздражением:
«Неужто перехватил я? Или просто догадывается Прохор Зотыч?».
Вслух сказал:
– Старый вы человек, и не буду я говорить обидные слова.
– А ты говори. Я всякое в жизни слышал.
– Ладно. Чего нам грызться? – примирительно сказал Гриша. – Знакомые в Селезяне есть у вас?
– У меня там все знакомые. К кому едешь?
– К девке.
– А кто она, позволь спросить, твоя зазноба?
– Не скажу – отобьешь еще! – засмеялся Гришка.
– У нее остановишься? – не обращая внимания на глупую шутку, спросил старик.
– Не, у дружка.
– Кто же дружок?
– Вы его, чай, не знаете.
– Скажешь, так буду знать.
Зимних колебался одно мгновение. Скрывать фамилию Петьки не имело смысла. Помня об угрозе Миробицкого, Шеломенцев, надо полагать, теперь не оставит Гришу без досмотра ни на одну минуту.
– Петька Ярушников.
Прохор Зотыч впервые за всю дорогу пристально поглядел на спутника, и в глазах старика мелькнули интерес и любопытство. Но он ничего не сказал.
– У него и остановимся, – с хорошо подчеркнутым безразличием объявил Зимних.
– Ты останавливайся, а мне там делать нечего. У меня свои дела.
Теперь уже Зимних с удивлением взглянул на Шеломенцева.
– А ежели я утеку, дядя Прохор? Ведь дом спалят.
– Ну, значит, без дома жить буду.
При въезде в станицу старик остановил коня:
– Утром, о третьих петухах, съедемся. На околице.
И, не оборачиваясь к Грише, отпустил поводья.
* * *
Петька Ярушников, как и в первый раз, шумно обрадовался появлению товарища.
– Гриша! – воскликнул он, хватая приятеля за руку. – Живой и здоровый?
– А что мне сделается?
– Ну, я не знаю что... К стенке тебя, например, поставить могут.
– Мое время еще не наступило, Петька. Пуля для меня еще не произведена.
– Пуля? – переспросил Ярушников. – А рука чего на ремне болтается?
– Это так, вывихнул я.
Зимних вытащил из-за пазухи кулечек с пшеном, две копченные воблы.
– Тебе подарок, Петя.
– Ого! – округлил глаза Ярушников. – Богато живешь, ваше благородие.
– Не дури! Ну как тут дела?
– А я знаю – как дела? – уныло буркнул Ярушников. – Полная неразбериха. Власть Советская, а что в башке у казаков, черт их знает.. Кто-то по ночам приезжает и уезжает. Селезянские по домам сидят и глаз на свет не кажут. Давеча из губкомдеза наведывались, пошныряли окрест и убрались.
– Ладно, – сказал Зимних, – нечего тебе нос вешать. Другие люди для освобождения трудящихся от проклятых цепей капитала проливают свою кровь – и ничего, помалкивают. А мы с тобой не на красных фронтах воюем, и никакой крови не тратили. Так что ешь пшенку и не пищи.
– Я не пищу, – смутился Петька. – Тем более, что наши тоже не сидят сложа руки.
– О чем ты?
– Прошку Лагутина недавно в расход пустили. Вот был гад!
– Какого Прошку?
– Я же говорю – Прошку Лагутина. Урядник нашей станицы. Он из трудармии сбежал. Домой добирался с дружками. Его ночью на дороге и сковырнули.
Гриша, свертывавший папиросу, внезапно поднял голову и, просыпая махорку, взглянул на Петьку:
– Это когда было?
Ярушников назвал число.
– Где, не знаешь?
– У леска, возле Дунгузлов.
– М-да, – усмехнулся Гриша. – И кто же убил его, Петя?
– Чоновцы, говорят, на дороге засаду устроили. Всего изрешетили. Я сам смотрел, когда привезли.
Петька помог Грише снять ножны с саблей, проворчал:
– Больно вывих у тебя странный. Выше локтя.
– Бывает и так, Петя. Слей мне воды, я умоюсь.
Причесывая русые волосы обломком гребешка, Зимних внезапно с большой серьезностью сказал Ярушникову:
– Я о большом тебя, Петя, просить хочу. Но упреждаю: голова на кону. Не струсишь?
– Какое дело?
– Я сейчас у Миробицкого. Не по собственному хотению, понимать должен.
– А то не понимаю...
– Ну вот – все, что надо, я, видно, сделал. Теперь самый раз – к своим.
– Так и скачи отсюда в Челябу. У тебя и конь есть.
– Дело не в коне, Петька. Сотник со мной Шеломенцева послал, чтоб не утек я. Убегу – дом сожгут и старика пристрелят.
– Негоже это, – покачал головой Ярушников и вдруг насупился: – Ну и пусть сожгут. Нечего было Миробицкого к себе пускать.
– А что ж мог сделать? Вилами их заты́кать?
– Сюда бежать следовало. Нашел бы крышу.
– Они ему письмо не посылали о приезде. Явились и все. Между прочим, – он тебя знает, Шеломенцев?
– А то нет. Дядя он мне.
– Что ж ты раньше-то не сказал, дурак этакий! – вспылил Зимних.
– Не спрашивал, я и не говорил... Ты о деле поминал. Что надо?
– Лист чистой бумаги найдешь?
– Только и всего? Погоди маленько.
Петька вытащил сундучок из-под кровати, выудил оттуда тонкую школьную тетрадку и подал ее приятелю.
Зимних вырвал из середины двойной лист, разложил перед собой на столе, кивнул на дверь,
– Пойди к воротам, покарауль, чтоб категорически никто не заходил.
Петька, не задавая вопросов, ушел.
Гриша нарисовал на листке расположение станиц, изобразил кружками озера и дороги между населенными пунктами. Потом снизу провел черту и под ней нарисовал условные обозначения: крестики – склады оружия, квадратики – ямы с продовольствием, большой кружок – штаб «голубой армии».
Незажившая рана саднила. Пришлось положить на лист брусок для точки косы, чтоб опустить совсем руку и дать ей отдохнуть. Левой он нанес условные значки на самодельную карту и принялся писать донесение.
Писалось медленно и трудно. Квадратные буквы уплывали то под линейку, то поверх ее; буква «и» все время получалась как в зеркале: соединительная черточка шла не снизу вверх, как положено, а сверху вниз.
Зимних перечислил все фамилии бандитов, как в Шеломенцевой, так и в станицах, опорные пункты и даже явки – все, что успел узнать за короткое время пребывания в «голубой армии». Он сообщал в чека, как лучше ударить по банде и какими дорогами идти к заимке. Писал также, что остается на месте: в нужный момент произведет панику в штабе и поможет своим.
Окончив свою многотрудную работу, вытер пот со лба, сунул листки за пазуху и вышел во двор.
Вернувшись с товарищем в дом, разложил карту и листки на столе, сказал, немного волнуясь:
– Вот, Ярушников. Это важный документ. И его надо перекинуть нашим, в чека.
– Перекину, – сразу став очень серьезным, сказал Петя. – Теперь и отправлюсь.
Гриша пожевал папиросу, подумал, покачал головой:
– Теперь нельзя, Петька. Неспокойно. Можно напороться на засаду. Найдут Миробицкий или Абызов бумаги – и дело сгубим, и нам точка. Значит, повременить надо. Я сигнал подам, когда спокойнее будет.
– Как?
– Приеду сам или пошлю к тебе кого,
– А если Миробицкий не пустит тебя сюда? И других не пустит?
– Не пустит? – задумался Гриша. – Это вполне может быть... Что же нам делать, парень?
Молодые люди посмотрели друг на друга, подымили цигарками, – ничего путного не шло на ум.
– Ладно, – сказал наконец Зимних, – пойдем пока к тайнику, документы спрячем.
Они вышли во двор, быстро сняли верхнее дно голубятни, положили карту и донесение рядом с оружием, вернули доски на место.
– И не страшно тебе одному у них, у бандитов? – внезапно спросил Ярушников, и Грише показалось, что в его голосе звучит сострадание.
– Я не один, – хмуровато откликнулся Зимних. – Я с правдой там, Петька. Значит – вдвоем.
– Я бы не смог, – простодушно объявил Ярушников. – И трудно это сверх меры: чужими глазами смотреть на них, чужими ушами слушать.
– Ну ты брось хныкать, – оборвал приятеля Гриша. – Лучше о деле сказал бы.
Петя обиженно замолчал, но шевелил губами, будто о чем-то спорил с собой.
– Ты что – молишься, что ли, Ярушников?
– Нет, – покрутил тот головой. – Вот одна придумка есть. Да не знаю, что скажешь.
– Какая придумка?
– Я голубей тебе дам. Тех же, красных. Ты их спрячь подле заимки, а потом выпусти, когда нужно. Никаких записок посылать не надо. Прилетят – я знать буду: дорога чистая. Тогда – в Челябу.
Зимних несколько минут молчал, глядя отсутствующим взглядом на Ярушникова. Наконец кивнул головой.
– Это вовсе не глупо придумано. Из тебя, Петька, со временем настоящий пролетарий получиться может.
Радуясь похвале старшего товарища, Ярушников воскликнул:
– Я тебе для птиц и ящичек дам. Корм тоже. Погоди маленько.
Он убежал и через минуту явился с фанерным садком для птиц. Потом отлучился снова и вернулся с небольшим мешочком, плотненько набитым зерном.
У Зимних в душе шевельнулось недоброе чувство: «Голодающие центры революции, героически выдерживающие последний удар капитала, изнывают от бесхлебицы, а тут зерно птицам скармливают».
Высыпав из мешочка немного содержимого, чекист внезапно улыбнулся. На столе желтели крошки хлеба и высушенные остатки овсяной каши.
– А для воды жестяную баночку найду, – говорил Петя, уходя за птицами.
Вернувшись с голубями, опустил их в ящичек и сунул его под стол.
– Пусть привыкает к садку, может, долго сидеть в нем придется.
Еще перед зарей, только-только пропели первые петухи, товарищи вышли во двор. Принимая от Петьки садок, окутанный старой рубахой, Гриша сказал:
– Когда побежишь в Челябу – оружия не бери. Документы зашей в штанину, как я тебе велел. Напорешься на засаду, скажешь за спичками либо за мылом в город. Я на тебя надеюсь.
Ярушников привел из сарая заседланную кобылку, подал Грише повод:
– Смотри, осторожно там...
Отвернулся в сторону, сконфузился:
– У меня, кроме тебя, больше никого нету.
– Ладно, не распускай нюни, ничего со мной не случится.
Еще издалека, на фоне побледневшего неба, Гриша увидел громоздкую фигуру Шеломенцева. Старик курил возле коня. Гриша поздоровался, спросил:
– И давно ждете, дядя Прохор?
– Нет. Нализался с девкой?
– Успел. Тихо в станице?
– Тихо. Поехали.
Неподалеку от заимки Зимних спешился, сказал старику:
– Поезжай нешибко, дядя Прохор. Догоню. Подарок казачка сделала. Спрячу.
Шеломенцев молчал.
– Кусок сала да десяток яиц. Может, голодно будет, так сгодится.
– А я не спрашиваю, чего у тебя там. Стар я твоими делами заниматься. Прячь, коли надо.
Гриша привязал кобылку к придорожной березе и побежал в лес. Быстро отыскал поваленную сосну, поставил ящичек в дупло. Насыпал в садок корм, налил из бутылки воды в баночку. Затем присыпал дупло сухой листвой.
Шеломенцева догнал возле дома. Они въехали во двор заимки, спешились, пошли докладываться Миробицкому.
Сотник, несмотря на раннее время, сидел за столом, вымеривая линейкой карту.
Шеломенцев и Зимних вошли в горницу, вытянулись.
– Вернулись, ваше благородие.
Миробицкий закрыл карту листовкой, спросил:
– Что в Селезянской? Спокойно?
– Тихо, – ответил Гришка. – Из комдеза намедни приезжали, да так с пустыми руками и уехали.
– Идите.
Во дворе Зимних подал руку Шеломенцеву, сказал тихо:
– Спасибо, дядя Прохор... за компанию и вообще...
– Пустое... – проворчал старик, направляясь в сарайчик, отведенный ему Миробицким под жилье.
Гришка полагал, что Суходол и Уварин спят еще во всю ивановскую – и ошибся. Он был весьма озадачен, обнаружив в тесной подземной клетушке, кроме них, еще и отца Иоанна.
Поп сидел на нарах, тыкал Тихона пальцем в грудь, бормотал:
– Толцыте – и отверзется, проси́те – и дастся вам.
– Э-э, старого казака не облукавишь, ваше преподобие! – смеялся безгубым ртом Уварин. – Пока до бога дотянешься, черти голову оторвут.
– Помолчи, Тишка! – ершился священник. – Умеряй страсти свои, подлец!
Суходол отчужденно сидел в сторонке и молчал. Увидев Гришу, он расцепил огромные ручищи, лежавшие на коленях, и его хмурые, озлобленные глаза, кажется, потеплели.
Зимних кивнул ему головой, поздоровался с остальными.
Отец Иоанн и Уварин не обратили на вошедшего никакого внимания. Они по-прежнему продолжали тянуть странную беседу, больше похожую на препирательство. Вскоре ясно стало: оба навеселе.
Священник уговаривал Тихона вести праведную жизнь. Это звучало очень смешно в устах пьяного тощенького человека, совсем потерявшего свою нитку в жизни.
Тихон же доказывал попу, что никакого бога нет, никакой власти нет, а есть только табак да баня, кабак да баба, да еще разве кусок сала, если его круто посолить и как следует подержать в бочке. И он хохотал так, что его толстые брови взлетели на самый верх лба, а длинный расплющенный нос белел от напряжения.
– Буй в смехе возносит глас свой, муж же разумный едва тихо осклабляется, – неизвестно для чего сообщал поп.
– Ладно, перестаньте вы об этом, батюшка, – пытался остановить его Уварин. – Совсем у нас языки высохли. Не смочить ли?
– Смочим... – уныло кивал головой отец Иоанн. – Но засим будем молиться господу нашему.
– Мне молиться не к чему, – разливая самогон в кружки, щерился Уварин. – Мы твоими молитвами, ваше преподобие, как шестами подпираемся.
– Ну и дурак!
Они чокнулись кружками, и Тихон скороговоркой пробормотал:
– Во имя овса, и сена, и свиного уха!
– Истинно так, сын мой! – пытался похлопать Тихона по плечу отец Иоанн. – Аще бог с нами, никто же на ны...
В другое время Гриша, наверно, посмеялся бы над этой забавной и глупой картиной. Но сейчас на душе было смутно, и болтовня подвыпивших людей раздражала его.
– Пойдемте, Тимофей Григорьич, на волю, – сказал он Суходолу. – Там лучше.
Они вышли из землянки и направились в бор, пронизанный лучами и теплом позднего бабьего лета.
Суходол шел молча, почти накрыв бровями глаза.
Гришка спросил:
– Чего вы, дядя Тимофей, смутный такой?
– Чегось разболилася голова, – неохотно отозвался старик.
– Отчего же?
– 3 богатьох причин... – совсем нахмурился Суходол.
– Ну, погуляем, и вам легче станет.
Они углубились в чащу, изредка сощипывали с кустов поздние ягоды и собирали вялые, прибитые первыми заморозками грибы.
Гриша впервые за все время пребывания в «голубой армии» ощутил неясную тревогу. Сейчас, медленно шагая по привядшей траве, он пытался разобраться в причинах беспокойства.
«Нет, мне все-таки надо было бежать из Селезяна к своим... Если Петька не доставит донесение в чека, то мне будет вечный позор и презрение трудящихся. Не говоря уж, что из партии вышибут без неуместной пощады...»
Но другие мысли тут же укалывали его в сердце:
«Убег – и положил бы пятно на партию. Что подумал бы обо мне, чекисте и члене РКП, Шеломенцев? В последнюю минуту своей жизни, под клинками Миробицкого, сказал бы он самому себе: «Эх, дурак ты, дурак Прохор Зотов Шеломенцев! Нашел кому верить – красному прощелыге, мальчишке, коммунистику! Вот и подвел он тебя под твой смертный час. Поделом тебе, старому дураку, и кара!».
Потом Гриша представил себе, как Петька Ярушников доберется до Челябинска, как начальник губчека прочтет посланные им, Зимних, бумаги, и красная казачья лава, свистя клинками, кинется к Шеломенцевой.
– Вийна людей исть, а кровью запивае, – неожиданно проговорил Суходол, прерывая ход Гришиных мыслей. – Блукают по всьому свиту люди из зброею в руках. Нащо?
Гриша полол плечами, спросил:
– Соскучились по дому, дядя Тимофей?
Мрачное лицо Суходола на мгновенье осветила печальная улыбка:
– Кожному мила своя сторона. Кожна птичка свою писню спивае й свое гниздечко любыть. Як же по-иншому?
– А отчего же из своих мест... – Гришка замялся подыскивая подходящее слово, – утекли?
– З дурного розуму, – усмехнулся Суходол. – З пьяных очей облаял новую власть, та флаг червонный з конторы зирвал.
– Только и то?
– Буде з мене.
– Ну, за это пожурят да и только.
Суходол искоса посмотрел на Гришку, качнул головой:
– Кажи казкы!
– Да нет, зачем сказки? Я у них в чеке прохлаждался, – знаю. А дома большое хозяйство?
– Голый, як палець.
Оба замолчали и шли, не глядя друг на друга.
В землянке было тихо, сыро и сумрачно. На взлохмаченных нарах, обнявшись, спали Уварин и отец Иоанн.
Суходол молча залез на свободное место, лег и повернулся к стене.
Гриша снова вышел на воздух. Места на лежанке для него не осталось, да и не хотелось валяться рядом с этими разношерстными людьми, в духоте, без света.
«Не выпустить ли голубей? – думал Гриша, шагая к сосне, в которой были спрятаны птицы. – Карта и донесение должны быть как можно скорее в чека... Нет, нельзя Петьке сейчас идти в Челябу. Миробицкий и Абызов то и дело нападают на красноармейские посты. Петька один, и никакого опыта. Выходит, оба они, Зимних и Ярушников, обязаны потерпеть».
Дожди в этих местах на время кончились, и Миробицкий принял решение активизировать действия «армии». Он высылал небольшие банды в Дуванкульскую, Кичигинскую и Хомутинскую станицы, иногда рисковал нападать на советских и продовольственных работников вблизи Селезяна и даже у копей. Конники возвращались в Шеломенцеву с подводами, груженными хлебом, дважды приводили пленных. Трех красноармейцев и женщину в короткой юбке и красной косынке увезли на озеро Хохлан и там расстреляли.
Гриша узнал об этом, когда все уже было кончено. Миробицкий не брал его с собой в налеты, только изредка справлялся, не зажила ли рана.