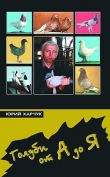Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц)
– Думала, опять соврешь. Но ты сказал правду.
– Откуда знаешь?
– Я была в управлении.
Он еле заметно вздохнул и сказал:
– Я буду ехать много дней. Степь и степь... Потом – станция Арысь, и поезд от нее пойдет не прямо на Ташкент, а влево – на Джамбул и Алма-Ату. За степями – сады и арыки. Но затем – снова степь и пустыня.
– Что там строят? – спросила она.
– Железную дорогу. Трассу планируют через соленую пустыню. Ни капли воды, ни куста, ни птицы. Все мертво. Вот, надо, чтоб была жизнь. И там очень трудно.
Она посмотрела на него прищуренными глазами и поинтересовалась с вежливой яростью:
– Но ведь ты едешь туда с удовольствием? Сам просил.
Нил согласился:
– Я люблю это дело, и люблю бродяжить. Чем больше ям на пути, тем шире надо делать шаги. Мне нравится широко шагать, Том.
– А я?
– Что «я»?
– Что же я буду делать?
– Поедешь в Москву и получишь назначение. Может, тебя оставят в главке...
– Мне всегда казалось, что ты немножко глуп, – сказала она, заглядывая ему в глаза и пытаясь увидеть там, что он шутит. Нет, не похоже.
Тогда она стала говорить вообще о любви и доказывать ему, что настоящее чувство всегда деятельно, что она презирает девчонок, тех любвеобильных девчонок, которые полагают, что любовь – это всю жизнь смотреть в глаза своему предмету (она умышленно не сказала «предмету любви»), охать и утирать сладкие слюни. И если говорить о ней, то она тоже любит широко шагать, и ее тоже, черт возьми, еще в пионерах учили не бояться трудностей. И если Нил, этот бесчувственный чурбан, хочет знать, то он еще пожалеет, что у него нет такой жены.
И внезапно для себя она заплакала, и стала в слезах бормотать, что у нее есть кто-то, и она его любит, а он ее не любит, – и еще говорила всякую милую ерунду.
Нил смотрел на нее искоса, пожимал плечами:
– А как же слезная железа?
– Что – железа! – обозлилась она. – Я просто замерзла, и у меня слезятся глаза.
– Тогда я тебя больше никогда не пущу купаться.
– Это не твое дело.
– Как знаешь...
В Мурманске он спросил, где остановить машину.
Прощаясь, она смотрела на него широко открытыми заплаканными глазами и спрашивала все время одно и то же:
– Ты когда едешь?
– Я уже сказал: завтра.
– Ах, да – ты сказал. Значит, завтра?
– Да, завтра.
– Я приду к тебе в гостиницу и провожу на вокзал.
– Конечно, приходи.
Он пожал ей руку, и она с удивлением почувствовала, что ладонь у него дрожит. «Долго сидел за рулем», – подумала она.
Поезд уходил вечером, и Тамара пришла в «Арктику», когда уже по часам кончался день. Неяркое солнце стояло высоко в небе, и Тамара, рассматривая свою тень, морщилась: маленькая и смешная, как такса.
Больше ничего не замечала вокруг. Сегодня ее жизнь станет пустой и бесцельной, и останется тогда только работа и ожидание работы, чтобы не сойти с ума. Как он сказал? Ах, да: «Если в жизни есть ямы, надо шире шагать». Она поедет за ним в пустыню, заболеет малярией, и ее будут кусать кара-курты, фаланги и что там еще? Черт с ними, пусть кусают, она все равно поедет за ним не сегодня – завтра, не завтра – через год.
Она механически поднялась на второй этаж и постучала в номер. Ничего не услышав в ответ, толкнула дверь – и увидела Нила. Он склонился над переполненным чемоданом и пытался закрыть его..
Тамара села на потертый матерчатый диванчик, уперла подбородок в кулачки и глядела прямо перед собой, ничего не видя.
– Почему не здороваешься? – спросил Нил.
Она не могла отказать себе в удовольствии запустить шпильку:
– Я полагала, что первыми это делают мужчины. Но забыла, что в этой комнате только две бабы.
Он улыбнулся и заметил миролюбиво:
– Вот и глупо. Я поздоровался.
– Значит, уезжаешь?
– Да.
– Ну, уезжай, – сказала она, и по ее лицу потекли слезы обиды и унижения. – Уезжай, дурак. Но я тебя все равно найду. Ты не мужчина, ты замороженная треска. И я тебя люблю...
Она почти бредила. Нил, казалось, ничего не слышал. Он покопался в карманах и. сказал, разглядывая какие-то бумажки и краснея:
– Ты не сердись, ладно? Я купил два билета на поезд. Помнишь, кто-то говорит у Горького: «Живи влюблен, лучше этого ничего не придумано!». Я только теперь понял это как следует. Ну вот, прямо сказал, что думаю. Теперь твоя очередь.
Она плакала у него на груди, целовала в русую мальчишескую бороду, называла его чурбаном и треской.
А он тихо улыбался, пытался гладить ее по волосам и неловко шутил:
– Как счастье привалит – так и дураку везет, Том.
И смотрел на нее во все глаза, будто увидел впервые.
МАМА
Я помню свою маму молодой, красивой и сильной. Помню ее глаза, задумчивые, спокойные глаза, в которых постоянно светилось участие к человеку. И еще я помню мамины косы: они чуть-чуть струились запахом раннего кукурузного початка, и цвет у них был такой же, как цвет нитей в початке – серебристо-русый, или пепельно-русый, а иногда с золотым отливом. Эта, потому, верно, что солнце, запутавшись в маминых волосах, оставляло там свое тепло. И еще я очень помню: косы были толще моих рук, и когда мама позволяла мне расплетать волосы, я с трепетом закрывал себя ими.
В ту пору мой отец был совсем молодой, тоже красивый: шевелюра его походила цветом на уголь, каменный уральский уголь, без блеска.
Папа был вспыльчив, резок и справедлив. Он всегда занимался своими книгами, своими операциями и своими общественными делами.
– Полина, – говорил он маме, весело потирая руки, – сегодня у меня отличный день. Трудная операция. И хорошо кончилась.
И он увлеченно начинал рассказывать подробности, сообщал, как ведет себя оголенное сердце, когда вскроешь грудную клетку.
– Только, знаешь, пот очень натекал на глаза, а руку нельзя оторвать от скальпеля – и я злился.
Мама понимающе кивала головой, смотрела на папу добрыми любящими глазами, и мамины косы тихонько вздрагивали от волнения.
– Батя! – ныл я, не в силах проглотить кусок хлеба. – Ну, чего ты мне есть не даешь своими сердцами? Ну, чего? В прошлый обед опять про воспаления говорил! Думаешь, приятно?
И я демонстративно давился хлебом.
– Пана! – удивлялся отец. – О чем говорит этот мальчишка? Или, может, он прав?
– Нет, нет! – волновалась мама. – Он это спроста сказал. Не подумал.
– Ну, да – «спроста», – топорщился я. – Вчера за ужином тоже кого-то резал.
– Да пойми ты, – выговаривал мне отец, – это ж – моя работа. Где же мне еще о ней говорить?
– Где хочешь, – упрямился я, – а мне нечего еду портить.
Папа закипал. Он отодвигал в сторону тарелку, с гневным любопытством рассматривал меня и бросал маме, белея от возбуждения:
– Это все твое либеральное воспитание! А мальчишке розги нужны.
– Теперь за розги исключают, – морщил я брови. – За такие дела теперь против шерсти гладят.
– Боже мой! – беспокоилась мама. – Где ты набрался таких слов?
Она тревожно смотрела то на меня, то на папу. Мама очень любила папу, меня она тоже, верно, любила, но, мне казалось, меньше.
И мама начинала м о л ч а отчитывать меня: она так холодно смотрела в мою сторону, что у меня язык примерзал к нёбу.
– Он больше не будет грубить, – обещала мама, уже жалея меня, – это он так, нечаянно.
Скажи это кто-нибудь другой, – я стал бы «на дыбы» или «закусил удила», но против тихого маминого голоса у меня не было сил, и я что-то бормотал себе под нос:
– Ну, да – нечаянно... А то как же?
Тетка Лидия Матвеевна, родная сестра моей мамы, тоже всегда становилась на сторону моего отца.
– Ты пойми, – говорила она мне маминым голосом, – папа работает день и ночь. И он – хороший врач. А ты не ценишь этого.
– Я ценю, – не унимался я. – У меня вот тоже по русскому пятерка. Так что ж теперь – весь обед вам падежи рассказывать?
Тетка ахала, удивлялась и отступала от меня.
Муж тетки, Семен Алексеевич, старый большевик и политкаторжанин, был в то время наркомом Узбекской республики. Мы жили в одном городе, и дядя и тетка частенько наезжали к нам. Семен Алексеевич и отец увлеченно решали, какие-то проблемы и говорили о будущем так, будто уже побывали в нем.
Но некоторые вещи мне трудно было понять. Так, из их разговоров я уже знал, что «экономия» – это хорошо, и страшно удивлялся, что они все время «резали» эту самую экономию. Впрочем, когда однажды отец дал мне вместо гривенника пятак на мороженое и, посмеиваясь, сослался на тот же «режим экономии», я мгновенно и до конца уяснил себе смысл этой проблемы.
Дядя молчал, пока тетка пыталась привить мне уважение к моему отцу. Но как только она отступала, дядя начинал поглаживать пышные усы и весело скалить зубы. Он говорил маме:
– Ни Маркс, ни диалектика не отвергают насилия. Я полагаю, можно употребить ремень. Как думаешь, Пана?
Я плохо тогда понимал диалектику. Но то, что взрослые явно плели заговор против мальчишек, мне было куда как ясно. Величая нас при торжественных случаях «цветами жизни» и «сменой», эти взрослые не прочь были всыпать нам ремня по самому, конечно же, пустяковому поводу. А с дядей шутки были, наверное, плохие: у него был толстый матросский ремень, и он нарочно расстегивал пиджак, чтобы я это видел.
Я тихонько поворачивал лицо к маме, потому что знал: она никому не даст меня в обиду. Даже дяде, которого все уважали.
И тут я замечал на лице мамы чутошную, совсем маленькую улыбку, но ее все-таки можно было заметить. И мне становилось отчаянно весело, и я вдруг понимал, что все эти «диалектика» и «ремни» – только так, для порядка, только попугать.
Я садился маме на колени, загораживался ее косами и потихоньку смеялся от счастья.
Я не умел делиться ни с кем своими обидами или хвастать удачей. И то и другое мне казалось слабостью в человеке. Но мама была мне все равно, что я сам. Ей мог говорить все. И я сообщал маме, что по уши влюбился в свою учительницу по литературе Марью Ивановну и, видно, потом женюсь на ней. Даже выдавал маме величайшую военную тайну: мы собираемся драться улица на улицу, и я, как самый маленький, начну драку.
Мама никогда не ругала меня и не говорила длинных речей. Она погладила мне волосы и согласилась, что Марья Ивановна – хороший человек, и на ней, конечно, можно жениться. Только, разумеется, надо подождать, подрасти.
О драке мама отозвалась тоже коротко. Драка, она считала, никудышное дело, но раз я дал слово – то его надо выполнить.
Однако в торжественный и страшноватый день драки вдруг оказывалось, что мы должны ехать в гости к дяде Семену и тетке Лидии. И я сразу забывал о кулачном деле. Нет, вы должны мне поверить: я никогда не подводил товарищей и не был трусом. Но вот как-то так получалось. Я забывал обо всем на свете потому, что у дяди был настоящий казенный автомобиль, насквозь пропахший бензином и маслом. Этот автомобиль всегда сотрясался от кашля, за ним постоянно тянулась крученая кишка дыма, но в те времена не существовало других автомобилей. И мне была высшая удача – покататься, давясь ветром, на этой великолепной машине и даже подержаться за ее черный, до блеска потертый руль.
Только на другое утро, холодея от сознания своей невольной вины, я вспоминал о драке.
– Трус! Все скажут! – выкрикивал я маме. – Ты нарочно подстроила, что мы поехали в гости!
– Нет, я просто забыла, – отвечала мама и шла на улицу. Там она находила Кольку Рыжего, самого главного среди нас, и объясняла ему:
– Вчера мы были в гостях, и сын не мог выполнить своего слова.
И Колька Рыжий, грубиян и заводила всякого шума, Колька, которого никто не мог испугать и смутить, становился сразу гладким, как ручная кошка:
– А как же, тетя Полина, я это все понимаю. Это уж, конечно... нечего и говорить...
И грозился мне кулаком за спиною мамы.
В четырнадцать лет я ушел из дома. Мы жили уже в Магнитке. Думал: мама будет плакать, просить, чтоб остался, – и мне будет тяжко ее обидеть. Но она как сидела за столом, так и осталась сидеть, только глаза ее затуманились от боли, удивления и обиды. И еще я запомнил: крупно вздрагивали ее руки, будто их кололи иголками.
На один миг ноги у меня стали кисель-киселем, и я понял: скажи она – и я останусь, и ради ее слова брошу свои мечты, и свою жажду путешествий, и свое неистребимое желание жить «по себе».
Но она промолчала. И лишь умоляюще переводила милые свои глаза, полные слез, с отца на меня, с меня на отца.
– Нет, – сказал папа, поняв ее. – Хочет идти – пусть уходит. И я ничего не дам ему. Пусть заработает себе и штаны, и хлеб, и жену. Я начал раньше, чем он. В одиннадцать лет был репетитором, и сыновья лабазников, в которых я вдалбливал арифметику, звали меня Соломон Павлович. Пусть идет...
И я перебрался в общежитие, а через два года ушел бродяжить и строить новые гиганты индустрии. Мы все в ту пору мечтали об этом.
Ни тогда, ни потом я не был в обиде на отца. Я зарабатывал себе все, о чем говорил отец, и учился молчаливой драке с нуждой.
Как-то, через много лет, меня отыскали братья, и один из них промолвил, угрюмо морща брови:
– Болеет мама. Навестил бы...
Через три дня, перепрыгивая с поезда на поезд, я добрался до родного города. Нет, я родился не в этом городе. Папа привез сюда всю семью года за три до моего ухода из дома. Но я копал котлованы этого города и строил его цеха; и его лютые ветра выдубили мне кожу. И вот теперь я трясся на попутном грузовике, с наслаждением дышал дымом домен и красноватой пылью взорванной руды, потому что это был мой город, и здесь была моя мама. Больная мама. Только не опоздать бы, только бы ничего не случилось!
Она встретила меня слезами и засыпала вопросами, – я плохо помню первые минуты встречи – так были хмельны они, эти минуты восклицаний.
Потом мама спохватилась.
– Ты, верно, хочешь кушать? – спросила она. – Возьми в духовке обед, сынок. Поешь – и расскажи мне все. Как жил, сынок? Мы даже не знали, куда посылать тебе деньги. Из-за этого, может, и состарился отец.
О себе мама не сказала ничего.
Когда волнуюсь, – совсем не могу есть. И потому я тыкал ложкой в тарелку, чтобы немного обмануть маму, – и смотрел на нее во все глаза. И не видел ни ее морщинок, ни первого снега в ее милых русых косах, ни кухонных мозолей на ее руках. Ничего этого не видел. А мне сияли, лучились прямо в душу ее добрые, такие ясные и чистые глаза, которые ни обидеть, ни обмануть нельзя. Наклоняясь над маминой кроватью, я слышал нежный запах раннего кукурузного початка, струившийся от ее волос. И снова чувствовал себя маленьким несмышленым мальчишкой, маленьким, бесконечно сильным мальчишкой, у которого есть мама.
– Так расскажи мне, сынок, все про все. Я хочу знать, какой была твоя жизнь.
И я без утайки поведал маме о прожитом. Обо всем. Да, я избродил много дорог и перепробовал множество дел. Рубил железо, досиня избивая молотком левую ладонь: поначалу молоток попадал не в зубило, а в кулак. Стоял за токарным станком, строил домны, плотины и электрические станции, чтобы потом сказать себе, что жил, как человек. Все так, мама. Я ночевал в сапогах и в шинели на койке насквозь промороженного барака. Целовался с девчонкой, жившей за деревянной перегородкой. Целовался через дыру в досках, разделявших общежитие на две половины. Да, конечно, курил махорку и ел, как все, кашу-блондинку, ежедневную еду тех полудетских моих времен.
– Здравствуй, сын. Надолго ли?
Это папин голос.
Отец подает мне руку.
Это – большое доверие, и мне хочется чем-нибудь порадовать отца, сказать ему приятное.
– Знаешь, батя, – говорю я, – в памяти у меня застрял смешной случай. Ты умывайся, а я расскажу.
– Да, да, сынок, расскажи. – торопливо восклицает мама.
– Я слушаю, – нагибает посеребренную голову отец.
– Это было здесь. Тогда я строил вторую домну и, кажется, был постоянно голоден. Я не стал бы упоминать о тощей еде, но она имеет прямое отношение к моему рассказу. Так вот, был голоден и шел с работы к себе в барак. На моем пути был другой барак, в котором торговали пивом и сладкой водой. Я получал тогда, отец, двадцать девять рублей тридцать копеек в месяц, – и зашел напиться воды.
За столиком, в углу, сидел работяга-старик и баловался пивом. В ту минуту, когда увидел меня, он уже, кажется, сильно набаловался. И, верно, поэтому позвал меня к своему столу. Налил стакан пива и приказал:
– Пей, парень. Пей, раз ты – моя смена.
Я был горд вдвойне: мне оказали доверие, и я был смена рабочего класса. Для меня это много значило.
И я выпил стакан пива.
Я поминал, отец – мы жили тогда несытно, и этот стакан сильно пошатнул землю подо мной. К себе в барак я пришел великолепно веселый и разговорчивый, и обещал товарищам очень просто пройтись по одной доске, и подмигивал девчонкам через дыру в перегородке.
То были суровые времена, отец. Ты, разумеется, помнишь. Утром меня вызвали на срочное бюро комсомола и решили исключить из его рядов. И когда уже оставалось только поднять руки, чтобы оборвать мне судьбу, встал секретарь бюро и сказал:
– Я его не защищаю. Заслужил, нечего сказать. Пьяный – и молол черт-те что. Но есть смягчающее обстоятельство...
Секретарь выдержал паузу и заключил:
– Батя у него – специалист. Мужик – ничего, подходящий, я знаю. И давайте ограничимся строгачом...
Я подмигнул папе:
– Вот так, отец, ты меня здорово выручил.
Мама смотрела молодыми влюбленными глазами на папу, и добрая, немного грустная улыбка не сходила с ее губ.
Отец поерошил черную с серебром шевелюру, похрустел длинными пальцами и сообщил задумчиво:
– Выгнать тебя надо было все-таки...
И мне стало понятно, что он до самой своей смерти будет видеть во мне мальчишку, вечно вытворяющего глупости. И я улыбнулся отцу и предложил ему:
– Давай-ка, батя, выпьем по рюмке за все, что было. Не возражаешь?
И отец, который терпеть не может водку, выпил со мной, как и положено мужчинам.
Когда мама выздоровела, я уехал.
Прошло еще несколько лет.
К этому времени папу перевели в Москву, и он заведовал там больницей. Мама работала лаборанткой и вела хозяйство. Младшие мои братья были еще под ее крылом.
И вот тогда, в тот черный год, на нашу семью упало страшное несчастье. Мама внезапно и без всяких причин заболела.
Отец побелел, когда ему на консилиуме сообщили диагноз.
У мамы был рак.
Все это мне рассказали потом братья.
Маму срочно оперировали, но через месяц врачи обнаружили метастазы. Мучения и смерть должны были стать уделом моей мамы, будь проклята эта слепая неведомая болезнь!
Мой отец – упрямый и сильный человек, – и он не покорился судьбе.
Все врачи отступились от жизни моей мамы, и отец остался один на один со страшной болезнью. Он был врач – и знал, чем все должно кончиться, но не верил, не мог верить в этот конец.
Много дней боролся отец со смертью мамы, и на бледном его лице неистово горели запавшие глаза, уже только глаза фанатика, а не врача. Он перепробовал все средства и все меры, чтобы остановить болезнь. И наконец совершенно обессиленный, упал духом.
Тогда ко мне на Урал пришла телеграмма:
«Приезжай прощаться с мамой».
Я смотрел на бумажку телеграммы, и буквы прыгали в глазах.
В те дни меня призвали в армию, надо было ехать на службу. Что делать?
И я побежал в военкомат и показал телеграмму.
– Я понимаю тебя, сынок, – сказал военком, и шрам у него на лбу покраснел. – Дай мне подумать...
Он направил меня на службу в Пролетарскую дивизию столицы, чтобы я смог исполнить свой последний сыновний долг перед мамой – проститься с ней.
Я вбежал в московский дом с тяжкой мыслью, что уже поздно.
Отец сидел за письменным столом, уронив голову на руки, и серебряные его волосы вздрагивали от ветра из форточки.
Увидев меня, он поиграл желваками на скулах и кивнул на соседнюю дверь:
– Поди простись с матерью. Ночью она умрет.
Я вышел в небольшой садик под окнами, выплакался и побрел к маме.
Она лежала бессильно на постели, совсем молодая, чуть припорошенная сединой, и в глубине ее отуманенных глаз стояла мука и смертная тоска.
– Здравствуй, мамочка, – сказал я веселым, фальшиво веселым, нестерпимо чужим голосом. – Меня направили служить в Москву. И я, конечно же, сразу пришел к тебе.
Она вздрогнула, долго смотрела на меня, будто не понимала – кто перед ней. Потом заплакала, и плакала тихонько, наверное, чтоб не услышал папа.
– Ты приехал похоронить меня...
Я целовал мамины руки, гладил ее волосы, и все бормотал, не зная, что еще можно придумать:
– Что ты! Ну, что ты такое говоришь?!
Всю ночь в соседней комнате плакала тетка Лидия, кусал длинные усы дядя Семен, хмурили красные глаза мои младшие братья.
Мама умерла перед рассветом, и только ветер шевелил мамины волосы и седые волосы отца, лежавшие на ее груди.
И жизнь моя в это черное утро раскололась на две половины: все, что было раньше, и все, что придет потом, за смертью моей мамы. Последние осколки детства и юности вымела эта смерть из моей судьбы.
...Прошли года. Время протащило нас – меня и моих сверстников – по окопам и госпиталям, мотало в танках и самолетах, швыряло в атаки на города. И в самые тяжкие минуты, в самое горькое время, когда восток страны, как пружина, сжимался под нашими спинами, я помнил о маме, и ее образ был мне щит и оружие. И Родину мы звали матерью, и правду мы звали матерью, и землю свою мы тоже звали матерью. И были у всех у них русые косы до пят, и пальцы в твердых мозолях, и синие-синие очи извечной доброты. Очи моей мамы.
Не мне одному, конечно же, была мать и защитой, и утешением, и надеждой. У меня, как и у всех, были на войне и горе, и раны, и враги с трех сторон, а позади Родина, куда нельзя отступать.
И в такие минуты я звал маму, и она входила в мой сон или в мою полудрему, мудрая и красивая, какой и должна быть сыну его мать. Я видел ее отчетливо и мог обо всем говорить с ней и просить у нее совета.
«Мама, – говорил я, – на той, на прошлой войне, я бегал в атаки, и ни страха, ни колебаний не было у меня. И на этой войне я тоже хожу в атаки, мама. Но вот о чем я тебя хочу спросить. У меня жена и ребенок. Что станется с ними, если меня убьют? Может, мне надо поостеречься, мама».
И хмурились мне в ответ мамины глаза:
«У всех жены и дети, сынок. И у каждого солдата есть мать. Живая или мертвая. Что же будет с Родиной, сынок, если каждая мать благословит своего сына на трусость? Подумай.»
Я багровел от стыда и бормотал:
«Мамочка! Ты прости меня. Это я только тебя спросил. Никогда никому, кроме тебя, не говорил об этом.»
И мама светлела и уходила из моих снов или из моей дремы – молодая и мудрая, и в ее ласковых русых косах трепетали цвет и тепло солнца.
Мы дрались на косе Фриш Гаф, у моря; гнали врага по Пруссии и стали наконец перед Берлином, чтобы изготовиться к штурму. К последнему штурму войны.
И вот Берлин пал, догорали последние пожары, и копоть их садилась на простыни – белые флаги капитуляции, вывешенные врагом.
Все, кому удалось побывать в рейхстаге, что-нибудь писали на его стенах и колоннах. «Мы победили, мама!» – было написано углем у самого главного входа. Мы были хмельны от победы, и я не помню: может, это написал я, а может, и другой солдат.
...И опять шли года. Подрастали мои дети, я старел, и снова были в моей жизни, как и во всякой жизни, свои радости и свои беды, свои падения и удачи.
Пусть я теперь не молод. Все равно до конца моих дней всему мера – мамины глаза, и совесть ее, и память о ней. Не зря мы зовем матерью и землю нашу, и правду нашу, – нет ничего выше в жизни.
Я знаю: мама никогда не покривит душой – ни перед собой, ни перед людьми, ни перед сыном. Первое слово и моей жизни, и твоей жизни, слово, которое сама жизнь – мама.