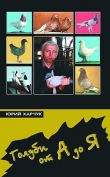Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
РАННЯЯ ВЕСНА
– Что у вас там, в чемоданчике, дядя? – спрашивает меня маленькая девочка с большими черными глазами и тугими косичками, смешно, как рожки, торчащими над головой.
– Телеграмма, Галочка, – отвечаю я. – Там у меня телеграмма.
Девочка забавно надувает щеки, косит глазами и широко разводит свои короткие ручки:
– Телеграмма? А зачем она курлычет?
– Это живая телеграмма. У нее крылья.
– Птичка? – догадывается девочка. – Покажи!
Галочкин папа, читающий газету, поднимает очки на лоб, с ласковой укоризной косился на дочь и говорит:
– Синица! Отстань от дяди. Как тебе не стыдно!
– Не синица, – отвечает Галочка, – и не стыдно. Хочу птичку.
Папа пожимает плечами, опускает очки на глаза и углубляется в газету.
Тогда я придвигаю к себе маленький чемоданчик, в котором отправилась в долгую и незнакомую дорогу лучшая птица моей голубятни – Ранняя Весна.
У Ранней Весны и вправду есть что-то общее с этим замечательным временем года. У нее – белые с еле заметным желтовато-серым отливом перья. На груди и боках – черные и синеватые пятна. Так и кажется, что на снегу, который уже начал пропитываться весенней сыростью, появились первые темные прогалинки, и на ранних этих прогалинках зацвели фиалки.
Я вынимаю Раннюю Весну из чемоданчика и показываю девочке.
– Ой, как интересно! – всплескивает руками Галочка. – Дай мне!
Я передаю ей голубку, и Галочка, неловко взяв в обе руки птицу, прижимается к ней щекой.
Наш поезд мчится к Москве, редко останавливаясь на больших станциях, запушенных легким лохматым снегом. Стоит ноябрь, на удивление спокойный и безветренный, – и за окнами вагона кто-то очень добрый и бесконечно щедрый разбросал миллионы маленьких драгоценных камешков. Когда солнце скрывается за облаками, эти камешки превращаются в снег, – то гладкий, как скатерть, то шершавый и бугристый. Но стоит солнцу пробиться сквозь облака и протянуть свои лучи к земле, – опять бесконечное множество драгоценных камешков начинает сверкать и переливаться золотыми и серебряными искрами.
Галочкин папа – метеоролог. Он сообщил нам много интересного о дожде и ветре, об атмосферном электричестве и северном сиянии. Но его рассказы утомили Галочку. Она рада, что можно поговорить о другом, лучше понятном ей.
Дети очень любят голубей. Ребятам доставляет большое удовольствие кормить и поить птиц, устраивать им гнезда, придумывать голубям имена, играть с ними.
Галочка хочет знать о голу́бке все: и почему ее зовут Ранней Весной, и зачем у нее большие белые наросты на клюве, и отчего она «почтарь»? Может быть, Галочку к этому располагает дорога: маленькой девочке больше нечем заняться.
Я подробно отвечаю на все ее вопросы. Наконец, она утомляется и засыпает.
На другой день, когда поезд останавливается на большой узловой станции, я выношу чемоданчик с Ранней Весной на перрон. Вместе со мной – Галочка и ее отец.
Солнечное морозное утро. Ни облака́, ни туман не мешают солнечным лучам достигать земли. Снег сияет и искрится так сильно, что кажется – вот-вот от него пойдет дымок и он вспыхнет веселым золотым огнем.
Я вынимаю голубку из чемодана. На правой ножке птицы в патрон вложена записка:
«Девятнадцатого ноября, одиннадцать часов утра».
Это число и час, в которые мы провожаем Раннюю Весну в дальнюю неизведанную дорогу. Голубке дано крайне важное и трудное поручение: доказать, что почтари могут в самых неблагоприятных условиях пролететь пятьсот километров и найти свой дом. Отсюда Ранняя Весна должна пересечь Башкирию, хребет, отделяющий Европу от Азии, и в одном из многих уральских городов найти на балконе второго этажа свою голубятню.
Галочка просит на прощание подержать Раннюю Весну.
– Не заблудишься, да? – спрашивает девочка птицу. – Тогда лети домой!
Лука Петрович – так зовут Галочкиного папу – тоже что-то говорит голубке и передает ее мне.
– До свидания, Ранняя Весна, – прощаюсь и я со своей любимицей. – Желаю тебе здоровья и хорошей погоды. Ну – пошла!
Голубка, подкинутая в воздух, быстро набирает высоту. Как она рада простору и свежему морозному воздуху после многочасового сидения в темном и душном чемоданчике!
Но через несколько минут птица меняет плавный, замедленный ход на быстрые, резкие движения. Это она пытается выбрать направление, дорогу к дому.
Все чувства голубки – а некоторые из них пока не ясны человеку – говорят ей, кричат ей, трубят ей: дом не здесь! Он далеко! Он очень далеко! Но надо, во что бы то ни стало надо лететь туда, к родной голубятне!
Ранняя Весна проносится в дальний конец незнакомого ей города, возвращается и делает широкие круги над вокзалом.
В это время паровоз пронзительно свистит, и мы бросаемся к своему вагону.
До Москвы нам осталось совсем уже немного, когда внезапно изменилась погода. Заревел ветер, пошел крупный резкий дождь. И сразу за дождем начала мести вьюга.
Я представляю себе, как трудно сейчас Ранней Весне, как тяжелеют у голубки крылья, как теряет она направление и, обмерзшая, изголодавшаяся, погибает в пути.
В Москве, на Казанском вокзале, Лука Петрович, пожимая мне руку, говорит:
– Э, милый, не горюйте! Выберете минутку, забегайте ко мне в министерство. Узнаем, какая погода в Башкирии. Может, и нет причин беспокоиться.
Половина следующего дня в Москве ушла у меня на всякие неотложные дела, а вечером я не выдержал и поехал в метро к Красным воротам.
Вот и метеослужба Министерства путей сообщения. Здесь служит Галочкин папа.
Лука Петрович достает из шкафа стопку синоптических карт. Это – обычные географические карты, на которые значками нанесены отметки о погоде, сделанные во многих местах нашей страны и всего мира. Лука Петрович начинает вслух разъяснять значки.
И вот что я узнаю́.
Семнадцатого ноября над островом Корсикой и западным побережьем Италии родился сильный циклон – вихрь огромных размеров. Тропический ураган в семь часов утра был еще в районе Лигурийского и Тирренского морей, омывающих берега Италии, – а ровно через сутки подошел к границам Венгрии. Поток горячего воздуха мчался на северо-восток, – и в семь утра девятнадцатого ноября был уже в районе Львова и Киева. Двадцатого ноября циклон прошел Москву. В те же дни через Польшу и Прибалтику на Европейскую часть России, в тыл циклону, двинулись потоки холодного арктического воздуха. Этот северный антициклон шел на юго-восток. Потоки теплого и морозного воздуха сшиблись. Сначала теплый воздух растопил снега́, пошли сильные дожди. Но через несколько часов победил антициклон, – и дождь превратился в снег. Начались бураны.
– Вот, – с огорчением говорит Лука Петрович и протягивает мне бумажку. – Это телеграмма, посланная сегодня по всем железным дорогам Урала.
На бланке написано:
«Ждите бураны. Установите круглосуточное дежурство на снегоуборочных машинах».
– Знаете что? – сказал на прощание Лука Петрович. – Ранняя Весна наверняка заберется по пути в какой-нибудь деревенский чердак и переждет там непогоду. Вот все и кончится отлично.
Ох, Лука Петрович, добрый Лука Петрович! Не знаете вы моей Ранней Весны! Не знаете, что такое сердце почтового голубя! Какой-нибудь беспородный голубишка, трусишка какой-нибудь, – тот может забраться в чужую голубятню и даже остаться там навсегда. Но Ранняя Весна – дочь старого Бурана и Незабудки – никогда этого не сделает. В маленьком сердечке этой птицы живет неистребимая любовь к своему дому, к родному гнезду. И пока бьется это сердечко, Ранняя Весна будет лететь все вперед. На второй, на пятый или на десятый день опустится она – полумертвая от голода и усталости – на ту голубятню, где родилась и выросла.
А если не прилетит – значит, погибла.
* * *
Все три дня, проведенные в Москве, я ждал телеграммы из дома. Молчанье значило: голубка не вернулась.
Я не выдержал и телеграфом запросил дом. Ответ пришел через четыре часа:
«Весны нет».
Через-несколько дней я был дома.
Голубятня жила своей обычной жизнью, – и только в гнезде Ранней Весны было холодно и как-то пусто. Коленька – муж Ранней Весны – сидел в самой глубине гнезда, нахохлившись, и зло поблескивал глазами. Несколько дней он почти ничего не ел и все протяжно плакал:
– У-уу-ууу!.. У-уу-ууу!
– Не плачь, Коленька, – сказал я. – Вернется к нам Ранняя Весна. Честное слово, вернется, Коленька! Ну, задержалась, ну, трудно ей, но все равно вернется домой!
На улице по-прежнему мел буран, окно быстро покрывалось морозными узорами, – и я оттирал эти ледышки тряпочкой, намоченной в теплой воде. И все всматривался в видимый кусочек неба за стеклом: не летит ли птица, не возвратилась ли моя Ранняя Весна?
Под вечер положил голову на руки да нечаянно и заснул. И мне привиделся сон, такой ясный и правдивый, что, очнувшись, я долго не мог понять: приснилось мне все это или было наяву?
Вот что я увидел во сне.
Над бескрайней степью мечется метель и низко летит Ранняя Весна. Внизу, у земли, ветер слабее, а голубке надо беречь силы. Много дней она ничего не ела, ее глаза слезятся, и она летит и летит все вперед, повинуясь только властному зову: «Домой!».
Вечером в одном из лесов под Уфой она выбирает дерево и садится на толстый мерзлый сук. Медленно клюет снег на ветке – утоляет жажду. Устало озирается вокруг: нет, здесь ничто не напоминает ей родной город!
Голубка съеживается в комочек, прижимает голову к груди – так легче уберечь тепло. И засыпает.
Утром она снова поднимается в воздух. Лететь тяжело. Чувство голода уже притупилось, но холод терзает теперь голодную птицу. На груди у Ранней Весны от дыхания – ледяной бугорок, на коготках тоже ледок.
Неподалеку от Златоуста на голубку нападает крылатый хищник. Он стрелой мчится на Раннюю Весну, – и ослабевшая голубка даже не пытается спастись. Она просто падает в снег – и закрывает глаза.
Где она?.. Что с ней?.. Она не знает, что крылатый хищник потерял из глаз ее – почти белую на белом снегу.
Ранняя Весна поднимает головку и оглядывается. Сколько ей еще осталось лететь? И куда? Хватит ли сил? Не лучше ли так вот сидеть на снегу?
Каждый удар сердца выпрямляет ее головку.
– До-мой! До-мой! До-мой! – стучит сердце.
И голубка поднимается в воздух.
В Златоусте она издалека замечает чью-то голубятню, – и слабость проникает в сердце птицы.
– Только поесть и немного отдохнуть, – а там полечу дальше, дальше – домой!
И голубка опускается на крышу.
– Вон внизу пшеница и вода. Поем и попью совсем немножко, и снова в путь.
– Но это не твоя голубятня, и ты не должна, ты не можешь ни есть, ни пить в ней.
– До-мой! До-мой! – стучит сердечко Ранней Весны.
И она снова взмывает в воздух.
В ледяной, но уже родной воздух своего края.
* * *
«Вот теперь, – думаю я, вспоминая свой сон, – она пролетела парк культуры и отдыха и подходит к своему кругу. Конечно, конечно, она уже над самой голубятней!..»
Я выхожу на балкон и, право, право же, совсем не удивляюсь тому, что из белой снежной мути, почти сложив крылья, падает на голубятню белая с черными пятнами птица.
– Вот ты и вернулась, милая моя, милая Ранняя Весна, – говорю я очень спокойно, хотя сердце у меня стучит так, будто его надолго останавливали, и оно теперь спешит нагнать потерянное время.
Потом бегу на кухню, наливаю в миску теплой воды и, торопясь, проливая воду, несу ее на балкон. Поставив миску, мчусь опять на кухню и насыпаю в сковородку пшеницы.
Выбежав со сковородкой на балкон, ищу взглядом Раннюю Весну, – и роняю сковородку.
В глаза набивается проклятый снег, снег без конца!
Он тает у меня в глазах и стекает по щекам, стекает по щекам...
Ранняя Весна лежит возле миски с водой, неловко подогнув голову, худая до неузнаваемости, будто почерневшая перед смертью.
Я поднимаю голубку, прижимаюсь ухом к ее груди, согреваю ее, дышу на нее, – и опускаю на подоконник: сердце птицы, которое влекло ее домой через сотни километров, через буран и испытания, сквозь смерть, – это любящее сердце больше не бьется.
Прощай, гордость моей голубятни, прощай, Ранняя Весна!
«Телеграмма дошла...» – пишу я в Москву Галочке – дочери метеоролога.
И ни словом не поминаю, что ее похоронил.
ЗАМОРЫШ
Они родились и росли по соседству.
Сын Куклы и Колдуна – из верхнего гнезда – уже по третьей неделе был рисованный красавец. Белый с черными пятнами по всему полю, он гордо волочил крылышки над землей, будто ленился закинуть их за спину. Голову голубишка держал высоко и тоже гордо, чтоб все видели: он не чей-нибудь сын, а чистокровный столбовой трясун.
Впечатлительные соседские девчонки, только что одолевшие свои первые книжки, назвали голубенка Бовой Королевичем.
Зато сосед Королевича, сын безымянных гонных птиц, был совершенный воробьеныш. Представьте себе, Заморыш именно и походил на эту грязно-серую пичугу. Перышки на нем торчали в разные стороны, головка нетвердо держалась на худой длинной шее, а задумчивые, почти хмурые глаза постоянно смотрели в одну точку, будто Заморыш был слепой.
Через полмесяца, когда оба голубенка впервые поднялись на круг, разница между ними стала еще приметнее.
Королевич, медлительно взмахивая крыльями, ухитрялся почти не отставать от Куклы и Колдуна, важно летавших над домом. А бедный Заморыш бросался в воздух, как неумелые пловцы шлепаются в воду. Смело, да плохо. Слабые крылышки не позволяли ему держать верный круг, и голубенок тыкался из стороны в сторону, пока, открыв клюв, не сваливался под конец на крышу. Но он тут же снова кидался в небо, снова терял высоту. И так по многу раз.
Старики уже положили вторые яйца и вскоре прогнали голубят из гнезда. Королевича это нисколько не смутило. Он сейчас же добыл себе прекрасную полочку – и живо пускал в ход клюв или крылья, если кто-нибудь пытался оспорить у него это место.
А Заморыша молодые голуби оттеснили в самый темный угол, где всегда пахло теплой прелью и сырым песком.
Дядя Саша, впервые увидев серого голубенка, выудил его из загона и посадил себе на ладонь. Старик долго разглядывал птицу, узил глаза, и я думал, что он скажет сейчас о ней беспощадные слова.
Но дядя Саша безмолвно пошевелил губами и вернул Заморыша на его место.
Потом слесарь достал с полочки Бову Королевича. Голубенок резко задергал головой, глаза его засверкали огоньком неудовольствия и испуга.
– Ишь ты! – удивился старик. – Такой малый, а поперек живет.
– Ну, как? – спросил я у своего приятеля. – Что скажешь?
– Ни сук, ни крюк, ни каракуля... – проворчал старик, и я не понял, к кому из голубят относилось осуждение.
Зато дед Михаил, завернувший как-то ко мне в гости, немедля и безоговорочно вынес приговор.
Бросив мелкий взгляд на Заморыша, дед Михаил сморщился, как от зубного нытья, и сказал, округлив пятаками глаза:
– Ну, жабенок! Душа, что в венике.
Подумав самую малость, дед Михаил дополнил характеристику:
– За него грош дать – не додать, а два дать – передать.
Бова Королевич, напротив, очень понравился старику. Деда Михаила привели в восторг и торчком вздетый хвостище, в котором было сорок перьев, и важно откинутая назад голова, и соболья шубка голубя.
Шли дни. Королевич все чаще и чаще задерживался на крыше. Красота его, казалось, достигла полного расцвета. Голубенок, верно, догадывался об этом. Он беспрерывно тряс головкой на картинно изогнутой павлиньей шее, блестел жемчужными глазами, задирал и без того высокий хвост.
Теперь уже Королевич не летал с голубями, а оставался на крыше, будто хотел и этим подчеркнуть свое отличие от других. Он надувался так, что готов был лопнуть от мальчишьего величия и гордости.
Молодые голуби побаивались трясуна. Он быстро гневался и не скупился на удары. И оттого даже взрослые птицы норовили отойти от него подальше, чтоб не попасть под уколы длинного злого клюва.
Заморыш, наоборот, почти вовсе не был заметен в шумной и пестрой компании голубей. Не выделяясь ни цветом, ни бойкостью, он, думалось, так и будет жить тихонько и бесславно за спиной остальных птиц.
И все же серый неказистый птенец обратил на себя мое внимание. Слабый и неустойчивый в воздухе, он, казалось, не хотел ни замечать своей слабости, ни мириться с нею. Всякий раз, когда стая уходила в небо, Заморыш упрямо, почти отчаянно срывался с крыши и, спотыкаясь в воздухе, гнался за голубями. Он прыгал в небо без малейших колебаний, как будто был отличным летуном, а не хилой птицей.
«У него упрямый характер, но к характеру нужны крылья, – думал я со смешанным чувством радости и огорчения. – А крылышки у Заморыша, пожалуй, никуда не годятся».
И вот однажды я очень удивился, вдруг увидев в своей стае чужого и все же чем-то знакомого голубя. Он ходил с табунком на большой высоте, иногда резко скользил вниз и так же круто забирал вверх, догоняя стаю. Славный летун!.. Он очень походил цветом и фигурой на Заморыша, но ведь тот хоть и смело, но слабо летал.
Впечатление, что я где-то встречал эту птицу, не покидало меня. Нет, это, право, не чужак. Залетная птица не будет вести себя так весело и смело на неродном кругу.
Кто же это?.. Не угадаю...
Голубь опустился на крышу вместе со стаей – и тут же слетел на перила балкона. Я даже присвистнул от удивления: передо мной спокойно сидел Заморыш.
Это была та же малокрасивая птица в грязновато-серой одежке, с голыми красными ногами и узким хвостом. И все-таки что-то сильно отличало ее от прежнего Заморыша. Что? Я никак не мог сначала обнаружить эту разницу.
Мимолетно кинув взгляд на голову птицы, я, кажется, понял, в чем дело. Из ярких, красновато-желтых глаз Заморыша почти совсем исчезло грустно-задумчивое выражение. Теперь в очах птицы можно было угадать ощущение нарождавшейся силы. И еще видел я там веселый, почти гордый, почти озорной блеск – голубь надежно узнал высоту, и она опьянила его хмельной синевой неба. Слабый, но упрямый Заморыш поверил в свои крылья.
Когда стая зашла в голубятню, я взял Заморыша с его полочки. Он сделал несколько угловатых движений, пытаясь вырваться из моей ладони, и засверкал глазами. Я почувствовал крепость этих движений и еще раз удивился: хилая птица сумела с завидной быстротой нажить себе мускулы.
Нет, он, конечно, не стал за этот срок ни силачом, ни красавцем. По-прежнему взгляды всех захожих голубятников притягивал к себе не скромный Заморыш, а важный и пестрый Бова Королевич. Ну, что ж – пусть трясун почти не летал со стаей, а только красовался на крыше, – все равно в его стройном теле была скрыта большая сила, доставшаяся ему в наследство от родителей. Те самые соседские девчонки, которые придумали Бове Королевичу имя, норовили только одного его подкормить вкусной коноплей. Это и понятно, – ведь красота нравится нам, если она беззлобна.
Однажды, перед тем как выпустить стаю на воздух, я услышал в голубятне резкий стук крыльев. Кто-то дрался.
Я открыл деревянную дверь и через вторую – сетчатую – взглянул на гнезда и полочки. Кто же это затеял ссору? Нет, ничего не видно. Старики кормили голубят, влюбленные пары помоложе пели друг другу нехитрые песенки, летные птенцы чистились потихоньку на своих полочках. Заморыш по-прежнему занимал дальнюю неудобную жердочку в темном углу, и мне показалось, что он чем-то взволнован. Но ничего тревожного я не заметил.
Уже хотел открыть загон, чтобы выпустить птиц, и снова услышал шум ссоры. Я быстро заглянул в голубятню.
Вон что! Силач Бова Королевич стоял против Заморыша и, резко выбрасывая крыло, старался ударить по голове серого голубенка. Избалованному и привыкшему к повиновению трясуну показалось мало своей жердочки, и он решил просто так, ради баловства, прогнать Заморыша с его места.
У голубей есть давний-давний, очень прочный закон. Как бы ни была беззащитна птица, никто не имеет права выгнать ее из родного гнезда или занять ее полочку. Даже самый сильный голубь, случайно попав на чужое место, старается поскорее выбраться из занятого другими жилья. Конечно, бывают в таких случаях и драки. Но незваный пришелец – пусть он силач и задира – все равно дерется в полсилы, будто понимает, что правда не на его стороне.
И вот Бова Королевич нарушил этот закон. Ни за что, ни про что он побил Заморыша да еще клюнул его в голову, чтоб неказистая серая птица знала, с кем имеет дело.
Заморыш явно сдавал. Защищаясь одним крылом, он все отходил и отходил к углу. Казалось, серый голубенок никогда не рискнет померяться силами с важным и крепким красавцем.
Трясун загнал своего противника к стене.
И вот тут-то случилось необычное. Упершись хвостом в доску и, видно, поняв, что дальше отступать некуда, Заморыш внезапно и резко выбросил крыло, и Бову Королевича, как веником, смело с жердочки.
Обозленный трясун тут же взлетел снова, и дробь ударов посыпалась на простую гонную птицу.
Уже вся стая взлетела на крышу, а Заморыш сидел на своей жердочке, мигал затекшим глазом и подергивал концами крыльев.
И все же, мне показалось, он был доволен. Знаете, почему? Потому что впервые узнал свою силу, увидев, как свалилась гордая птица от его удара. И я сказал неприметному серому голубю: «Не горюй, Заморыш, – битая посуда два века живет!».
Я думал: важный трясун, получив отпор, перестанет задирать владельца полочки. Но оказалось: плохо знаю Бову Королевича. В тот же вечер он снова очутился рядом с Заморышем, и все повторилось сначала.
Тогда я решил, что задира-трясун засиделся дома и ему надо немножко полетать, послужить голубиную службу. Я посадил Бову Королевича в садок, прикрепил этот сетчатый ящичек к багажнику велосипеда и отвез голубя на окраину города.
Вынув птицу из садка, сильно бросил ее в чистое летнее небо.
В чужом незнакомом месте голуби почти всегда набирают большую высоту, чтоб поосмотреться и выбрать верное направление к дому. Бова Королевич тоже поступил так. Но, уйдя под облака и увидев, что внизу все не свое, неведомое, он внезапно сложил крылья и камнем повалился на ближний дом.
Плюхнувшись на крышу, Королевич от страха и неизвестности открыл клюв и, часто дыша, спрятался за трубу. Я насобирал щепок и стал кидать ими в голубя. Трясун втянул голову в плечи и не двигался с места.
Потеряв надежду на возвращение птицы, я поехал домой.
Но, вернувшись к себе, пожалел голубя: «Все-таки не гонная, а декоративная птица, – думал я о молодом трясуне и тут же возражал себе: – Ну, и что ж – что не гонная? Только под синим небом, под легкими облачками, рассекая воздух грудью, добывает голубь силу и веру в себя. А иначе – не птица он...»
Вечером, придя с работы, я заглянул в голубятню. Полочка Бовы Королевича была пуста.
На следующее утро я посадил двух почтарей и Заморыша в садок и погнал велосипед на окраину города, туда, где накануне выпустил молодого трясуна.
Я и сам твердо не знал, зачем взял Заморыша. Может, мне хотелось поглядеть, как будет вести себя юный гонец. Не струсит ли, не растеряется, как растерялся его однокашник трясун?
Бова Королевич по-прежнему сидел возле трубы. Он зло потряхивал головой, и глаза его горели голодным блеском. Но он даже не подумал броситься в воздух, чтоб отыскать родной дом.
Я вынул из садка голубку и осторожно разжал ладонь. Красная почтовая птица свечой взмыла в воздух и пошла было по кругу. Но вдруг, точно опомнившись, она резко отвернула в сторону и быстро скрылась из глаз.
Обычно голуби, застрявшие где-нибудь на чужой крыше, услышав шум крыльев и увидев собрата, тут же поднимаются в небо. Бова Королевич, этот задавака и лентяй, только теснее прижался к трубе.
Тогда, кинув в трясуна щепкой, я выпустил в воздух старого почтаря. Бова Королевич не обратил внимания и на него.
Прежде чем освободить из садка Заморыша, я надолго задумался. «Трясун не полетел за почтарями, – соображал я, – значит, и Заморыш не пособит делу. А риск велик. Молодой серый голубь тоже может не найти свой дом. Это ведь первый его дальний полет...»
Пока я пытался спугнуть Бову Королевича с крыши и выпускал почтарей, вокруг меня собрались мальчишки. Они давали мне всякие советы, отчаянно жестикулируя и споря друг с другом.
Наконец, один из них сказал:
– Мы, знаешь, как сделаем? Мы вот как сделаем. Я залезу на крышу и спугну этого лодыря. А ты тогда кидай своего из садка. Ладно?..
Я согласился.
Мальчишки живо где-то добыли лестницу и вскоре очутились на крыше. Свистя и размахивая руками, они пошли к трубе, за которой прятался Бова Королевич. Трясун, вместо того чтобы взлететь, стал пятиться от мальчишек.
Я уже держал наготове Заморыша.
Очутившись на краю крыши, трясун несколько раз дернул крыльями, пытаясь удержаться, но не смог сохранить равновесия и, ломая рулевые перья, сорвался вниз. У самой земли он с трудом подгреб воздух под себя и в три взмаха оказался над домом.
Я торопливо подбросил Заморыша.
Он резко ушел вверх, набрал высоту и весело захлопал крыльями. Радовался, что наконец свободен, что волен лететь, куда захочет, что снова под его грудью тугой, как речная струя, воздух.
Обе птицы несколько раз пронеслись над домом.
Но такой полет на чужом кругу не устраивал Заморыша. Я видел это. Гонный голубь все отходил и отходил в сторону. Тревожнее, резче становились его движения. Конечно же, он должен был искать свой дом, свой круг.
И вот Заморыш выбрал дорогу и пошел по прямой.
Бова Королевич бросился было за ним, но – ленивый и медлительный – он вскоре отстал и начал топтаться на месте.
Заморыш, увидев это, замедлил движение, повернул и оказался рядом с Бовой Королевичем. Но почти сразу серый голубь направился к дому. Трясун протащился за ним над двумя кварталами, сбился и стал петлять.
И опять Заморыш вернулся за ленивым и глупым красавцем.
У меня не хватило терпения ждать их, и я сел на велосипед.
В этот воскресный день мне надо было побывать у товарища. Вернулся домой только к обеду.
Ни Заморыша, ни Бовы Королевича в голубятне не было.
Уже к самому вечеру я заметил на горизонте точку. Она то превращалась в небольшое пятнышко, то снова становилась похожей на булавочную головку. Иногда мне казалось, что рядом с первой точкой появляется вторая.
Солнце запало за горизонт, когда Заморыш появился на своем кругу. Он ходил на большой высоте, не снижаясь, будто ждал кого-то и не желал один являться в свой дом.
Внезапно гонец полетел в сторону и исчез из глаз.
Вскоре я услышал свист крыльев и, взглянув на небо, увидел два черных силуэта. И вот оба голубя опустились на крышу.
Это были Заморыш и Бова Королевич.
Я был почти уверен: теперь между молодыми голубями наступит мир. Конечно, птицы – не люди, но все-таки они как-то понимают, кто им делает добро. А ведь Заморыш оказал большую услугу сверстнику – помог ему найти свое гнездо.
Но родовитый трясун оказался совсем неблагодарной птицей. Он злом заплатил за добро Заморышу.
Утром следующего дня в голубятне опять случилась драка. И снова ее начал Бова Королевич. Он решил окончательно прогнать Заморыша с его жердочки.
Сначала гонная птица защищалась, как обычно, отбиваясь клювом и крылом и отступая в угол.
Но на полпути Заморыш остановился. Глаза его заблестели от гнева.
Бова Королевич не заметил этого. Он продолжал наступать на Заморыша, веря, что тот должен, как всегда, уступить ему.
И трясун даже не успел загородиться, когда перед его глазами с быстротой ветра дважды просвистело серое крыло. Теряя перья, почти ослепнув от ударов, Бова Королевич повалился на пол.
На следующий день он еще раз решил попытать счастья и снова был сбит вниз. И только тогда трясун решил оставить в покое гонца. Важный красавец смирился со своим поражением.
Незримо бежало время. Наступила осень. Бова Королевич по-прежнему продолжал лениться, часами просиживая на крыше. Весь его летный путь лежал от голубятни до дымовой трубы.
Зато Заморыш пользовался всякой возможностью полетать. Неутолимая жажда полета, такая же сильная, как жажда воды, тянула его в синий океан неба. Там он нередко оказывался выше других птиц, будто звал их последовать своему примеру. И казалось, что облака, как волны, качают его на своем гребне.
С каждым днем фигура серого голубя становилась округленнее, а мускулы жестче. На земле он тоже не оставался без нужного дела: подолгу и усердно чистил свои перья. Мне даже казалось, что они уже не серые, а синевато-дымчатые.
А Бова Королевич, которому красота досталась от рождения, мало ценил ее. Он не хотел причесываться и купаться, как это делали остальные птицы, и его соболий наряд постепенно ветшал и портился.
Из-за этого молодой трясун трудно перенес суровую зиму. Он часто мерз и, сильно похудев, с трудом дождался весны.
Пришло время линьки голубей. Это очень трудная пора для птицы. Почти болезнь. Даже самые большие красавцы превращаются в неловких угрюмых увальней.
Зато после линьки птица щеголяет в новом наряде, таком чистом и тугом, будто его помыли в крахмале. Иной раз бывают и неожиданности. Совершенно белый голубь после линьки становится пестрым, светло-желтый темнеет, а черный становится серым.
В самом начале линьки я уехал с дядей Сашей и дедом Михаилом на рыбалку. Жили мы в палатке на берегу ключевого горного озера, жгли костры и набирались здоровья. Иногда вспоминали о голубях. Как-то они поживают в это нелегкое для них время?
Вернувшись с рыбалки, мы все вместе отправились ко мне. Как следует отмывшись от дорожной пыли, сели за стол. Но тут я не выдержал и побежал на балкон. Хотелось поскорей поглядеть на своих голубей. Право, я очень соскучился по ним.
Первый, кого я увидел в голубятне, был Бова Королевич. Линька почти не изменила его. Он по-прежнему был в белом пере, только черные пятна немного повыцвели, стали серыми. Это полбеды. Хуже другое. Ленивый Бова Королевич уже успел запачкать свое новое оперение, и концы длинных, низко опущенных крыльев слиплись от глины. Верно, он слетал в палисадник, копался в сырой земле и поленился почистить перья.
У голубей была пора больших любовных песен, но я что-то не заметил около Бовы Королевича голубки. Неужели этот лодырь не хочет обзаводиться семьей?
Птицы ворковали и укали в своих гнездах. Многие голубки уже положили яйца, из некоторых даже выклюнулись птенчики.
Переглядев всех голубей, я вспомнил о Заморыше. Где же он? На темной угловой полочке его не было. Неужто серую молодую птицу кто-нибудь обидел и она улетела из родного дома искать себе счастья?
Но тут я обратил внимание на гнездо в сторонке, под самым потолком. Раньше оно пустовало. Теперь около него сидела голубка с белым воротничком на шее. С кем же она свила себе дом?
Я осторожно протянул руку и достал из гнезда голубя, сидевшего на яйцах. Выйдя на свет, оглядел голубя и удивился. У меня в ладони была стройная темно-голубая птица. На круглой красивой голове сверкали смелые красно-желтые глаза.
И вдруг я обрадованно охнул. Заморыш! Это же он, сын безымянных гонных птиц, смельчак и работяга. Вон как перелинял, вон какой удалец стал!