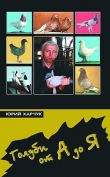Текст книги "Веселое горе — любовь."
Автор книги: Марк Гроссман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)
Моим приятелям, верно, надоело меня ждать. Дядя Саша и дед Михаил, ворча, вышли на балкон.
Увидев у меня Заморыша, дед Михаил прищурил глаза и прищелкнул языком:
– Ты где это, слышь, такую красаву добыл?
Я рассмеялся:
– Да ведь это жабенок. Ты что – не узнал его?
Дед Михаил подмигнул дяде Саше и сказал, посасывая трубку:
– Рыбаки да охотники – известно – одну правду говорят. Поговорка о том есть.
– Да нет же! Честное слово, это тот самый гонец, которого ты видел.
– Ну, да? – удивился старик. – Он что – еще раз родился или как?
Помяв в раздумье бороду, дед Михаил спросил;
– А тот-то где, – трясун?
Я кивнул на полочку.
Старики просунули в дверь головы.
– Этот, что ль? – выяснял слесарь.
– Вроде бы.
– Сел волдырем – и ни с места, – ворчал дядя Саша.
– Экая верста выросла, – без особого сожаления говорил дед Михаил. – Видать, ему не страшно с ума сойти – не с чего...
И оба старика, махнув руками, пошли в комнату.
Внезапно дед Михаил остановился и, подергав усы, сказал мне, как всегда, очень решительно:
– Ты ему, Заморышу, имя-то перемени. Нечего зря обижать птицу. Понял?
КИРЮХА
Утром ко мне постучали.
Вошел дядя Саша и прямо с порога сказал:
– Подари Кирюху, сосед.
– Какого Кирюху?
Дядя Саша протиснулся на балкон, залез в голубятню и вытащил оттуда грязновато-серого, только что отпищавшегося голубенка, купленного мной в прошлое воскресенье на рынке.
Голубенок был с виду ужасно несуразный. Начиная с его немыслимого оперения, длинных красных ног и кончая коротким, как у цыпленка, хвостом – все в нем наводило на мысль о помеси вороны с курицей.
– Вот его подари, – сказал дядя Саша.
– Возьми, – усмехнулся я. – А зачем он тебе?
– Резать будет! – решительно заявил дядя Саша и, прищурив глаза, отодвинул голубя на вытянутую руку. Он повторял этот жест всякий раз, когда хотел всесторонне оценить птицу.
– Такие глаза не голубю, а волку положены, – продолжал мой сосед. – А это что-нибудь да значит!
Что именно это могло значить, едва ли знал и сам дядя Саша, но спрашивать его было бесполезно.
Он ушел и унес с собой Кирюху – буро-серого голубенка с красными ногами и коротким куриным хвостом.
Дядя Саша принадлежит к племени голубятников, для которых голуби – это и спорт, и отдых, и любовь, вместе взятые. Сколько я его знаю, у него ни разу не хватило терпения продержать голубя в связках до тех пор, пока не обживется на новом месте. Утром купив птицу, дядя Саша уже вечером развязывал ее и, размахивая палкой с тряпкой, поднимал в воздух.
Девять голубей из десяти, конечно, улетали немедленно. Десятый не улетал или потому, что был маленький, или потому, что у него были вырваны перья из крыльев, короче говоря – потому, что он не мог улететь.
Кирюха не избежал общего правила. На следующее утро я услышал свист и вышел на балкон. Дядя Саша стоял на крыше своего домика и неистово размахивал палкой, к которой был привязан кусок его старой спецовки.
В воздухе длинными зигзагами, будто то и дело натыкаясь на препятствия, носился Кирюха. Летал он тоже не так, как все голуби – кругами или по прямой линии, – а так, точно его все время дергали на нитке: вверх, вниз, вбок.
Но вот он вдруг пошел по прямой – и мгновенно скрылся из глаз.
Дядя Саша приблизился к моему балкону, скосил глаза куда-то в сторону и грустно сообщил:
– Выписал из домовой книги.
– Бывает, – сказал я, чтобы окончательно не портить ему настроение. – Раз на раз не приходится.
В это время над нами раздался свист крыльев, и в воздухе рывками промчался грязновато-серый комок. Дядя Саша бросился к себе: выбрасывать голубей.
Но он не успел даже добежать до домика, как Кирюха плюхнулся на голубятню. Не сел, не спустился, а именно плюхнулся, почти вертикально опустив хвост.
– Ну, что я тебе говорил?! – торжествующе закричал дядя Саша. – Ведь сказывал я тебе: придет Кирюха, а ты...
И хотя дядя Саша мне совсем другое говорил, я промолчал: в такие минуты лучше ему не возражать.
Каждый новый день Кирюха вытворял невиданные вещи. То он вдруг выскакивал из дворика и начинал бегать по шоссе, как курица, то штопором ввинчивался в небо и оттуда вниз хвостом валился на голубятню.
– Я так полагаю, – совершенно серьезно философствовал дядя Саша, – что Кирюха от черта произошел.
Одно было ясно – голубенок недюжинный. Он умудрялся через очень сложные лабиринты дверок и дырок вылезать по утрам из закрытой голубятни. Он умел находить себе пищу в то время, когда другие голуби, нахохлившись, ожидали дяди-Сашиной получки. Прожив всего неделю на новом месте, Кирюха отлично ориентировался в местности.
Обычно голуби, поднявшись в воздух, делают над домом правильные круги. Кирюха с другими птицами по кругу не ходил.
В тот день, о котором я хочу рассказать, дядя Саша выбросил Кирюху вместе со всей стаей. Остальные голуби, давно уже отлетавшись, чистили перья на крыше зеленого домика, а Кирюха все еще «мотался» невесть где. Надо полагать – колесил над городом.
Но вот он появился на своем кругу и уже стал замедлять полет, понемногу опуская хвост, – что было верным признаком его желания явиться домой.
Мы с дядей Сашей внимательно за ним следили. В этот момент из-за низкой тучи вынырнул ястреб-тетеревятник. Хищник, летевший медленно, вдруг приготовился к нападению. Бесшумно работавшие крылья с огромной силой понесли птицу косо к земле.
Кирюха в тот же миг заметил смертельную опасность. Он рванулся вбок, потом нырнул куда-то между крышами и выскочил уже около моего балкона.
Но ястреб, надо думать, был старый опытный разбойник. Он точно повторил все движения голубя и, не взяв его с первого захода, взмыл вверх. Вот он замер в вышине, трепеща крыльями, точно пустельга, и, прицелившись, снова бросился вниз.
Расстояние между ястребом и голубем сокращалось с чудовищной быстротой. Дядя Саша в волнении бегал по своему дворику, махал руками, кричал что-то несуразное. Но ничего, конечно, сделать не мог.
Ястреб почти настиг Кирюху. Вытянув вперед лапы с железными когтями и сложив крылья, он со свистом падал на голубя.
И тут случилось неожиданное. Даже в минуту смертельной опасности этот необыкновенный голубь остался верен себе: спасал свою жизнь так, как мог сделать это только он один.
В тот миг между ним и ястребом осталось не больше метра. И вот внезапно Кирюха сделал крутой зигзаг и очутился у трубы моего дома со стороны, противоположной хищнику. Тетеревятник снова набрал высоту и снова, как камень из рогатки, со свистом пошел на голубя.
Кирюха, на этот раз уже молча, бросился за трубу. Но все ястреба, какие только есть на земле, давно бы уже сдохли с голода, если б не умели брать верх над другими птицами.
Голодный хищник – он, конечно, был очень голоден, если осмелился охотиться в городе! – пошел в четвертый заход. Перед самой крышей он резко повернулся, появился над голубем и вытянул лапы.
Кирюха рванулся, очутился за соседней трубой, и так, от дома к дому, потащил старого разбойника за собой. Наконец, он вернулся к нашему дому и стал вертеться вокруг железной трубы над зданием котельной.
Но долго это продолжаться не могло: силы оставляли молодого голубя. Ястреб еще раз взмыл вверх и еще раз, сложив крылья и вытянув лапы, устремился к земле.
В этот миг Кирюха очутился у проводов.
Близ наших домов густой сетью тянутся электрические провода, – и вот сюда бросился Кирюха. Но и тут ястреб сейчас же оказался рядом с ним.
...Ветер подхватил серые перья, бросил их вверх и, раскинув веером, понес над домами. На землю тяжело упало тело птицы.
Я отвернулся: дядя Саша не любил, чтобы ему сочувствовали.
Неожиданно раздался крик дяди Саши. Я бросился к старому слесарю.
На земле под проводами лежал разбившийся о них ястреб, а неподалеку от хищника, весь дрожа, широко разинув клюв и закрыв глаза, сидел Кирюха.
Дядя Саша медленно подошел к грязновато-серому, несуразному голубенку, взял его на ладонь, погладил дрожащую спину птицы и, отвернувшись, тихо сказал:
– Спасибо, Кирюха...
ШКВАЛ
Случаются же такие дни: все тихо, спокойно, и вдруг появилась где-то далеко-далеко тучка, почернела, заворочалась над горизонтом, и вот уже свистит все кругом, шумят и стонут леса, пенятся реки, ярые волны бьют в берега озер. И кажется, – не сегодня было чистое небо, ласковая теплота, а когда-то давно-давно. И не верится, что опять будет на земле тихо, солнечно, ясно.
День, о котором я хочу рассказать, был именно таким днем. Майское солнце светило тепло и ярко. Земля щедро излучала запахи трав, распускающихся цветов и березовых почек, дышала прохладой бесчисленного множества ручейков, канавок и лужиц. Небо – от горизонта до горизонта – сияло голубизной, такой бездонной и чистой, что хотелось глядеть в него без конца, лежа где-нибудь на травке в поле.
И все в природе радовалось солнцу, звонкому пению ручьев, пробуждению деревьев и трав. Без умолку трещали воробьи, медлительно и важно пролетали над дворами вороны, и соседский щенок Тришка, разевая нестрашную свою пасть, радостно лаял на мелькающих в кустах сорок.
Тут и там в воздухе носились, пари́ли, кувыркались голуби. Их владельцы стояли во дворах, сидели на крышах, махали тряпками на длинных шестах, радуясь возможности поглядеть на своих любимцев и похвастать птицей перед другими.
Я сидел на балконе и читал томик Пришвина – милого нашего сказочника, поэта родной природы. Мне казалось, что не книжку я читаю, а стоит рядом старый и мудрый человек, все на земле отлично знающий, и рассказывает мне множество всяких историй.
Вышел я на балкон на несколько минут – только дочитать рассказ, но увлекся, забыл обо всем на свете и сразу не разобрался: надо мной это так тревожно трещат сороки или в книжке говорится об этом. Отложил в сторону книжку, прислушался – и какое-то неясное беспокойство, какая-то отдаленная смутная тревога стали закрадываться в душу. Ничто как будто бы не изменилось в природе: так же заливало землю теплыми лучами солнце; так же, не шелохнувшись, стояли в палисаднике молодые деревья; так же беззаботно журчали ручейки.
И все-таки что-то изменилось, и не было уже ощущения полного покоя и безмятежности.
Длиннохвостые сороки, пролетая над домом значительно быстрее, чем раньше, тревожно трещали, силясь объяснить что-то птицам, передать им какую-то важную и срочную новость. Воробьи, до этого сновавшие под балконом, совсем куда-то исчезли, а голуби на коньке крыши съежились и прижали головки к зобам так, как они это делают зимой, в большие холода. И только щенок Тришка продолжал по-прежнему валяться на спине, скаля зубы и потявкивая на пролетающих птиц, – глупый маленький сорокадневный собачонок.
Я поднялся со скамейки и стал из-под ладони смотреть на небо.
Оно по-прежнему было чисто и на юге, и на востоке, и на севере. И только на западе я заметил небольшое серое пятнышко величиной с кулак. И пока приглядывался к этому пятнышку, оно приблизилось, выросло в небольшую черную тучку и продолжало натекать с поразительной быстротой.
Вскоре уже туча подошла к заводскому поселку на краю города, и видно стало, как тяжело она пенится и клубится, опускаясь все ниже и ниже к земле.
Такие тучи мне доводилось встречать на берегу Ледовитого океана. При виде их впадали в беспокойство птицы и звери. Эти тучи всегда приносили бедствия всему живому. Казалось, расплавленный свинец и угольная пыль висят в воздухе, мешая дышать и видеть, забивая легкие, засоряя глаза и наполняя их тяжестью.
Я не успел загнать своих птиц в голубятню. Да и никто из голубятников, как я узнал потом, не смог этого сделать.
Свирепая волна воздуха сорвала моих голубей с крыши и угнала куда-то. В то же мгновение пошел град. Да какой! Плотные куски льда величиной с голубиное яйцо миллионами маленьких бомб обрушились на землю. Через несколько секунд десятки железных крыш были сорваны с небольших домиков, а крыши, крытые толем, превращены в решето. В сотнях домов со звоном разлетелись стекла.
Внизу под балконом отчаянно визжал Тришка. Его кто-то толкал и бил, а маленький песик не видел своего обидчика и не мог ничего понять.
У дяди Саши в первые же секунды градом убило двух птиц. Третью подхватило ветром, затащило вверх – и вдруг швырнуло на землю.
Старый слесарь в одной косоворотке, без шапки кинулся спасать птицу. Он бежал от своего домика к тому месту, где упал голубь, прикрывая руками лысую голову. На полпути старик зашатался, присел на корточки. Но поднялся и опять заспешил вперед.
Добежав до птицы, дядя Саша схватил ее и сунул за пазуху. В это время несколько градин с такой силой ударили его по голове, что он медленно осел на земле. Но внезапно под рубахой у него зашевелился спасенный голубь, старик вскочил и, согнувшись, кинулся назад.
Около моего дома остановился, задыхаясь от быстрого бега, электросварщик Николай Павлович. Немного отдышавшись и не выходя из-под балкона, он закричал мне:
– Моих не видел?
И, не дожидаясь ответа, сообщил:
– Всю стаю утащило. Пятнадцать птиц. Убьет!
Я спустился вниз, занес под балкон смертельно перепуганного Тришку и сказал Николаю Павловичу:
– Придется новых голубей заводить, Николай Павлович.
– Видно, так, – невесело согласился электросварщик. И, помолчав, сокрушенно покачал головой: – А ведь какие птицы были!
* * *
Этот сумасшедший шквал кончился внезапно, как и начался. Но тут же пошел такой ливень, какой в наших местах, быть может, раз в сто лет случается.
– Ну, пойду домой, – хрипло сказал Николай Павлович, и его красивое, всегда спокойное лицо потемнело, как будто буря оставила на нем свой след. Я понял, что Николай Павлович в эту минуту смирился с гибелью всей своей голубятни.
– А все-таки ты жди, сосед, – посоветовал я, стараясь как-то приободрить товарища, да и у себя этим поддержать надежду на спасение и возвращение птиц.
Ливень прекратился в середине дня.
Через полчаса пришли мокрые – хоть выжимай их – Аркашка и Орлик.
Дичок бешено поблескивал желтыми злыми глазами, а синий почтарь все время вздрагивал и хлопал избитым крылом.
Затем под балконом появились мальчишки и принесли мне мертвых Зарю и Непутевого. Голуби погибли неподалеку от дома.
Пока мы с ребятами рыли ямку в палисаднике, чтобы похоронить птиц, – на небольшой высоте прилетели Паша и Маша, Буран, все остальные голуби. Не хватало только Коленьки.
Мне было очень жаль Коленьку. С тех пор как погибла Ранняя Весна, голубь жил одиноко и грустно. Но по-прежнему, несмотря на несчастье, он любил свой дом неизменной любовью.
Перед самыми сумерками я заметил высоко в небе точку. Голубятники на любом расстоянии безошибочно отличают голубя от всякой иной птицы. Я тоже не мог ошибиться: это был голубь. Но не Коленька.
Он снижался как-то странно, будто подгребал под себя воздух правым крылом, и приближался к моему дому по непонятной ломаной линии. Коленька так идти не мог. Да и не стал бы почтарь задерживаться на полдороге. И все-таки это был он – Коленька.
Голубь тяжело опустился на балкон, как-то боком сделал несколько шажков и присел, склонив голову.
Я взял шест, чтобы согнать Коленьку в голубятню. Но почтарь, всегда быстро улетавший от шеста, на этот раз даже не пошевелился. Я подошел и осторожно взял его.
– Что же это ты, Коленька, опоздал? – спросил я. – Наверно, тебя сильно градом побило? Да и по чужим кругам ходил напрасно. Ведь напрасно, а? – И я поднес голубя к самому лицу, чтобы рассмотреть его в наступающей темноте.
Правый глаз у Коленьки затек и слезился. Левого глаза не было совсем. Его выбило градом.
СИНЕХВОСТАЯ – ДОЧЬ ВЕРНОЙ
Она выросла в голубятне у бухгалтера тракторного завода – человека, обремененного большой семьей и потому вечно занятого, берущего работу на́ дом. Бухгалтер – отец четырех девушек – часто, оставшись наедине с женой, вздыхал:
– Вот ведь беда какая, Ниловна: ни одного мальчишки не подарила ты мне. Помирать буду – некому голубей оставить.
Ниловна махала рукой на мужа и ворчала:
– Седин своих постыдился бы: седьмой десяток, а чем занимаешься?
– Ну, чем? – вяло отбивался глава семейства. Он знал, что этот разговор, как и многие предыдущие, кончится тем, что жена пойдет к соседке и станет жаловаться ей на тяжкий недуг мужа.
– А тем, – зажигалась Ниловна, потрясая перед носом мужа не раз чиненной кофточкой, – а тем, что дочерям в институт идти, а у них по одному приличному платью! А папенька на голубей тратится. Тратишься ведь?!
– Ну, трачусь, – покорно соглашался бухгалтер.
– «Ну, трачусь»! – наступала Ниловна. – Ты сколько за эту свою, за Верную заплатил! Мыслимое ли дело, отвалил за птицу ростом с кулак тридцать целковых.
Ниловна хлопала дверью и шла к соседке. А Николай Ильич, еще раз вздохнув, отправлялся во двор, садился на скамеечку у голубятни и уже через минуту забывал и о попреках жены, и о пустяковой ошибке в годовом отчете, за которую он заплатил тремя ночами бессонницы, – и о многих других мелких и не очень мелких неприятностях.
Бухгалтер весь преображался, глядя на своих любимцев. Он то улыбался, то сокрушенно качал головой, то тихонько начинал напевать какую-нибудь песенку.
А голубятня у Николая Ильича, надо сказать, была редчайшая, замечательная была голубятня! Взять хоть ту же Верную, которой попрекала его Ниловна. Покажи Верную любому голубятнику, и не удержится он от того, чтобы не ахнуть.
Взгляните на перо голубки: синее-синее, с зеленоватым отливом у шеи. Когда падают солнечные лучи на птицу, блестит и переливается ее перо, как уральские самоцветы. Все оно искрится, сияет.
А голова! Голова у Верной небольшая, удивительно правильная. Клюв с крупным наростом, какой и положено иметь голубке чистых почтовых кровей.
А разве что-нибудь худое можно сказать о лётных качествах Верной? Нет, ничего нельзя. Триста километров проходит голубка в четыре с половиной часа. А вернется с нагона – хоть снова вези ее на то же расстояние: дышит ровно, ест и пьет в меру.
И сейчас, сидя у голубятни, Николай Ильич ищет взглядом свою любимицу и находит ее среди десятков синих, белых, красно-рябых, желтых птиц. Голубка только что слетела с гнезда, в котором у нее пищат двое маленьких, начинающих покрываться перьями птенцов. Гнездо в это время греет голубь Верной – белый в синих рябинах Снежок.
– Кралечка ты моя, – говорит Николай Ильич вслух, и птица, будто понимает хозяина, – подходит к нему и смотрит желтыми бусинами глаз на седого грустного человека.
В это время Николая Ильича замечает возвратившаяся от соседки Ниловна.
– Любуешься? – справляется она, с недоброй усмешкой поглядывая на мужа. – Перья в хвосте считаешь? Считай, считай, – на то ты и бухгалтер!
– Знаешь что, Дарья Ниловна, – в сердцах восклицает Николай Ильич, – шла бы ты по своим делам! Право. А то гляди, как бы до греха не дошло!
И он грозно раздувает седые редкие усы, хоть никому от этого не страшно.
Опять Николай Ильич сидит один на скамеечке и думает о себе. И, пожалуй, жалко ему старого смирного бухгалтера, у которого одна безобидная страсть в жизни, – и за ту пилят его вот уже, считай, сорок лет.
– Ну, посуди ты, Верная, – обращается старик к голубке, втайне надеясь, что его разговор услышит жена. – Хмельного в рот не беру, кроме как в праздники. На охоту не хожу, в карты не играю. За что же пилит она нас, Верная?
В окно высовывается Ниловна.
– Насмотрелся? Иди обедать, горе ты мое!
«Допилит она меня, – думает Николай Ильич, садясь за стол и стараясь не смотреть на жену. – Вместе с дочками допилит».
Старый бухгалтер отлично понимает, что попреки Ниловны не имеют отношения к деньгам. В конце концов, Николай Ильич не только тратится на птиц, но и продает их. Дело тут вовсе не в деньгах. Жена считает, что не к лицу главе семейства, бухгалтеру крупнейшего в стране тракторного завода заниматься «мальчишкиным делом». Правда, за сорок лет совместной жизни Ниловна не добилась никаких успехов, но, судя по всему, Николай Ильич вот-вот сдастся.
Я встретил бухгалтера вскоре после этого разговора с женой. Вид у него был совсем болезненный, шел он как-то боком, неловко неся под мышкой старый кожаный портфель.
– Не болен ли, Николай Ильич? – спросил я старика. – Лицо у тебя нехорошее.
– Нет, здоров, – смущаясь, ответил бухгалтер. – Голубей вот продал. Садики-огородики разводить буду. Картошкой на базаре торговать.
Я не поверил старому голубятнику. Да и как было поверить! И в далекие трудные годы карточной системы, и в годы войны, и в неурожайные времена после войны доставал он для своих птиц корм. Сорок лет птицу к птице подбирал голубятню – и на тебе! – вдруг продал. Да если даже иной мальчишка, месяц продержавший голубей, вдруг оказывается без них, то об этом сразу же узнает весь район. А тут голубятню продал известный любитель птицы.
– Неужели и Верную продал, Николай Ильич?!
– Ее и Снежка оставил. – Старик выпрямился, и веселые морщинки разбежались по его лицу. – Выторговал у вредной бабы.
Потом он отвел меня в сторонку с тротуара и зашептал, оглядываясь, как будто к нему кралась Ниловна:
– Я так думаю: у Верной уже большие голубята. Да за лето она еще пары две-три даст. А там и пойдет. А? Как ты думаешь?
И он засмеялся от мысли, что так ловко проведет Ниловну.
Однако получилось не так-то гладко, как думал Николай Ильич. Дарья Ниловна, обнаружив в голубятне не только Верную и Снежка, а еще и двух лётных голубят, потребовала от мужа, чтобы он немедленно продал их.
Бухгалтер ушел на голубинку. И вернулся оттуда с пустым садком.
В тот же день вечером Николай Ильич неожиданно для себя обнаружил в голубятне маленькую, белую с синими рябинами и синехвостую голубку – дочь Верной.
Как могла она найти дом, почти не зная круга, оставалось загадкой.
Неделю старик прятал от жены голубку в садке, но, наконец, пожалел и выпустил полетать.
– Человек ты уже седой, а врать не разучился! – напала Ниловна на мужа, увидев Синехвостую. – Знать ничего не хочу! Продай!
В следующее воскресенье Николай Ильич отнес Синехвостую на рынок.
В понедельник она появилась на своем родном кругу.
Николай Ильич не стал ждать очередного разговора с женой и подарил голубку племяннику, жившему в селе, километрах в пятнадцати от города.
Синехвостой не было неделю.
Вдруг она с неба упала на крышу.
Бухгалтер снова засадил ее в потайное место, – прятал от жены.
Слухи о замечательных качествах голубей обычно, как по радио, облетают любителей птиц. К Николаю Ильичу пришел пенсионер Карабанов: покупать Синехвостую.
Вернувшись домой с покупкой, Михаил Кузьмич связал Синехвостую и выпустил в голубятню. Птица забилась в темный угол и просидела там весь день.
«Ничего, – думал Карабанов. – Привыкнешь. И не таких удерживали».
Через месяц Карабанов развязал голубку и тихо выпустил ее на крышу.
Она не села на крышу, даже не сделала круга в воздухе, – умчалась к старому дому.
Раздосадованный Карабанов не пошел к Николаю Ильичу выкупать Синехвостую.
Узнав об этом случае, дядя Саша ухмыльнулся и направился к бухгалтеру. Приобретя Синехвостую, слесарь вырвал из ее крыльев часть больших маховых перьев. Теперь голубке нужен был месяц, чтобы обрасти и подняться в воздух. Очень редкие голуби уходили в свои старые дома после «обрыва».
Через двадцать один день, – только-только окрепли у нее «зорьки» – молодые перья, еще наполненные кровью, – Синехвостая трудно поднялась в воздух и, перелетая с крыши на крышу, устремилась к дому.
– Ты из меня дурочку не строй! – вспылила Ниловна, снова увидев в голубятне Синехвостую.
Николай Ильич стал было объяснять жене, что он продавал голубку, как и других птиц, а не прятал ее у соседских мальчишек, и что вырученные за продажу деньги до копейки сдавал жене. Но это только подлило масла в огонь.
– Так вон как ты считаешь! – вскипела Ниловна. – Мне что же – деньги твои голубиные нужны?! Без них нам средств не хватает? Да ты что это городишь, Николай Ильич?
Старик махнул рукой и пошел на голубинку.
Он отказал доброму десятку местных покупателей, сейчас же обступивших его на базаре, и продал Синехвостую шоферу из соседней области.
* * *
Прошло несколько месяцев, Синехвостая не появлялась в нашем городе, и о ней стали забывать.
О ней забыли все, но не забыл ее старый бухгалтер – человек, для которого каждый хороший голубь был маленьким праздником в жизни.
Однажды холодным весенним вечером ко мне позвонили. Вошел Женька Болотов – голубятник из соседнего заводского поселка. Под мышкой у него был небольшой голубиный садок.
– Не поменяем птиц? – спросил он и стал вынимать из садка голубей.
Женька не был новичком в голубином деле. Завсегдатай голубинки, он научился там выдавать ворону за ястреба и требовать за него, за этого ястреба, тройную цену.
Голуби у парнишки были очень помятые, дешевых пород и раскрасок. Но это не смущало их владельца. Каждую птицу он брал на вытянутую руку и, потряхивая голубя, кричал-что-нибудь в таком роде:
– Налетай: подешевело! Почтарь! Сын Стрелы и Грома! Черт-голубь! Давай-бери, не пожалеешь!
Почему он менял голубей, Женька не объяснил.
Мне не нужны были птицы. Во всех гнездах у меня жили пары. Поблагодарив Женьку, я собрался угостить его чаем, когда он вытащил из садка еще одну птицу.
Голубка – и по фигуре и по очертаниям клюва я сразу признал в ней голубку – производила странное впечатление. Легкий и сильный корпус, круглая голова с шишковатым клювом выдавали ее родство с почтарями. Но оперение у нее было никудышное: мутно-белое какое-то, с синими рябинами, тоже мутными, оттого, что безжалостно долга таскали ее в руках. И только хвост был синего металлического цвета с белыми перьями по бокам, – хвост знаменитой птицы из голубятни Николая Ильича.
«Неужели Синехвостая?» – соображал я, тщательно осматривая голубку.
Да, это была она – маленькая рябая птица – гордость и любовь старого бухгалтера с тракторного завода.
– Ты знаешь, кого собираешься менять? – спросил я Женьку.
– Знаю, – ухмыльнулся он. – Это бухгалтерова птица.
Я отдал Женьке голубку шоколадного цвета и переложил Синехвостую в свой садок.
Уже прощаясь с Женькой, спросил:
– Как она к тебе попала?
– Видно, издалека домой летела, – ответил Женька. – Немного не дошла – темно стало. На мою крышу села. Я ее ночью уже сеткой накрыл.
– Что ж ты не оставил ее себе? – полюбопытствовал я, все еще не веря,-что в руках у меня та самая Синехвостая, о которой с уважением и завистью говорили все голубятники города.
– Уйдет! – ухмыляясь, сказал парень. – Мне не удержать. Старики держали, и у тех ушла. И у тебя уйдет.
Я купил Синехвостой мраморного почтаря – красивого и, как после оказалось, глупого голубя.
Мне хотелось получить от Синехвостой двух голубят, – на большее я не надеялся. Потом я выпущу птицу из гнезда, – и она уйдет к бухгалтеру, как уходила уже не раз из чужих домов.
Впрочем... Впрочем, может быть, ей понравится у меня и – кто знает? – вдруг она останется жить на балконе. Тогда все голубятники, сколько их есть в городе, будут приходить ко мне, восхищенно качать головами, вздыхать и удивляться.
Все шло как нельзя лучше. Синехвостая положила яйцо, – и в начале лета у нее в гнезде появился голый слепой птенец.
Через два дня после рождения малыша я, впервые за месяц, дал голубке свободу. Она прошла два медленных круга над домом, будто раздумывала, – потом отвернула и скрылась из глаз.
Под балконом уже толпились мальчишки, решившие посмотреть, на обгон Синехвостой. Женька Болотов что-то весело объяснял своим товарищам, – и я очень ясно представлял себе, что мог говорить сейчас этот парень.
Через полчаса, пригласив с собой дядю Сашу, я пришел к старому бухгалтеру.
Синехвостая сидела на коньке его голубятни и спокойно обирала перышки.
– Отдай мне ее на время, – сказал я бухгалтеру. – Подрастет птенец – верну.
– Не проси ты ее, пожалуйста, – взмолился Николай Ильич, и даже слезы выступили у него на глазах от необходимости отказать хорошим людям. – Не проси! Пока ее не было – извелся весь. Вернется к тебе – тогда другое дело. А так не проси. Не дам!
Мраморный почтарь, оставшись один, исправно кормил птенца несколько дней. Потом стал скучать. Он все чаще слетал с гнезда и, съежившись, сидел на крыше.
Я решил немного развлечь его и как-то утром отнес в парк и там выбросил в воздух.
Мраморный не нашел дороги домой, весь день носился по городу и вечером оказался в чужой голубятне одного совсем маленького мальчишки.
В тот же вечер ко мне на балкон опустилась Синехвостая. Она, торопясь, слетела в гнездо и бросилась к малышу, махавшему крыльями и пищавшему во все горло от голода,
Оставлять голубку одну, без голубя, было нельзя: она немедленно ушла бы к родному дому. Пришлось срочно купить ей подвернувшегося под руку старого ту́рмана.
* * *
Как только малыш подрос, Синехвостая снова положила яйца.
Через несколько дней я открыл гнездо. Голубь и голубка попеременно полетали по кругу, но вернулись домой.
Так случилось и на второй и на третий день. Я торжествовал: Синехвостая, наконец, полюбила новый дом! Здесь у нее были дети, муж, и она никуда больше не собиралась улетать.
Приходили знакомые голубятники, заглядывали в гнездо Синехвостой.
– Не надо было Николаю продавать ее так часто, – проворчал Карабанов, – мучили голубчешку – связывали, обрывали. Надоело ей..
На том и сошлись.
* * *
В конце лета вот-вот должны были проклюнуться у Синехвостой птенцы, – голубка загрустила. Голубь ей попался скучный и по-голубиному, наверно, некрасивый; а может быть, и не он – старый турман – был тому виной.
Синехвостая подолгу без движения сидела на крыше и часто посматривала на север, где был ее старый дом.
Однажды теплым августовским утром она решительно поднялась в воздух и стала набирать высоту.
Чем выше поднималась голубка, тем сильнее сплющивался круг ее полета, превращаясь в огромную вытянутую букву О. Птица все дальше и дальше отходила от моего дома, будто ее тянуло на север магнитом, и она все слабее и слабее сопротивлялась этой непонятной и властной силе.
И вот темная точка расплылась и растаяла в небе.
* * *
Вечером я пошел к бухгалтеру, надеясь больше на Дарью Ниловну: старуха заставит мужа продать ненавистную ей птицу.
На стук никто не ответил мне.
Я заглянул в щель калитки и... замер от удивления: у голубятни стоял улыбающийся Николай Ильич, а рядом с ним сидела на скамеечке Дарья Ниловна. Лицо старой женщины все светилось. В ладонях она держала Синехвостую и шепотом говорила ей что-то очень доброе, очень ласковое.
Я немного потоптался около калитки и, растерянно улыбаясь, на цыпочках пошел прочь.