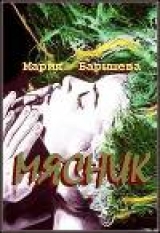
Текст книги "Мясник (СИ)"
Автор книги: Мария Барышева
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 43 страниц)
С другой стороны, может все-таки стоит сегодня «поводить» Арика последний раз – что называется, совершить контрольную прогулку. Допоздна. Вдруг я что-то упустила? Вдруг у Кужавского еще остался какой-то секретик, какая-то шкатулочка, укрытая от моих и чужих глаз – хорошо укрытая, тщательно, и черт его знает, что в этой шкатулочке может оказаться. Какой бы идиотской ни была работа, ее нужно доводить до конца. Я ведь тогда сказала Чистовой, что сделаю все в точности, как если бы меня попросила об этом Надя, а значит нечего увиливать и действовать по принципу «и так сойдет»! А значит – вперед, к Арику!
Сегодня я не собираюсь встречаться с Кужавским лицом к лицу, более того, мне нужно стать чем-то незаметным, незначительным и, конечно, незнакомым. Я быстро смываю с себя весь сегодняшний макияж, молодея на несколько лет, волосы туго затягиваю на затылке, надеваю старые джинсы, длинную теплую куртку, в каких ходит половина Волжанска, теплые ботинки и Женькину вязаную шапку, и оставляю только одну серьгу колечком – в левом ухе. Потом внимательно смотрю на себя в зеркало, приняв соответствующее выражение лица, и из блестящего эллипса на меня в ответ смотрит стандартный невыразительный подросток, не обезображенный интеллектом и высокими чувствами. Я выключаю в коридоре свет – совсем хорошо – маленький, несмотря на куртку явно хлипкий, подозрения не внушает.
Я звоню Кужавскому из автомата возле гастронома. На работе его не оказывается, но где он, никто не знает. На всякий случай я набираю его домашний номер, не особо рассчитывая на успех, но происходит чудо – Аристарх снимает трубку, и я слышу его недовольный голос на романтическом фоне песни Эроса Рамазотти. Я кисло спрашиваю неведомого мне Петра Васильевича, Кужавский раздраженно отвечает, что здесь таких нет и не будет и бросает трубку.
Снег на сегодня не обещали, но когда я добираюсь до нужного мне дома, поднимается самая настоящая метель, крупные снежинки назойливо лезут в глаза, забиваются в рот, и ветер то и дело подхватывает их и с ненужной щедростью швыряет в прохожих целыми охапками. К счастью, дом Кужавского расположен так, что, зайдя во двор, я оказываюсь с подветренной стороны. Снег здесь падает почти отвесно, и двор можно было бы даже назвать уютным, только где-то за домом и над крышами продолжает слышаться жутковатый вой умирающей зимы – сегодня уже первое марта, и время ее правления подходит к концу – скоро, совсем скоро снег начнет превращаться в грязные лужи, лед на реке разобьют ледоколами, и вверх, к рыбокомбинату, с Каспия пойдут сейнеры, а мутно-желтая вода снова будет вся на виду…
Кужавский в своей квартире – в одном из его окон за бледными шторами тускло горит свет, остальные темны. Я устраиваюсь на скамейке под «грибком» на детской площадке – хоть время еще и не позднее, во дворе никого нет, с дороги и из окон меня не заметить, да и кто станет приглядываться в такую погоду? А окна Кужавского и подъезд отсюда хорошо просматриваются. Я сижу и жду, и время ползет мимо медленно-медленно, словно умирающая улитка. У меня есть сигареты, у меня есть немного горячего кофе в маленьком термосе и у меня есть много мыслей, которые я могу обдумать, дожидаясь… Дожидаясь чего? Зачем я сижу здесь, одна, среди темноты, холода и снега? Вероятней всего, Кужавский уже и не выйдет из квартиры, к тому же, похоже, он там с дамой. Не сидеть же мне здесь до утра? Это ведь совершенно бессмысленно. И глупо к тому же. Что я могу получить от этого бдения кроме насморка? Я наблюдала за Кужавским, и до сих пор он мне никаких сюрпризов не преподносил. А в такую погоду все как-то стараются сидеть по домам. И я вернусь домой, когда погаснет свет в окне, а дома опишу эти вечерние посиделки в двух коротких словах «Отчет окончен», потому что ждать тут больше будет нечего.
Я сижу и курю, прикрывая огонек ладонью. Вокруг надо мной возвышаются дома, сияющие сквозь пелену снега сотнями огней, и сегодня эти огни кажутся особенно теплыми и уютными. Каждый из них освещает какой-то особенный, маленький, но не менее значительный, чем Вселенная, мир – сотни, тысячи чужих миров, о которых я никогда ничего не узнаю, и в каких-то из них идут войны, в каких-то царят мир и покой, любовь и благоденствие, в каких-то очень, очень пустынно и одиноко… Там миры, а я словно сижу в межзвездном пространстве, и снег идет все гуще, ветер усиливается, завывает все громче и все страшнее, будто обманутая кем-то старая, страшная ведьма, от луны остался только крохотный огрызок-серпик, изредка проглядывающий в прорехи между тучами мутным пятном, и там, в чудовищной вышине, в этом мутном свете видно, как мечутся в неистовой бестолковой пляске крупные снежные хлопья, словно сонмы холодных белых духов, сумасшедшие стаи зимних бесов… В памяти вдруг всплывают полузабытые строчки стихотворения, которое учила много-много лет назад:
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Сколько их? Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?..
Я вздрагиваю, когда у одного из огромных тополей, растущих на углу с треском отламывается сук и падает на изгородь из кустарниковой акации, сбивая с нее снег. Ветер приглушает звук, но он все равно звучит для меня как ружейный выстрел, выдергивающий из какого-то странного состояния, когда ты связана с реальным миром только зрением, а сама улетаешь куда-то далеко, в другое место, размышляя о сотнях важных вещей – о письмах, о картинах Чистовой, о взрыве, о папке Колодицкой, об Анатолии Журбенко, который страдал от клаустрофобии, о Виктории-»тете», до которой я уже два дня никак не могу дозвониться… Я тру замерзший кончик носа, потом наливаю себе немного кофе, не доставая термос из пакета, и пью, и сразу становится и веселее, и теплее – термос хороший и температуру сохраняет долго. Хорошо, что скамейка вокруг ножки «гриба» деревянная, а не железная, иначе бы столько я на ней не высидела.
Стрелки ползут по кругу так медленно, что иногда кажется, что они и вовсе не двигаются – замерзли – добрались до десяти часов и все, а первую секунду одиннадцатого часа отсчитают только тогда, когда взойдет солнце и отогреет время. Я быстро смотрю на зашторенное окно Кужавского – уже в который раз, и тут свет за бледной шторой наконец гаснет. Вот и все, конец фильма. Наблюдательный пост демонтируется за ненадобностью, и наблюдатель отправляется домой, в горячую ванну. Что ж, все ошибаются. Сейчас докурю и…
Тяжелая железная дверь подъезда щелкает замком и открывается, выпуская в круг света высокого мужчину в темном пуховике и с забавной прической ежиком, и я инстинктивно втягиваю голову в плечи, стараясь казаться как можно меньше, хотя Кужавский видеть меня не может. Он кашляет, закрывает дверь, закуривает, смотрит на часы и быстро уходит в том направлении, откуда я пришла. Я дожидаюсь, пока Аристарх дойдет до угла дома, потом встаю, быстро прохожу через двор вдоль густой заснеженной изгороди, у торца дома замедляю шаг, и тут же на меня радостно набрасывается притаившийся за домом ветер, вышибает из глаз слезы и швыряет в лицо пригоршню обжигающих снежных хлопьев. Кужавский уже далеко впереди, и я ускоряю шаг, чтобы не потерять его из вида – он идет быстро и не оборачиваясь, да и если обернется – много ли он увидит в этом снежном хаосе?
Несмотря на то, что еще не так уж поздно, город будто вымер – прохожие почти не попадаются, машин мало, и ездят они медленно и осторожно, словно идут на цыпочках. Светофоры сквозь метель мигают, как маяки, призывая: сюда, сюда, здесь безопасно, и яркие витрины и окна ресторанчиков похожи на уютные гавани в разбушевавшемся море. Я иду за Кужавским и недоумеваю – куда он собрался на ночь глядя? В бар? На свидание? Уж не на работу, это точно. Что ж, я ошиблась, и дома он был один, иначе что можно подумать – Аристарх уложил свою даму спать и отправился к следующей? Лихо!
Кужавский доходит до трамвайной остановки и закуривает под прозрачным навесом. Я захожу туда же, валюсь на скамейку и съеживаюсь на ней, втянув голову в плечи. Кужавский не обращает на меня ни малейшего внимания. Он явно торопится – нетерпеливо топчется под навесом, поглядывает то на часы, то почему-то на небо. Я не вижу выражения его лица, но отчего-то у меня возникает странная уверенность, что снежный хаос вокруг ему очень по душе, он не боится ни снега, ни ледяного ветра, не надел ни шапки, ни перчаток, и на его левой руке холодно блестит обручальное кольцо. Изредка он кашляет – неглубокие, короткие звуки – кашель больше похож на нервный, чем на простудный, и можно даже подумать, что Аристарх хитро посмеивается, а не кашляет. Раньше я у него такого кашля не слышала.
Вскоре с лязгом и скрежетом подъезжает трамвай с почти наглухо залепленными снегом окнами. Кужавский бросает сигарету и идет к средней двери, я неторопливо бреду к задней. Пассажиров в трамвае человек пятнадцать, все они сидят, и я тоже сажусь – позади одного из них, крупного пожилого мужчины, уткнувшегося в очередной номер «Волжанских ведомостей». Меня за ним не видно, а если чуть отклониться к окну – совсем чуть-чуть, то из-за края газетного листа открывается хороший обзор. Кужавский сидит впереди, лицом ко мне, и пытается протереть в стекле окошко, продолжая кашлять. Освещение в салоне неплохое, и я вижу, что Аристарх тщательно выбрит – побрился, скорее всего, перед самым выходом. Значит, точно на свидание собрался. Ишь ты, и погода не остановила! Видать дама того стоит, интересно было бы посмотреть.
Мы едем довольно долго. В трамвае гораздо теплей, чем на улице, и меня начинает слегка клонить ко сну. В голову почему-то начинает лезть целительница Евпраксия, вычитанная Мэд-Мэксом из газеты. Третья остановка, четвертая, пятая…
Известная предсказательница, гадалка и целительница…
…шестая…
…гадалка…карты… чувства как колода карт… любое чувство так или иначе связано с другими и уходит очень глубоко в психику…глубоко, так глубоко, что его можно никогда не увидеть… никогда не почувствовать… во что превратились Светочка Матейко и Журбенко? почему в письмах жены Неволина не упоминается ни о каких изменениях, ведь она должна была заметить, должна была знать, она сама… я что – верю?! Я верю?! Во что я верю?!
…седьмая. Кужавский встает и идет к дверям. Я делаю то же самое, а, оказавшись на улице, ухожу в противоположную сторону, правда, недалеко, до угла, потом поворачиваю и иду следом за оператором, соблюдая уважительную дистанцию. Ни снег, ни ветер не утихают, но подойти ближе я пока не решаюсь. Мы идем по одному из новых районов города – огромные тополя здесь почти не попадаются, растут только молодые деревца, выглядящие довольно жалко, а высотные дома неприступны и безлики. Мы проходим через три двора, замкнутых в стенах высоток, в четвертом Кужавский вдруг сворачивает к одному из подъездов, быстро открывает железную дверь своим ключом, входит внутрь и захлопывает ее за собой.
Вот теперь точно все! Я поднимаю голову, вглядываясь в окна, чтобы хоть попробовать узнать, на какой этаж он поднимется, но ни одно из них не гаснет и не загорается. Ну, уж отсюда-то он не уйдет до утра. Интересно, кто же здесь живет – мне этот адрес незнаком. А может, это его квартира? Ругнувшись, я сажусь на скамейку в соседнем подъезде и натягиваю шапку почти на нос, потом поспешно отвинчиваю крышку термоса. Что делать – сидеть дальше? Это не тот уютный дворик – ветер здесь летает привольно, и ничто его не останавливает. Налив кофе, я пытаюсь прикрыть крышку-кружку ладонью, но ветер успевает забросить в нее горсть снега, и кофе тут же начинает остывать, и я поспешно глотаю его, чтобы не упустить ни капли тепла. Женькина квартира сейчас представляется чем-то чудесным и нереальным, а то, чем я занимаюсь, – совершенным идиотизмом. Хотя в доме горят почти все окна, и во дворе довольно светло, на какое-то мгновение меня охватывает странное ощущение тревоги, какое-то нехорошее тягостное предчувствие, а кроме того, отчего-то вдруг кажется, что и на меня кто-то очень внимательно смотрит. Вздрогнув, я оглядываюсь, потом смотрю вверх, на окна. Нервы, нервы… и все же рука тянется к карману, в котором лежит маленький, но вполне эффективный шокер, который я перед выходом переложила из сумки.
Нет, все, домой! Посидев для очистки совести еще несколько минут, я растираю щеки, встаю, но тут в двери соседнего подъезда щелкает замок, и я поспешно плюхаюсь обратно. Но к моему разочарованию из подъезда выходит не Кужавский, а какая-то женщина – высокая, в расклешенном черном пальто с капюшоном, который она опустила очень низко, чтобы снег не летел в лицо, и опушка капюшона почти мгновенно из темной превращается в белую. Едва слышно стуча каблуками, женщина проходит мимо меня, натягивая кожаные перчатки и взблескивая обручальным кольцом на левой руке – господи, какие странные, некрасивые пальцы! Я отворачиваюсь от нее, чертыхаясь про себя, и смотрю на подъездную дверь – не случится ли чуда? На первом этаже у кого-то едва слышно поет Луи Армстронг, и от звуков саксофона почему-то становится еще холодней. Я рассеянно вслушиваюсь в легкий стук каблуков удаляющейся женщины, и в этот момент до меня вдруг долетает знакомый «смеющийся» мужской кашель. Забыв об осторожности, я выскакиваю на дорожку и оглядываюсь, ища оператора и пытаясь понять, как он умудрился незаметно пройти мимо меня, но Кужавского нигде нет. Двор пуст, и единственная живая душа в нем – уходящая женщина. Кто же кашлял? Я уже решаю, что мне это послышалось, но тут женщина, словно специально для того, чтобы опровергнуть это, слегка наклоняется вперед, и у нее вырывается тот же самый кашель, который я слышала только что, а еще раньше – на трамвайной остановке. Я глупо застываю на заснеженной дорожке с приоткрытым ртом. Кашель… обручальное кольцо… походка… пальцы…толстые, короткие, совсем не женские пальцы… Быть не может!
Что за чертовщина?!
Не раздумывая больше, я стремглав кидаюсь следом за «женщиной», но тут же с трудом заставляю себя сбавить шаг и вспомнить об осторожности. Как оказалось, не зря. Если Кужавский шел совершенно беззаботно, то «женщина» то и дело оглядывается, осматривает дома, останавливается поправить сапог или отряхнуть пальто, которые в этих действиях, по-моему, совершенно не нуждаются. Иногда я иду прямо за ней, иногда оббегаю какой-то из домов, чтобы встретить ее с другой стороны, и чем дольше мы идем, тем отчетливей прорисовывается моя догадка – да какая там догадка, уже уверенность. Кашель, манера покачивать руками при ходьбе, тяжелый неженский шаг, сама походка… Это Аристарх Кужавский. Какого черта он нацепил женское пальто и женские сапоги?! Он что – трансвестит? Вот она, похоже, та самая шкатулочка… но была ли она раньше? Наташа ли ее «вытащила»? И почему же так неловко носит Аристарх свой наряд? В первый раз что ли, не привык? Может, прячется от кого, маскируется? Это я догадалась, потому что хожу за ним уже черт знает сколько, да еще и кашель его выдал, а вот другие, да и еще в такую погоду вполне могут принять его за даму.
И что?! Что?!
Интересно, он накрашен или дело ограничилось только одеждой? Жаль, пока нет никакой возможности заглянуть ему в лицо. Нет, ну надо же, а?! Я же с ним разговаривала! Он же меня кадрил! Простой, хамоватый, симпатичный мужик!
С каждой минутой я понимаю все меньше и меньше. У Кужавского, похоже, нет никакой определенной цели – он просто неторопливо кружит по городу, придерживаясь слабоосвещенных мест, – то ли гуляет, то ли ищет знакомых или наоборот, незнакомых. Я бреду следом – замерзшая, злая, полуослепшая от снега, который летит прямо в лицо – «женщина» в красивом пальто как специально постоянно выбирает направление против ветра. Пакет с пустым термосом хлопает меня по ноге, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не швырнуть его в кусты. Ходить уже страшновато – время позднее, и без того немногочисленные прохожие почти совсем исчезают, город слепнет, погружаясь в зимнюю ночь без остатка, и скрип огромных тополей, раскачивающихся на ветру, похож на вой одинокого голодного существа. Несколько раз мы выходим к реке, на которой желтовато-серый лед, припорошенный белым, доживает последние дни. Сейчас река не вызывает у меня паники, как это бывало – твердая и неподвижная, она почти не отличается от земли, и над ней так же идет снег.
Мы сворачиваем от набережной к ряду пятиэтажных домов. Впереди приветливо светятся окна крошечного гастрономического магазинчика, скорее павильона, и я хмуро думаю, что может там найдется что-нибудь горячее или, на худой конец, горячительное – я успею по быстрому зайти и захватить чего-нибудь. Но, прежде, чем мысль успевает оформиться, а мы – дойти до павильона, как яркий свет в нем гаснет и жалюзи опускаются с такой поспешностью, словно кто-то в павильоне специально ждал нашего появления. Выходит женщина – уж это-то точно настоящая женщина… по-моему… – с сумкой, в беретике и сапожках с квадратными носами. Она смотрит на часы и тщательно закрывает павильон. Женщина стоит в круге бледно-желтого света от фонаря, и, даже несмотря на метель, мне ее хорошо видно – челка цвета красного дерева, яркий макияж, пухлые губы, накрашенные коньячным цветом далеко за контур, возраст за тридцать, причем скорее далеко, чем близко за тридцать. Меня она видеть не может, на Кужавского же смотрит равнодушно и быстро уходит, опережая его метров на шесть.
«Женщина» останавливается, чтобы в очередной раз поправить застежку на сапоге, а когда снова идет, в ней что-то меняется, и я не сразу понимаю, что именно. Только, когда Кужавский сворачивает к небольшой незаасфальтированной горке, соединяющей один двор с другим, я осознаю, что в его походке, во всех движениях, до того словно расслабленных и рассеянных, появилась уверенность и упругость, он больше не бредет бесцельно и бестолково, он идет в определенном направлении. Он идет за женщиной. Я убеждаюсь в этом, когда мы проходим через два двора и небольшую футбольную площадку. Кужавский идет не так уж быстро, но расстояние между ним и женщиной постепенно и ненавязчиво начинает сокращаться. Ветер рвет капюшон с его головы, и он придерживает его руками, изредка покашливая, и его каблуки едва слышно постукивают по припорошенному снегом льду.
Район, по которому мы идем, мне знаком – он состоит из множества дворов и множества углов. Дворы очень хорошо просматриваются из конца в конец, что очень затрудняет мое продвижение – то и дело приходится ждать, пока женщина, а следом за ней и Кужавский скроются за очередным углом, выскакивать из-за своего и мчаться к тому, за которым они исчезли, чтобы повторить все заново. Красться огородами не представляется возможным – слишком много всяких заборчиков и решеток, а густых изгородей, за которыми можно укрыться, здесь нет – новостройки, голые, необжитые. Окон светится уже совсем мало, фонарей почти нет, темно, и то и дело я обо что-нибудь спотыкаюсь, несколько раз даже чуть не падаю, но злиться и чертыхаться некогда. Я испытываю самый настоящий охотничий азарт, дело, судя по всему, близится к развязке, и я почти уверена, что сейчас-то и пойму окончательно, что хранится в этой маленькой шкатулочке, которую Кужавский до сих пор старательно прятал внутри себя, под хамством, весельем, любовью к работе и усиленным интересом к женскому полу. Что он прицепился к этой дамочке? Надеюсь, он не собирается ее ограбить? Или может это его знакомая, может он хочет разыграть ее… тогда, значит, Наташка ничего у него не «забрала» или «забрала», но не все. Я машинально перекладываю пакет в левую руку, а правая словно сама по себе ползет в карман, и пальцы надежно обхватывают шокер, слегка вытаскивая его.
Женщина и Кужавский скрываются за очередным домом, и я ускоряю шаг. Я знаю, что сразу за этим домом небольшой подъем, площадочка, а за ней проходит объездная дорога и с одного бока начинается длинный ряд гаражей, за которым небольшой пустырь и опять идут дома. На пустыре когда-то хотели построить детский парк, и даже начали работы, вырыли несколько внушительных ям, завезли какие-то материалы, но потом бросили и взамен возвели рядом еще несколько серых точечных девятиэтажек, которые кажутся стелами на могилах каких-то неведомых великанов. Я осторожно, по-индейски выглядываю из-за угла, но тут же, позабыв про осторожность, скользя взбегаю по горке, пересекаю площадочку, выбегаю на заснеженную дорогу и начинаю судорожно вертеть головой по сторонам, прикрывая глаза от летящего в них снега.
Никого нет.
Хоть и темно, но дорога и длинный двор более-менее просматриваются на несколько десятков метров, и сквозь метель я бы все равно увидела темный силуэт идущего человека. И женщина, и Аристарх никак не могли уйти так быстро – даже если бы они вдруг пустились наутек, я бы все равно успела их увидеть. Я стою и оглядываюсь, теряя секунды и пытаясь сообразить, в какую сторону бежать – дома и справа, и слева. Судя по маршруту женщины, она скорее всего должна была повернуть направо, к точечному дому. Но ее там нет. И Кужавского там нет. Куда они делись?! Мой взгляд падает на длинный темный ряд гаражей, и внезапно мне вдруг хочется убежать отсюда – домой, в ванну, в постель и забыть обо всем. В руках появляется противная окольцовывающая слабость, и ощущение чего-то страшного, ощущение беды становится почти осязаемым – выплескивается на меня резко и окатывает целиком, как ведро ледяной воды. Когда я вспоминала об этом позже, мне казалось, что уже тогда я начала понимать, в чем дело, но в тот момент я ничего не понимала. Был страх. Нелепый детский страх перед неизвестностью, который тянет обратно, к освещенной улице, к остановке, к снующим машинам, к безопасности.
Гаражи.
За гаражами.
И в подтверждение мысли слабый протяжный звук, словно кто-то стукнул ладонью по железу. Возможно, были и еще звуки, но ветер заглушает почти все, он закручивает снежные вихри и веселится как никогда. Я снова беспомощно оглядываюсь
Иди домой, дура! Это не твое дело! потом быстро оббегаю первый в ряду гараж, одновременно вытаскивая из кармана шокер, и оказываюсь на пустыре, и в тот же момент в разрыв толстобрюхих снежных туч выныривает мутный лунный огрызок, давая немного слабого, призрачного света.
Я вижу их сразу – два темных силуэта – они раскачиваются, словно в каком-то нелепом танце, метрах в десяти от меня, тесно прижавшись друг к другу. Один из них раза в два ниже другого, потому что женщина – та, из гастронома – она стоит на коленях, выгнувшись назад, вцепившись себе в шею и распахнув кричащий рот, а сзади нее – высокая фигура в развевающемся пальто, сцепившая руки в перчатках на ее затылке. Капюшон сполз с головы Кужавского, подставив ветру и снегу смешную прическу-ежик, и лунный свет блестит на его оскаленных зубах, и воздух куда-то уходит из моей груди, и легкие съеживаются, и тело дергается назад, чтобы убежать… и даже отсюда, сквозь летящие белые перья я вижу, как кровь течет сквозь пальцы женщины, я вижу ее берет и пушистый серый шарф, валяющиеся на снегу.
…стала третьей жительницей Волжанска, убитой подобным образом за промежуток от начала ноября…
…была убита еще одна женщина, тридцати пяти лет, тоже с помощью проволоки…
…от начала ноября… ноября… прошлого года… ноября…
…Наташка, господи, неужели…
Мысли, обрывки мыслей пролетают сквозь мозг стремительно, как луч света сквозь темноту, а что было потом, я не помню, дальше все в дырах, то тут, то там по несколько секунд просто исчезают, изъеденные страхом и злостью. Кажется, я что-то закричала… или просто закричала… но ветер заглушает все звуки, уносит… он всегда все уносит… Но Кужавский слышит, он оборачивается. Я надеялась, что, увидев меня, он убежит – ведь Максим говорил, что одна из женщин выжила, потому что убийцу кто-то спугнул. Но на этот раз он никуда не бежит, он даже…
…я рядом с ним, я далеко от того места, где стояла вначале… он выпускает женщину и она валится в снег, хрипя и надсадно кашляя, утыкается в него лбом, словно молится, и ее пальцы скребут по снегу… Аристарх совсем рядом… только не смотреть в лицо… шокер… шокер… вот так, прямо в пальто… в живот… и кнопку… вдавливаю кнопку с такой силой, словно хочу выдавить ее с другой стороны. Но не слышно знакомого треска, и Кужавский не содрогается от мощного электрического разряда. Я жму на кнопку снова и снова, но шокер мертв, он не работает, и я роняю его, отшатываюсь и стукаюсь о холодную стенку гаража, ловя ртом мерзлый воздух вместе со снегом, а Кужавский делает шаг ко мне, и на его лице насмешка, удивление и странная строгая досада солидного человека, которого оторвали от важного дела. Он слегка разводит руки в стороны, натягивая зажатую в пальцах проволоку, и острия шипов на ней блестят влажным блеском чужой крови. Кажется, весь мир исчез, и никто не услышит, кричи не кричи, остались только снежные вихри, огрызок луны, да мы трое – высокий мужчина с искаженным лицом, я, прижавшаяся к задней стенке гаража, и женщина, которая, отчаянно и страшно кашляя, ползет на четвереньках в сторону, параллельно гаражам, оставляя на снегу пятна крови; распахнутое пальто наполовину сползло с нее и нелепо волочится следом…
…гаражи неплотно примыкают друг к другу, и немного правее вполне приличная щель, в которую я могу протиснуться – это быстрее, чем оббегать ряд заново. Я поворачиваюсь и ныряю в нее, уже мало чего соображая, но сильная рука хватает меня сзади за куртку, выдергивает обратно, встряхивает, словно тряпку, и швыряет вперед и вбок, и блестящая железная стенка стремительно летит мне навстречу. Я успеваю заслониться рукой и удар приходится на нее…
…больно… неужели никто не слышит, как я кричу?.. молния расходится с противным треском, когда он раздирает ворот моей куртки… он что-то говорит, бормочет… я брыкаюсь отчаянно, я даже два раза попадаю ему по ноге – больно попадаю, потому что он вскрикивает… пытается зажать мне рот… кусаю за ребро ладони… горький вкус крови… удар по затылку, и снег вдруг начинает темнеть… больно… и никого… никого…
…успеваю просунуть под проволоку ладонь, но это почти не помогает… шипы вонзаются в пальцы и шею… проволока режет горло… Веня, Веня… Ленька… спасите… хлопья черного снега падают с горящего неба… безликие высотки вспыхивают алым и теряют очертания… воздуха… в голове набухает огромный пузырь, полный боли… и где-то далеко вдруг странный звук – то ли хлопок, то ли… взорвали петарду? – где-то очень далеко, в другом мире… какая теперь разница… все…
Я прихожу в себя от холода и вначале не сразу понимаю, где нахожусь. Я лежу, уткнувшись носом в снег. Шея и пальцы правой руки горят огнем, в затылке и висках пульсирует тупая боль, в глазницах тоже. Я приподнимаюсь, глядя на свежие пятна собственной крови, потом ощупываю шею – она липкая от крови и уже начинает распухать. Сколько я лежала здесь – минуту, час? Почему он меня отпустил? Может он решил поиграть со мной, как кошка с мышкой – придушил, а теперь стоит сзади и посмеивается? Кашляя, я поспешно поворачиваюсь, одновременно пытаясь встать, но в голове тут же закручивается карусель, и я падаю на колени, всхлипывая от боли и страха.
Кужавский не собирается со мной играть. Он лежит совсем рядом, на спине, и его черное пальто разметалось по снегу, словно плащ колдуна. Над правой бровью у Аристарха дыра, и мертвые немигающие глаза распахнуты навстречу белым хлопьям. В руке зажат обрезок проволоки. Я ахаю и отодвигаюсь назад, и тотчас резкий порыв ветра, словно сжалившись надо мной, бросает горсть снега на застывшее лицо, припорашивая страшную рану. Я оглядываюсь – никого, я на пустыре одна. Кто бы здесь ни был, он уже ушел – убил и ушел, и его тень наверняка скользит по снегу где-то далеко отсюда. Женщина тоже исчезла бесследно – от нее остались только несколько пятен крови, уже почти засыпанных снегом, берет и шарфик.
Я снова пытаюсь подняться, не переставая осматриваться. Под руку попадается какой-то твердый предмет, и мои пальцы машинально обхватывают его. Это шокер, проклятый маленький шокер, который так меня подвел. Я запихиваю его в карман, еще раз смотрю на Аристарха и, пошатываясь и спотыкаясь, бегу вдоль ряда гаражей. Я бегу медленно, но постепенно головокружение проходит, боль в горле словно застывает, и я набираю скорость. И только оказавшись за много-много домов и дворов от страшного места, я соображаю, что совершенно забыла о своем пакете с термосом – я уронила его где-то там, за гаражами… и где-то там же потеряла шапку. Но никто и ничто в жизни не заставит меня вернуться на пустырь, где снег засыпает раскрытые мертвые глаза чудовища – бывшего клиента Чистовой.
* * *
– Что случилось?! – испуганно спросил Евгений, когда она, тяжело дыша, ввалилась в квартиру, захлопнула за собой дверь, села прямо на пол и уронила голову на руки. – Витек! Ты что?!
Вместо ответа Вита снова стянула куртку на горле и сказала странным дребезжащим голосом:
– Господи, до чего же я замерзла. Ты знаешь, Жека, я твой термос потеряла. И шапку.
– Какой к черту термос?! – он наклонился, сгреб ее в охапку и понес в гостиную. Когда, придерживая Виту одной рукой, он потянулся и включил свет, она быстро сказала:
– Только не на диван и не в кресла – запачкаю.
Евгений презрительно фыркнул и усадил ее на пухлый диван. Вита скинула с головы капюшон, наклонилась и начала дрожащими пальцами в перчатках развязывать шнурки. Он сел рядом, внимательно и настороженно разглядывая темные пятна на ее куртке, потом протянул руку и дотронулся до слипшихся взлохмаченных волос подруги.
– Елки, да ты в крови! – его голос зазвучал резко и грубовато. – У тебя же все волосы в крови! Куда…
– Это не моя кровь.
– Чья?!
– Скажу, Женьк, все скажу, только помоги мне раздеться. Мне в ванну надо, сейчас же! Да что ж так холодно-то, а?! у нас что не топят?!
Она с помощью Евгения сняла с себя испачканную куртку и швырнула ее на пол, туда же полетели перчатки. Секунду Вита, шмыгая носом, разглядывала свои пальцы, на которых кровь уже засохла, потом приподняла голову, и, увидев ее шею, Евгений глухо охнул и схватил ее за плечи.
– Господи, Витек! – он наклонился, чтобы лучше рассмотреть раны и багровую полосу от проволоки. – Ни хрена себе! Кто?.. – Евгений легко, по-кошачьи вскочил, и его глаза, обычно веселые и яркие, потемнели и словно затянулись крепким льдом, и Вита вдруг подумала, что вот «этот» Женька может и убить. – Это тот, про кого Макс рассказывал, да?! Проволочник?! Где он тебя поймал?! Где?! – он снова наклонился, внимательно вглядываясь в ее лицо и успокаивающе поглаживая по щеке. – Где, дружок? Я еще успею…







