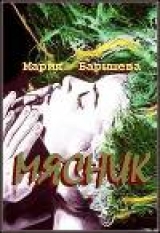
Текст книги "Мясник (СИ)"
Автор книги: Мария Барышева
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 43 страниц)
…выпить смерть… загасить огонь… выпить, она так прохладна и сладка, и больше ничего… счастье, и нет превыше… ненавижу, ненавижу вас всех, ненавижу ваши тела, ненавижу, ненавижу… тебе ничто не поможет, только этот бокал из хрусталя боли и страха, наполненный смертью, она холодна и в ней отражаются звезды, только выпей и ты больше никогда…
Края дыры треснули, и черное начало отступать, с беззвучным упругим треском сдираясь со своих пленников, точно шкурка апельсина, выворачиваясь наизнанку, съеживаясь, продолжая терпеливо петь о прохладной сладости смерти. Она изо всех сил дернула ее, срывая до конца и принимая в себя, и страшная, наполненная ненавистью амеба пролетела сквозь нее, воспламенив на мгновение дикой, безумной жаждой и превратив в себя, кричащую, ненавидящую, обманутую, и исчезла, низвергнувшись в пустоту, и вместе с ней исчезло и все остальное…
Наташа пришла в себя, стоя на четвереньках рядом со стулом, из которого соорудила импровизированный мольберт. Она хрипло вздохнула, еще раз и еще, и на пол между ее расставленными руками упала красная капля. Закашлявшись, она провела рукой под носом и почувствовала кровь. Это напугало ее – никогда, если не считать работы над Дорогой, извлечение не оказывало на нее физического воздействия. Но и то, что она только что видела, не было обычным – оно было необыкновенно сильным и… оно было д р у г и м. Наташа его не узнала – в нем не было ничего общего с тем, что она когда-то вытащила из Кости. Оно было не просто другим, оно даже имело другую природу… оно так же разнилось с предыдущим, как вода с землей. Неужели короткая жизнь взаперти настолько его изменила?
Наташа приподнялась, опираясь на стул и взглянула на лист. Да, она была здесь вся – черная, влажная, дикая, и на мгновение ей показалось, что еще не просохшие мазки туши колеблются, словно нечто упорно пытается обрести украденную свободу, вернуться туда, откуда его вырвали, и насытиться. Она отвернулась от картины и встала, пошатываясь. Комната плыла перед глазами, остатки черного жара потухали в мозгу. Вернулась боль в спине, и Наташа почти приветствовала ее – это было ощущение реального мира, ее мира, и у боли не было ни цвета, ни голоса. Она взглянула на Костю – он обвис в своем кресле на натянутых веревках с безжалостно вывернутыми назад руками, безжизненно свесив голову. Осторожно ступая, Наташа подошла к нему, наклонилась и приподняла ее.
– Костя, – она легко похлопала его по мокрым от пота, мертвенно бледным щекам, почти готовая к тому, что сейчас на нее снова взглянет нечто безумное и страшное. Но когда Лешко открыл глаза, Наташа облегченно вздохнула и вытащила скомканный галстук у него изо рта, не отрывая взгляда от прежнего знакомого лица.
– Наташка, – хрипло шепнул он и, закашлявшись, сморщился от боли в стянутых руках. – Ты?.. Развяжи меня…
– Сейчас, – она заглянула за спинку кресла, потом схватила валявшиеся на полу окровавленные ножницы и принялась разрезать путы – о том, что-бы развязать множество намертво затянутых узлов нечего было и думать. Освободившись, Костя начал осторожно трясти руками, чтобы восстановилось кровообращение, морщась и охая, и на руках от локтей до запястий начали наливаться длинные синяки. Уронив ножницы, Наташа опустилась на пол, тупо глядя на неподвижные ноги Лешко.
– Все, – сказала она. – Все. Успела! Господи, успела!
Костя протянул руку и несильно потянул ее за плечо, заставив встать, и, взглянув ему в глаза, в которых не осталось и следа недавней ярости и дикой наркотической жажды, Наташа подалась вперед и обняла его за шею, с ужасом думая о том, что могло бы случиться, если бы она опоздала.
– Откуда ты взялась? – Костя заставил ее отклониться и, закинув голову, посмотрел ей в лицо, крепко держа за руки. – Что это было?! Что это было такое?!
– Кто-то сломал твою картину, и к тебе вернулось то, что я забрала. Но теперь уже все кончилось, не волнуйся.
– Ты опять рисовала?! – спросил он упавшим голосом. – Ты рисовала… из-за меня? Черт! Я…
– Иначе нельзя было. Но теперь бояться нечего, теперь твоя картина снова у нас. Ты что-нибудь помнишь?
Лицо Кости исказилось, и в глазах на мгновение мелькнул ужас.
– Боль. Никогда еще мне не было так больно – словно я горел заживо, горел и снаружи, и изнутри. Помню какие-то куски… лицо матери, твое лицо… крики… но я словно был очень далеко отсюда… Понимаешь, я чувствовал боль… но в то же время словно смотрел на все как-то со стороны… я не мог даже пальцем шевельнуть – все словно делал кто-то другой… нет, не могу объяснить… Ну, все равно что сидеть во взбесившемся скафандре, не знаю… Наташ, а мама?..
– Она на кухне, цела и невредима.
– Слава богу! А что с твоей рукой? – он сжал ее пальцы. – Это я сделал?!
– Не ты, а то, что выпустили. И хватит об этом! Зарастет как-нибудь!
В комнату влетела Нина Федоровна и с криком кинулась обнимать сына. Наташа отошла в сторону, взглянула на часы и с удивлением поняла, что на этот раз работа заняла всего лишь час. «Совершенствуемся», – кисло подумала она и начала торопливо собирать с табуретки рисовальные принадлежности, поглядывая в окно и слыша, как Костя что-то успокаивающе бормочет Нине Федоровне. Поставив пакет рядом со стулом, Наташа еще раз взглянула на картину и пошла в ванную, где старательно умылась. Кровь из носа больше не шла, и она успокоилась, потом оглядела себя. Серебристые брюки были безнадежно испорчены, белый лифчик заляпан кровью, и в общем она выглядела, как человек, только что совершивший убийство. Наташа стащила с себя рыжий парик и еще раз взглянула на часы – было начало третьего. Теперь можно вспомнить и о людях, карауливших ее возле «Идальго», – не исключено, что они могут появиться здесь. Она вернулась в комнату и попросила Нину Федоровну выйти. Та подчинилась, глядя на нее с обожанием и суеверным страхом.
– Ты… хоть оденься – замерзнешь, – сказал Костя. Наташа взглянула на валявшийся на полу свитерок, бывший недавно светленьким и нарядным, подобрала кожаную куртку и, ежась натянула ее на себя.
– Как ты себя чувствуешь?
– Жутко хочется спать. Ты-то как, девчонка? Ты молодец, ты даже не представляешь себе, какая ты… – Костя мотнул головой. – Знать бы, какая тварь это делает… и если Ковальчук.
– Ковальчук мертва.
– Как?! – Костя вскинул на нее ошеломленный взгляд. – Она…
– Да, и Борька тоже, и еще пятеро. С ними случилось то же, что и с тобой, потому я и приехала. Слава богу, я успела.
Костя сжал кулаки и откинулся на спинку кресла.
– Не понимаю, – внезапно сказал он. – Это же дурость! Я…
– Когда ты последний раз видел Измайловых?
– Измайловых? – он растерянно пожал плечами. – Не помню. Кажется, дня два назад… нет, три, точно, три… Ты думаешь, они тоже…
– Я ничего не думаю. Теперь слушай: сейчас я схожу к ним, проверю. Телефон у них занят, так что, наверное, они дома, правда, я звонила давно… Пока меня не будет, вызови такси и собери что-нибудь из вещей – что успеешь. Я отвезу вас к своей матери – здесь вам нельзя оставаться. Если это делает кто-то из оставшихся, то он знает, где ты, и скоро сюда приедут. Они уже появились, как ты и предсказывал.
– Ты не можешь идти к Измайловым одна! – резко произнес Костя и ударил кулаками по ручкам кресла. – Мне бы сейчас встать! Не смей к ним ходить, слышишь?! Это глупо!
– Да, глупо. Но я должна… может, им нужна моя помощь. А вы собирайтесь – времени в обрез. Послушай меня, ладно?! И присматривай за картиной.
– Наташка!
Не оглядываясь, она взяла пакет и вышла из комнаты. Помедлив, зашла на кухню, кое-как прибранную Ниной Федоровной, и взяла из ящика один из ножей, сама не зная зачем – вряд ли она сможет воткнуть его в кого-нибудь из Измайловых, даже если они на нее бросятся. Попутно она заметила, что рука у нее не дрожит. Это было хорошо. Но ненормально.
Выйдя на улицу, Наташа мгновенно замерзла – тонкая кожаная курточка и легкие брюки были плохой защитой от поднявшегося колючего ветра. Стуча зубами, она побежала к дому Измайловых, слегка склоняясь набок – спина давала о себе знать.
Из дома по-прежнему не доносилось ни звука, только настойчиво царапались в стены и стекла тонкие ветви окружавших его вишен, в окнах было темно, и от них веяло каким-то тихим спокойствием – казалось, в доме мирно спят, и с минуту Наташа нерешительно топталась возле запертой глухой калитки. Потом она оглядела забор, увитый густыми зарослями ежевики и нашла местечко, где заросли были пореже. По ту сторону как раз напротив росло ореховое деревце. Наташа протолкнула свой пакет в щель, кое-как взобралась по забору, оставляя на цепких колючках клочки одежды, перебралась на ветку ореха и по стволу осторожно спустилась на землю. Под каблуком звонко хрустнула сухая веточка, и Наташа застыла, оглядываясь, потом медленно пошла к дому.
Дверь оказалась на замке. Наташа дернула ее несколько раз, потом обошла дом, проверяя окна, но все они тоже были заперты. Она попыталась заглянуть в одну из комнат, но увидела только смутные очертания мебели и крошечный красный огонек на панели телевизора, оставленного в режиме ожидания. Тогда она постучала в дверь – сначала несмело, потом все сильнее и, наконец, несколько раз ударила в нее ногой. Дверь глухо охала, но оставалась неподвижной, и никто из Измайловых не выглянул в стылую, беспокойную ночь. Наташа снова обошла дом, стуча в окна, но и на отчаянное дребезжание стекол никто не откликнулся. Она в отчаянье огляделась, потом присела и пошарила по земле. Ее пальцы наткнулись на один из округлых булыжников, которыми были обложен большой розовый куст, она подняла его – большой, ледяной, подошла к одному из окон, воровато огляделась, потом неловко ударила булыжником в стекло, и стекло звонко расплескалось под ним. Во дворе соседнего дома хрипло залаяла собака, потом лай оборвался руганью и отчаянным взвизгом. Как только все стихло, Наташа, дождавшись нового порыва ветра, оббила хищно торчащие из рамы осколки, влезла на подоконник, открыла окно и спрыгнула в комнату.
В комнате было очень тепло, и первое, что она почувствовала, был запах – не резкий, но отчетливый, липкий запах тухлятины, словно у Ольги разом испортились все продукты. Стараясь не дышать, Наташа сделала несколько шагов в темноте, вытянув перед собой руки, наткнулась бедром на стол, он дернулся, и что-то тяжелое с грохотом свалилось на пол. Наташа испуганно метнулась в сторону, стукнулась о шкаф, и одна из его дверец скрипнула, отворившись. Первым ее желанием было выпрыгнуть в окно и умчаться из этого страшного дома, в котором, она уже не сомневалась, было не просто неладно – было очень, очень плохо, совсем плохо. Потом Наташа вспомнила, что где-то неподалеку от шкафа должно стоять большое кресло, а рядом с ним – торшер. Глаза понемногу привыкали к темноте, и, двинувшись вперед, она почти сразу увидела смутные очертания абажура, нашарила выключатель и нажала, одновременно зажмурившись, потом быстро проморгалась, оглядела комнату и, ахнув, дернулась назад, толкнув торшер, и по комнате всполошенно запрыгал неяркий круг света.
Нечто тяжелое, свалившееся на пол, когда Наташа толкнула стол, оказалось Григорием Измайловым. Скорее всего он умер не меньше двух дней назад, а теплый воздух в плотно запертом доме ускорил процесс разложения. На полу и столе темнела давно засохшая кровь, выглядевшая не столько страшно, сколько странно, даже нелепо, чего нельзя было сказать о самом Измайлове, лежавшем на боку, подвернув под себя одну руку и закинув голову, мутно глядя мимо Наташи куда-то под кресло. Возле полусогнутых пальцев другой руки валялась широкая стамеска с потемневшей от крови деревянной ручкой – вероятно именно ею и были нанесены две страшные раны на шее Григория – одна короткая, точно под задравшимся подбородком, другая подлиннее, наискосок вспахавшая сонную артерию.
Несколько минут Наташа смотрела на труп с каким-то тупым ужасом, отстраненно слушая, как в соседней комнате тикают часы и шумит на кухне котел, продолжая согревать воздух в мертвом доме. На мгновение к горлу подкатилась тугая волна, но тут же отхлынула, вместо этого словно сами по себе мелко задергались сжавшиеся пальцы. Хуже всего были не обилие крови, не распоротое горло, не сине-зеленые пятна на лице Измайлова там, где оно недавно прижималось к столешнице, даже не запах, а застывшая на его губах улыбка совершенного, неземного наслаждения и счастья.
…выпить смерть… выпить, она так прохладна и сладка, и больше ни-чего… счастье…
… и еще улыбается… словно рай увидела… так счастливо…
Не отрывая глаз от Измайлова, Наташа начала осторожно передвигаться в сторону двери – так осторожно, словно Григорий мог заметить ее и броситься, продолжая улыбаться лиловыми губами. Прижавшись к стене, она, перебирая по ней ладонями, добралась до выхода и выскользнула из комнаты.
Ольгу она нашла в ванне, наполненной закисшим бельем, – одетая в длинный махровый халат, она лежала лицом вниз, и ее голые ноги торчали над бортиком. Зайдя в ванную, Наташа вначале отшатнулась, но потом, превозмогая ужас, подошла ближе. Ее трясло так, что стучали зубы, но она попыталась заставить себя думать, потому что оставались еще люди. Получается, Григорий, получив обратно то, что она у него забрала, вначале убил свою жену. Но зачем ему топить Ольгу, когда у него была стамеска? Судя по инструментам и доскам на столе, когда нечто из картины ворвалось в Измайлова, он чинил табуретку. А судя по поведению Кости, который собрался отправиться на тот свет немедленно, странно думать, что Григорий вначале пошел в ванную и убил жену, а затем вернулся, сел на стул и уж потом перерезал себе горло. Может, это случилось в ванной? Тоже непонятно, зачем возвращаться в комнату – раз уж такое дело, так ближе кухня, полная ножей и прочих вещей, пригодных для этого.
… что есть под рукой – все подойдет… о чем думаешь… последняя мысль…
С другой стороны, у Григория и Кости были разные келет – откуда ей знать, как вел себя Измайлов? Может, совершенно по другому? Нужно было уходить, но мысль о странном, по ее мнению, поведению Григория, не давала ей покоя. В конце концов, ради остальных она обязана это выяснить. Что-то в случившемся было очень неправильно, если только здесь применимо такое понятие. Наташа снова посмотрела на ванну и закусила губу, потом ее взгляд упал на прислоненную к кафельной стене прямоугольную палку, которой Измайлова, вероятно, помешивала вывариваемое белье. Она взяла ее, просунула между плечом Ольги и бортиком ванны и нажала сверху вниз – заставить себя дотронуться до Ольги она не могла. Неподатливое тело чуть колыхнулось, и Наташа, всхлипнув, нажала сильнее.
– Прости, Оля, – прошептала она, – прости, прости…
Звук собственного голоса, пусть это был и жалкий, дрожащий шепот, неожиданно добавил ей решимости. Наташа надавила на палку изо всех сил, и тело с хлюпаньем неохотно повернулось набок, и на Наташу глянула уже знакомая жуткая улыбка неземного блаженства.
…словно я горел заживо, горел и снаружи, и изнутри…
Избавиться от боли – разве ж это не блаженство?
Наташа отшатнулась, уронив палку, и Ольга с тихим, умиротворенным плеском снова перевернулась лицом вниз.
Но это же невозможно! Она не рисовала Ольгу! Она никогда ее не рисовала! Откуда взялась эта страшная улыбка – копия той, что навсегда застыла на губах Измайлова?! И другое – если Ольгу убил ее муж, остались бы следы борьбы – хоть какие-то, но в ванной все аккуратно, хозяйственно, чистенько и вообще…
…словно она сама утопилась…
Но это невозможно!
А как насчет Людмилы Тимофеевны Ковальчук?
И это невозможно.
…она улыбалась…
Замотав головой, Наташа попятилась из ванной. Под ее правым каблуком что-то шелестнуло, и она, опустив глаза, увидела густо исписанный лист бумаги. Рядом валялся надорванный конверт. Машинально Наташа наклонилась и подняла их. Ей бросился в глаза необыкновенный, на редкость красивый крупный почерк на листе, отчего то напомнивший ей об изысканности восемнадцатого-девятнадцатого веков. Почерк же на конверте был другим, корявым и небрежным, в придачу к этому на конверте было большое липкое коричневое пятно, вероятно, от шоколада. К пятну прилип клочок бумаги, словно конверт от чего-то оторвали. Ее взгляд рассеянно скользнул по данным отправителя, опустился к адресату, и пальцы Наташи сжались, комкая конверт.
– Что такое? – пробормотала она и снова прочла:
Волгоград… ул. Чуйкова… Матейко С. В.
Письмо было адресовано Сметанчику и, судя по всему, открыли его не так уж давно. Откуда оно взялось в квартире Измайловых?
Может, Света его обронила? Если так, то она была здесь и, возможно, она…
Наташа сложила письмо, вернулась в комнату и, стараясь не смотреть на Измайлова, сунула письмо и конверт в пакет, а вместо них достала телефон, но тут же вспомнила, что звонила Сметанчику из «Идальго». Впрочем, это ни о чем не говорило – за два дня Света вполне могла доехать до дома. И что? В смерти Измайловых повинна не Наташина картина, а Светка? Она что ли их убила? Ерунда.
Но что же здесь все-таки произошло?
Она нерешительно глянула на стол и тут заметила то, на что раньше не обратила внимания, – белый прямоугольник конверта, который слегка пошевеливал ветер, свободно влетающий через разбитое окно. Наташа подошла к столу и взяла конверт, попутно заметив, что воздух в доме стал немного чище. Вот с этим конвертом было все в порядке – адресат – Г.И. Измайлов. Только… этот конверт, так же как и конверт Сметанчика, был подписан все тем же корявым, приземистым почерком. Наташа быстро вытащила из пакета другой конверт и сличила. Да, почерк одинаковый, но Сметанчику письмо пришло из Твери, от некой М.С. Василевич, тогда как Григорий получил письмо из Белой Церкви от В.В. Измайлова.
Теперь уже и вовсе ничего не понятно.
Наташа огляделась в поисках измайловского письма и вскоре нашла его, но письмо лежало неподалеку от тела Григория, присохнув к полу вместе с кровью, и она не стала к нему даже подходить. Стараясь передвигаться бесшумно, она выключила в доме свет, вылезла на подоконник и спрыгнула во двор. Деревья под новым порывом ветра хлестнули ветвями по стенам и крыше дома, и Наташа вздрогнула, испугавшись, – ей показалось, что кто-то из оставшихся в доме колотится изнутри о стены, и в скрипе деревьев ей почудился их крик. Пригнувшись, она бросилась к ореху, быстро вскарабкалась на него, сдирая каблуками кору, добралась по ветке до забора и прыгнула – не отвесно, а по дуге, стараясь не свалиться в ежевику. Она благополучно миновала колючие заросли, но зато подвернула ногу и чуть не сломала себе палец. Вскочив, Наташа прихрамывая побежала назад к дому Лешко. Теперь на улице было темнее, чем раньше – луна почти не выбиралась из рваных грязных облаков, которые стремительно неслись на восток, словно табун вспугнутых лошадей, и только иногда из-за них выныривали мелкие далекие звезды.
Когда она, наконец, добралась до нужного ей дома, то была так счастлива его видеть и так спешила, что совершенно не обратила внимания на стоящий у пустого соседнего дома «форд» с потушенными фарами, которого совсем недавно там не было. Наташа вбежала во двор, открыла дверь и быстро захлопнула ее за собой, точно за ней гналась стая демонов. Она успела удивиться тому, что в коридоре нет света, а потом ее вдруг схватили сзади за шиворот и втолкнули в комнату, и чей-то голос весело сказал:
– А вот и наша подруга!
* * *
Прижавшись к стене, Наташа, побледнев, следила глазами за коротко остриженым человеком квадратного сложения, который сновал по комнате туда-сюда, зажав в зубах сигарету, и каждый раз, когда он приближался к стоявшей на стуле картине, ее сердце сжималось, но человек не обращал на нее внимания. Он говорил в свой телефон:
– Да, где ты и сказал. Да вроде нормально. А хрен ее знает… ну что, температуру ей померить что ли?! Ничего мы не делали! Да, в том доме, а в другой мы не ездили… Чего?! Да нет, еще старуха и инвалид какой-то! Куда их? Ладно. А может мы… хорошо, давай.
Он опустил трубку и недовольно посмотрел на светловолосого спортивного парня, который сидел в кресле и курил, стряхивая пепел на ковер. Его переносицу пересекала узкая вмятина, и сам нос смотрелся несколько не на месте. Светловолосый был зол.
– Сказал, сидеть и ждать. Сам приедет.
– Да? – кисло спросил светловолосый и почесал подбородок. – И сколько нам тут торчать?
– Ну, сказал, за полчаса доедет.
– Вот ведь хрень! А если кто из соседей или родственников этих припрется? Слушай, Ганс, может, мы этих двоих сразу… пока время есть, а то потом… все равно ведь…
– Дак ведь я ж его спросил. Он сказал – до его приезда не дергаться. Посидите, сказал, в картишки перекиньтесь, поглядите друг на друга… – Ганс сунул телефон в карман, внимательно посмотрел на Костю, который сжался в своем кресле, крепко вцепившись пальцами в подлокотники, и переводил взгляд с двери на окно и обратно; на Нину Федоровну, стоявшую рядом с сыном и испуганно глядящую на светловолосого, и, наконец, на Наташу, ответившую ему хмурым, презрительным взглядом, который, задержавшись на лице Ганса, скользнул затем к складному ножу с широким лезвием, которым он небрежно поигрывал, а потом она перевела взгляд на Костю. Еще раньше Лешко молча, глазами, спросил ее о результатах похода в дом Измайловых, и она едва заметно качнула головой. Для Семы и Ганса этот жест ничего не значил, но Косте он сказал очень многое, и он мгновенно ссутулился в своем кресле, и лицо его отвердело еще больше.
– Поглядеть!.. – Сема вскочил, быстро подошел к Наташе и схватил ее за подбородок, вонзив пальцы в щеки, так что ее губы выпятились вперед. – Да, я уж погляжу на эту суку, я так погляжу!..
Сзади него быстро зашелестели колеса, он повернулся, и в его руке с сухим щелчком выросло узкое блестящее лезвие.
– А ну, дуй в свой угол, увечный, пока чего не случилось! – сказал Сема, сощурившись, и Костя, взглянув на него исподлобья, нехотя толкнул колеса в обратную сторону, а Ганс подошел к Семе и потянул его за рукав, потом успокаивающе похлопал по плечу.
– Слышь, ты это… отпусти ее… Схимник сказал, чтоб с девкой ничего не случилось…
– Да пошел он!.. – Сема толкнул Наташину голову, так что она несильно ударилась затылком о стену. – Этот козел мне из-за нее нос сломал! Ты прикинь – из-за какой-то давалки!
– Ты все-таки не очень… – неуверенно пробурчал Ганс, отходя. – Схимник зря не говорит, сам знаешь. Он же без башни – так рядом и положит, как кур. Да забей ты!
– А-а, – Сема нажал ладонью на Наташино плечо и снова припечатал ее к стене, потом прижал нож к ее щеке, посмеиваясь, шмыгнул носом и улыбнулся, показав белые, безукоризненно ровные зубы. – Ну, чо, подруга, прибздела? Не пора штаныто просушить?
Наташа молча смотрела прямо в его бледно-зеленые глаза, возможно, каким-то девушкам казавшиеся красивыми. Лезвие, прижатое к ее щеке, оказалось прохладным, приятно прохладным. Было страшно, но страх был каким-то привычным, само собой разумеющимся, почти незаметным, как давний шум деревьев в темноте за окном или капающая из крана на кухне вода. Она молчала и смотрела – в глаза и дальше, дальше… и чем дольше она смотрела, тем противней ей становилось – изнутри Сема походил на большую, безнадежно сгнившую картошку, с которой чем больше гнили счищаешь, чем больше вырезаешь, тем больше остается… до тех пор, пока не останется вообще ничего.
– Гнилье! – неожиданно вырвалось у Наташи, и она оскалила зубы, и на мгновение Сема увидел в ее лице нечто такое, что заставило его отшатнуться, и прохладное лезвие исчезло с ее щеки. Потом он схватил ее за воротник куртки и встряхнул, стукнув о стену, и «молния» на куртке скрежетнула, расходясь, и на лице Семы появилась довольная, сытая ухмылка.
– О, ты смотри, Ганс, да она в одном лифоне!
– Да? – заинтересованно спросил Ганс и подошел посмотреть. – Ха, ты глянь, в натуре! Слышь, а чем вы тут до нас занимались, а? Ты что, с этим инвалидом кувыркалась, да? И как?
– Вот я бы поглядел! – хохотнул Сема. – Слышь, Ганс, а у тебя была когда-нибудь инвалидка?
Ганс флегматично пожал широкими плечами.
– Ну… была одна баба… без большого пальца на ноге – это считается?
– Не, – Сема выпятил губы и потянул замок «молнии» дальше вниз – до тех пор, пока с легким щелчком куртка не распахнулась. Наташа дернулась, но пальцы Семы несильно сжались на ее горле и вернули на место.
– Слушай, а ничо, – сказал он задумчиво. Ганс снова пожал плечами.
– Щупловата. Доска, а не баба, да и вид у нее больной какой-то. Хотя… – он покрутил головой, – в принципе, на такую бы зашевелился.
– Так может разложим, пока время есть?
Ганс нерешительно затоптался на месте, поглядывая на Наташу с неким сожалением, как сидящий на жесткой диете поглядывает на кусок торта.
– Схимник же сказал…
– Да пошел он!.. Схимник что сказал – не бить. А мы ее бить и не собираемся, только приятное сделаем. Попользуемся разок и все – ее от этого не убудет! Ну, чо? Ну, если боишься, я и сам могу! Ну, чо?
– Ладно, – проворчал Ганс, – кому поверятто в конце концов?! Давай ее в ту комнату, а я пока этих постерегу. Только, смотри, поаккуратней, она и так паршиво выглядит.
– Не плакай, Гансик, все путем будет! – Сема схватил Наташу за плечо и толкнул на середину комнаты. – Ну, давай, шевелись!
Он схватил ее за волосы и дернул, заставляя выгнуться, и в тот же момент Костя резко крутанул колеса, и кресло быстро покатилось к ним. Но Нина Федоровна опередила сына. С громким криком она, словно разъяренная птица, налетела на Сему и начала колотить его по лицу и груди, пытаясь заставить выпустить Наташу.
– Не смей! – пронзительно кричала она. – Не смей! Ты не знаешь, кто она! Ты не знаешь, что она может! Пусти ее! Пусти, стервец, пусти!
Сема завертелся, пытаясь одновременно удержать Наташу и защититься от рассвирепевшей женщины, замахал перед ней свободной рукой с ножом, стараясь отогнать, но Лешко, не обращая внимания на нож, наскакивала снова и снова, фанатично блестя глазами, и на физиономии светловолосого уже запламенела длинная царапина.
– Ганс, да убери ты от меня эту психованную! – крикнул он и тут же охнул, когда ему на ногу наехал подкравшийся сзади Костя. Выпустив Наташу, Сема, скривившись от боли, махнул ножом, но кресло ловко вильнуло в сторону. Тем временем Ганс схватил Нину Федоровну и отшвырнул в сторону, но она, едва удержавшись на ногах, тут же развернулась и снова кинулась в бой, выставив перед собой пальцы когтями, – теперь уже на Ганса, и тот инстинктивно вскинул руки, чтобы снова поймать ее и швырнуть уже как следует. Но, налетев на него, Нина Федоровна вдруг на мгновение застыла, напрягшись так, что ее тело превратилось в единый, сведенный судорогой мускул. Глаза женщины расширились, а бледные губы раскрылись в беззвучном вопле боли, а потом она начала медленно оползать вниз, скользя ладонями по кожаной куртке Ганса.
– Ох ты черт! – растерянно и досадливо сказал он и резким движением выдернул нож, вошедший в живот Лешко почти по рукоять, потом оттолкнул ее, и она медленно осела набок. Костя, закричав, кинулся к ней, Наташа в ужасе застыла посреди комнаты, а Сема попятился к Гансу, чертя перед собой в воздухе ножом какие-то узоры, точно отгонял злых духов.
– Вот блин, неудачно как! – проскрипел он. – Ну, теперь точно придется и этого… Что ж ты?!..
– А я при чем?! – огрызнулся Ганс. – Она сама напоролась!
При этих словах Костя поднял голову и уставился ему в лицо остановившимися глазами, а потом ударил ладонями по ободам колес, и кресло рванулось вперед так, словно у него был реактивный двигатель. Ганс едва успел отскочить в сторону, потом он прыгнул за спинку кресла и, прежде чем Костя успел развернуться, схватил его за подбородок и задрал ему голову, туго натянув горло.
– Кончай, скажем, что случайно вышло, – сказал Сема и повернулся к Наташе, которая, сузив глаза, смотрела мимо него, в сторону двери. – А ты, сучка, только вякни – полетишь следом!..
– Придется… – хрипло произнес Ганс и двинул лезвие вниз. – Извини, мужик, не…
Заглушенный беснующейся за стенами дома ночью, выстрел прозвучал не так уж громко и совсем безобидно, напомнив Наташе о длинных полосках пистонов, по которым они с Надей в детстве колотили камнями. Ганс дернулся назад, и она увидела как куртка на его широкой спине вспоролась словно сама собой, потом он выронил нож и, повернувшись на одной пятке, точно ловкий танцор, тяжело свалился на ковер. Его согнутые ноги два раза приподнялись, стукнули о пол и застыли.
– Нож положи, – негромко и как-то равнодушно сказал человек, стоявший в дверном проеме. Сема обалдело дернулся вперед, потом назад, не отрывая глаз от направленного на него дула, и по его лицу, сменяя друг друга, проносились ужас и злость. Он поднял руки и покачал ладонями в воздухе, словно приветствуя вошедшего, потом хрипло забормотал:
– Мужик, ты чо, мужик, ну все, все… мужик, ну спокойно, спокойно…
– Нож, – повторил человек и чуть качнул пистолетом. – Брось его на диван.
– Мужик, ты вообще догадываешься, что с тобой за это будет?! Давай по хо…
– Со мнойто будет потом, а с тобой – сейчас. Чуешь разницу?
Сема презрительно скривил губы, и нож легко упал на диван, откуда его тотчас подхватила Наташа и попятилась к стене, не сводя глаз со светловолосого.
– Повернись!
– Ну, все, мужик, край тебе! – прошипел Сема и повернулся. – Порвут тебя как це…
Неслышно подошедший к нему сзади человек резко и коротко ударил Сему по затылку рукояткой пистолета, и тот, запнувшись на полуслове, ничком свалился на пол.
– Опоздал я, – глухо и с печалью произнес человек, глядя на неподвижное тело Нины Федоровны. – Прости, Костя, не успел.
Лешко ничего не ответил, только провел рукой по растрепанным светлым волосам, глядя на мать сузившимися потемневшими глазами. Его губы подергивались. Говоривший отвернулся и подошел к Наташе, а она так и стояла, прижавшись к стене и держа в руке нож, в распахнутой куртке, открывавшей заляпанный кровью лифчик и голый живот, – стояла и смотрела, не в силах пошевелиться и не в силах поверить.
– Отдай, – мягко сказал он, забрал нож из ее несопротивляющихся пальцев и, сложив его, сунул в карман, потом спрятал пистолет, осторожно прижал ладони к ее щекам и внимательно заглянул в глаза.
– Наташка.
Охнув, она наконец вышла из оцепенения и бросилась ему на шею, целуя щеки, губы, нос, порезанный подбородок, бормотала, задыхаясь от счастья:
– Славка! Славка! Славка!
Слава молча обнял ее и крепко прижал к себе, на мгновение закрыв глаза, потом, сжав губы, мягко отодвинул и спросил:
– Ты не ранена? Они ничего с тобой не сделали?








