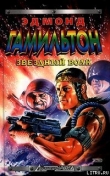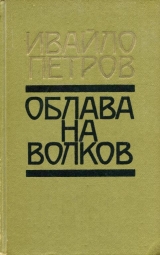
Текст книги "Облава на волков"
Автор книги: Ивайло Петров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
– Эй, народ, что примолкли? Давай, Велико, надувай свой пузырь, на этот раз и мы со сватом подметками застучим! – сказал Жендо и принялся разливать вино по стаканам.
Волынщика, однако, не оказалось в комнате, вышел и Иван Шибилев, который во всех случаях жизни умел развлечь окружающих, и тогда Троцкий решил, что наконец-то пробил и его час. Весь вечер он ублажал дорогого гостя и словно бы забыл, что он на свадьбе у собственной дочери. Наступившая тишина вырвала его из-под обаяния фельдфебеля, или, вернее, именно под воздействием этого обаяния он с воодушевлением принялся излагать свою солдатскую одиссею. Все давно ее знали, но сейчас с благодарностью устремили на него взгляды и приготовились слушать. У этого одинокого человека, проводившего свои дни в жесткой колодке солдатской формы, в обществе одичавшей собаки, был один-единственный козырь – многолетняя верная дружба с фельдфебелем Чаковым, поднимавшая его на головокружительную высоту в собственных глазах, а также, как он полагал, в глазах всего села.
Уйдя в запас, фельдфебель жил в соседней деревне, где его жена получила в наследство клочок земли. Судя по всему, поселиться в этой далекой и глухой деревне его заставили какие-то обстоятельства, ибо он и сам говорил, что жизнь скомандовала ему «кру-гом!». Троцкий был единственным его бывшим солдатом в округе, они случайно встретились, узнали друг друга, и с тех пор фельдфебель регулярно, по всем большим праздникам, приезжал к Троцкому в гости. Ему уже перевалило за семьдесят, но для своих лет он был здоров и энергичен. Ходил он ровным твердым шагом, словно отбивая такт полковой музыки, и его солдатскую выправку нелепо уродовал лишь нервный тик – сжав кончики трех пальцев правой руки, он по нескольку раз плевал на них. Возможно, конечно, что это был не тик, а просто привычка, выработанная годами его материнских забот о солдатах. У него было плоское, приплюснутое, точно деревянная баклага, лицо, ходил он в темном пиджаке из крашеного солдатского сукна, бриджах и высоких сапогах, которые воняли ваксой, оскверняя праздничное благоухание домашней стряпни. Фельдфебель сохранил казарменные привычки не только в одежде и поведении, но и в манере выражаться. Начиная есть, он выкрикивал, как в ротной столовой: «на-чинай!», вставая из-за стола – «встать!», направляясь куда-нибудь – «шагом марш!». Более высокопоставленного гостя в селе не бывало и быть не могло. Он один стоил всех знатных особ округи, и все большие праздники наступали и проходили под знаком его высочайшего посещения. Радка рассказывала мне, что за неделю до его приезда отец начинал репетировать с домашними встречу гостя, учил чинно стоять перед ним, отвечать без запинки на его вопросы, не садиться, пока он не сел, церемонно за ним ухаживать и даже взглядом не задевать его самолюбия, учил, как его угощать и чем одаривать на прощанье.
Троцкий задыхался от неистовой щедрости, он готов был вырвать последний кусок из горла своих близких, лишь бы приготовить для своего идола стол, за которым мог бы утолить голод даже ненасытный Лукулл. Праздники эти выходили за пределы узкого семейного круга. Троцкий всегда звал соседей, потому что ему нужны были свидетели его торжества. С нашей стороны постоянными гостями были бабушка, дедушка и я. Если козырем Троцкого был бывший фельдфебель, то дедушкиным козырем был я. Я читал наизусть стихи из школьной хрестоматии, и дедушка так гордился моим талантом, что всюду водил меня за собой.
Все сидели на полу, только знатный гость возвышался на трехногой табуретке перед специально приготовленным для него ларем, который вздымался как амвон над общей трапезой. С этого амвона его плоская физиономия, точно луна, освещала головы людей своим холодным благоволением. Никто не решался улыбнуться даже про себя, когда он слюнявил пальцы, словно порченный сглазом, потому что все считали этот обезьяний жест не недостатком, а признаком благородства. Все ждали, когда он первый потянется к еде, и лишь тогда отламывали себе хлеб. Фельдфебель был малоежкой и, несмотря на уговоры хозяев, умеренно закусив и сделав несколько глотков ракии, говорил «хватит». Он вытирал платком губы и застывал на своем амвоне, неподвижный и непроницаемый, как Далай-лама. Тогда дедушка слегка подталкивал меня в бок, и я вставал у накрытой трапезы. Литературные вкусы фельдфебеля угадать было нетрудно, и со второй же встречи я начал декламировать ему отрывок из «Шипки» Вазова. Команды генералов, победное «ура» ополченцев, грохот отчаянной битвы возбуждали его праздное воображение, ноздри его щекотал запах пороха, героические чувства распирали приплюснутую физиономию, а когда я говорил, что «каждый, если надо, встретит смерть геройски», из уст фельдфебеля, точно пуля из ружейного ствола, вырывалось громогласное и восторженное одобрение: «Молодец, парнишка!» Весы его высочайшего благоволения склонялись в мою сторону, он вынимал из верхнего кармана пиджака монету в один лев и подавал ее мне, заставив перед этим стать по стойке «смирно», откозырять и крикнуть: «Благодарю покорно!» Каждый раз он с удовольствием отмечал, что я все лучше усваиваю воинский устав, а я замечал про себя, что все больше радуюсь монетке, и все усерднее совершенствовал свой декламаторский дар.
Троцкий сидел по-турецки у самых сапог своего кумира, терзаемый ревностью и раболепной преданностью, смотрел на него снизу вверх и ждал подходящего момента, чтобы привлечь его внимание к себе.
– А я помню нумер своего карабина, – говорил он при первой возможности. – Две тыщи питсот шешнадцатый.
Фельдфебель оборачивался к нему, польщенный тем, что его просветительская деятельность пустила такие глубокие корни в сознание его бывших солдат и что она выдержала испытание временем. Троцкий смотрел на него с верноподданническим огнем в глазах, и это показывало, что наступила та минута, когда он очередной раз попытается отплатить добрым словом своему бывшему командиру за внимание, которым тот удостаивал его в казарме. В сущности, он стелился перед фельдфебелем сам и заставлял делать то же свою семью лишь для того, чтобы рассказывать еще и еще, как этот сплюснутый человек колошматил его в казарме столько раз на дню, сколько он попадался ему на глаза. Рассказы эти никому не позволяли усомниться в том, что его благодетель – выдающаяся личность. Благодетель при этом таился за своей непроницаемой сплюснутой маской и лишь время от времени, вероятно под напором самых сладостных воспоминаний, плевал на пальцы правой руки, словно хотел этой зловещей пантомимой наглядно подтвердить, сколь велик его вклад в формирование душевного облика болгарина.
Троцкий начинал с того, как в первый же день заботливая «ротная мать», осмотрев одежду новобранцев, нашла у нескольких человек вшей и так взгрела их для начала, что у тех ажно морды посинели. Им дали котлы, чтобы они выпарили одежду, но на другой день фельдфебель на беду снова нашел вшей у двух человек, одним из которых был Троцкий. Тогда фельдфебель снял с себя пояс и отделал их перед строем. Они снова пропарились, но вошь есть вошь, где одна, там и тыща. Нашенскую вошь, доморощенную, хоть в огонь кидай, ничего ей не сделается. Фельдфебель и говорит: вас бей не бей, один черт, а ты вот стань смирно и разинь хайло! Я разинул, а он берет живность с воротника рубахи по одной и сует мне в рот. От сюда – на коренной. Жуй! Штук десять сжевал…
Троцкий помнил номер своего карабина, и эта цифра навсегда запечатлелась в его памяти, точно выбитые на камне древние скрижали, именно благодаря наказаниям, число которых превышало заветную цифру. С величайшим наслаждением и мазохистским сладострастием рассказывал он о грандиозной выволочке, которую задал ему фельдфебель на второй год службы. «Тем разом был я дневальный. Рота вышла за город на стрельбы. Гляжу – зводный вернулся и прямо в канцелярию к гасдину филтебелю. Так и так, патронов для учения нету. А гасдин филтебель с утра занят был, дал мне ключ от склада и велел раздать роте холостые патроны, а я взял да забыл. Гасдин филтебель дал зводному патроны и идет на меня синий-зеленый, смотрит на меня и дрожит с головы до ног. «Рядовой Статев, я приказал тебе раздать роте патроны?» – «Так точно, – говорю, – но у меня из головы выскочило». – «Сейчас, – говорит, – я твою дырявую голову залатаю». Он, когда не ярился, солдат подзывал ласково: эй ты, говнюк, харя, ублюдок, поди сюда! А как позовет: рядовой такой-то, добра не жди. Он замахнулся левой рукой, я увернулся, тогда он достал меня правой. И давай – левой, правой… У меня голова загудела, ровно волынка, едва на ногах держусь. Закрываю лицо руками, верчусь волчком, а он: «Смирно, смирно, не двигаться!» Я хотел было рвануть по казарме – и на плац, может, хоть там он меня оставит, но он меня обогнал и закрыл дверь. Деваться некуда, я побежал по проходу между койками, он за мной и кричит: «Стой!» Мне б остановиться, я б легче отделался, потому как он мне кричал, что раз не останавливаюсь, мне еще одно наказание положено за невыполнение приказа. И чем больше меня страх разбирает, тем он больше из себя выходит. А я, дурья башка, не остановился, а стал по койкам бегать. Он меня с одного краю подлавливает, а я на другой ряд перепрыгиваю. В казарме пыль столбом, и мы с гасдином филтебелем в этой пылище в пятнашки играем. Наконец я исхитрился и выскочил в колидор. Почти на лестнице уж был, и тут он меня за ворот и схватил. За ремень поддел и поволок по колидору как сноп. Я ухватился за ларь, в который мы дрова для печки складывали. Он меня волочит, а я ларь вместе с дровами волоку. Доволок меня до склада и хотел меня туда запихнуть, а ларь широкий, не лезет. «Отпусти ларь!» Не отпускаю. Сапогом мне пальцы прижал, тогда я отпустил. Швырнул меня в склад, запер дверь и давай колошматить по чему придется. Склад барахлом забит, свет тусклый, и в роте никого, кричи не кричи, никто не услышит. Ну, думаю, он меня не избить, а убить хочет. Стало мне страшно, я под полки шмыгнул, будто собака, что под амбаром спасается. Гасдин филтебель меня за ноги рванул. Я за полку держусь, она и рухнула на меня, завалила всего одеялами, простынями, сапогами, ремнями и всяким вещевым довольствием. Я задыхаться стал, ни крикнуть не могу, ни выбраться. Наконец гасдин филтебель меня выволок. «Встать!» – «Слушаюсь!» Авось, думаю, пожалеет и отпустит, я и так чуть не задохся. Выпрямился кой-как и жду, сейчас освободит. А он говорит, из-за тебя мне теперь тут возиться. Повалил на пол, коленом прижал спину, чтоб я не шевелился, и как возьмется снова. Ремнем лупцует, словно ножом режет, я воплю во всю глотку, а он: «Заткнись! Голос подашь, язык оторву. Кабы ты выполнил мой приказ и стал бы смирно, ты б уж забыл, когда я накостылял тебе. А ты со мной пятнашки завел. Не только что под полку, к матери в зад залезешь, я тебя и оттуда вытащу и все равно изобью». И тут такое началось…»
Троцкий не успел дойти до кульминации своего вдохновенного рассказа и вынужден был прервать его на акушерском вожделении «гасдина филтебеля». Дверь открылась, и в комнату вошли две женщины. Одна несла на вытянутых руках белую рубашку или полотно, а другая – бутылочку из-под лимонада с красным бантом на горловине. Они подошли к Троцкому с виноватыми, испуганными лицами, и та, что несла бутылочку, протянула ее ему:
– Твое здоровье, сват!
Троцкий поднял бутылочку, попытался втянуть в себя жидкость, но бутылочка свистнула, и в рот ничего не попало. Он болтанул посудину, приник к ней еще раз, и снова она ответила только свистом. Он повернул бутылочку к себе дном, увидел, что дно пробито, и засмеялся, решив, что над ним подшучивают. Жена его издала отчаянный вопль, ударила себя обеими руками по лбу и застыла.
– Чего вопишь? – цыкнул на нее Троцкий и хотел сказать что-то еще, но женщина, подавшая ему бутылочку, сухо сглотнула, прикрыла глаза и сказала:
– Как ей не вопить! Сладкой водочки-то нету!
За столом воцарилась зловещая тишина.
– Врете! – закричала снова тетка Груда. – Хотите дочку мою осрамить! Дом мой опозорить!
Ей снова показали рубашку, она оттолкнула ее, пробилась сквозь толпу, разом заполонившую комнату, и вышла. За ней вскочила и Жендовица. Тогда рубашку предъявили и посаженым, чтоб они убедились в бесчестии невесты. Посаженая посмотрела на нес и опустила глаза, а Стоян Кралев махнул рукой и брезгливо отвернулся к стене. Он пришел незадолго до того, как Троцкий начал свой рассказ о казарме, смотрел на бывшего фельдфебеля с нескрываемым презрением и не отказал себе в удовольствии его уязвить:
– Царская казарма! Любой дурак с погонами может истязать солдат, как ему заблагорассудится!
Стоян Кралев никогда не упускал случая выставить в дурном свете фашистскую власть и подчеркнуть преимущества советской, хотя крестьяне слушали его равнодушно и даже над ним посмеивались. Германская армия к этому времени дошла до Кавказа, ее верховное командование определило, что самое позднее к середине ноября Сталинград будет взят, и никто не верил, что ход войны может измениться. «Власть имущих» нашего села пропагандистские речи Стояна не только не раздражали, а наоборот – доставляли им удовольствие: споря с ним, они прижимали его к стене неопровержимыми фактами и смеялись над его политической слепотой. Стоян Кралев сражался против них с голыми руками и непрерывно твердил, что все равно немцы рано или поздно проиграют войну. Его вера выглядела непоколебимой, хотя победа немцев ни у кого не вызывала сомнений, и потому противники Стояна считали его не столько истинным коммунистом, сколько свихнувшимся болтуном, который во всех случаях жизни знай долбит свое. А Стоян Кралев все долбил и долбил и чуть ли не из любого житейского факта умел сделать вывод в пользу коммунизма. В этот вечер все были потрясены чистой рубахой молодоженки, и он тоже был потрясен, но остался верен себе. Его положение посаженого отца вынуждало сватов его слушать, и он заговорил о равноправии полов, осуществленном в великой стране, которая сейчас сражается с фашистскими захватчиками. Там никогда не может случиться то, что случилось в этот вечер, там девушка не может быть подвергнута таким унижениям. Она имеет право дружить с кем хочет, сама выбирать себе спутника жизни и сама решать, с кем и как ей жить. В конце концов Стоян Кралев сделал вывод, что такие обычаи, как проверка рубахи у молодой, придуманы буржуазией, чтобы лишить женщину всяких прав. Когда она надрывается в поле наравне с мужчиной, готовит, убирает и смотрит за детьми, никто не спросит, каково ей, а когда она позволит себе кого-то полюбить и тот ее обманет, сразу делается дурной и нечестной. И откуда вы знаете, что девчонка гуляла с мужчиной, может, так само собой получилось, и это бывает. А может, зятек (тут Стоян Кралев заколебался, стоит говорить про это или нет), может, зятек своего дела не сделал как следует, он ведь еще мальчишка совсем…
– Дело-то сделано, крестный, только не теперь, – сказала женщина, подносившая Троцкому бутылочку. – Вот пускай хоть тетка Дона скажет.
Тетка Дона была акушерка, и ей было поручено удостовериться в бесчестии молодой.
– Верно, – отозвалась она, скрестив руки на животе.
– Да хоть бы и верно, что из того? Зачем девушку-то позорить? Старые люди говорили, да и вы, женщины, лучше меня знаете, что честь женщины не под юбкой, а в голове.
– Что от нас требовалось, то мы и сделали, – сказала с равнодушием хирурга тетка Дона, – А там пусть муж да свекровь со свекром решают.
Мужа и свекрови в комнате не было, а свекор сидел, повесив голову и уставившись в пустой стакан перед собой. Почувствовав, что взгляды обращаются к нему, он махнул рукой, и этот жест отчаяния был так выразителен, что люди поняли его и прониклись к нему искренним сочувствием. Все село знало, что он, спрятав гордость в карман и нарушив стародавний обычай, сам ходил свататься к Троцкому, и только его благородство и великодушие спасли его достоинство от всеобщих насмешек и порицания – он не потребовал от будущей снохи даже приданого. Теперь же в благодарность она поставила его перед постыдным и страшным выбором – принять ли ее с ее бесчестием или вернуть после того, как она уже вошла в его дом. Все, затаив дыхание, ждали, как Жендо решит эту дилемму. Между тем Троцкий словно бы еще не осознал, что произошло, или же осознал трагизм ситуации столь ясно, что не в состоянии был ни двигаться, ни говорить. Он сидел бледный, как полотно, глаза его беспокойно перебегали с одного конца стола на другой, а рука безжизненно лежала на колене фельдфебеля. Сам фельдфебель пучился на противоположную стену и больше, чем когда-либо, походил на Далай-ламу. Лишь правая его рука, при всех обстоятельствах верная своей привычке, тянулась ко рту, и в гробовой тишине слышно было, как он плюет на пальцы: тьфу, тьфу, тьфу.
– Вот ведь как! – вздохнул наконец Жендо. – Коли захочешь чего-нибудь до смерти – никогда и не получишь.
Толпа с улицы продолжала напирать в дверь, и комната теперь была уже набита битком. Все хотели услышать, что еще скажет Жендо, но он замолчал.
– Как это не получишь, кум? – подал голос Стоян Кралев. – Ты хорошую сноху получил, работящую, а это самое главное. Все остальное вздор.
– Кум! – сказал Жендо. – Ты все про Россию толкуешь, как будто вчера оттуда приехал. А я тебе скажу, что Россия – это Россия, а мы – это мы. Там люди могут на головах ходить, в церкви не венчаться, из одного котла есть и жен общими объявить. Дело хозяйское. А мы простые болгары, по-болгарски и живем.
– Не по-болгарски, а по-буржуазному…
– Я не буржуй, но я и не камунис. Я знаю одно: женщина должна под венец честной идти. Из бабы, которую другой мужик уже оседлал, ни матери не получится, ни хозяйки дома.
– Извини, кум, но глупые ты слова говоришь!
– Может, я и глупый, – сказал Жендо. – И ты меня извини, кумовья мы с тобой, но коли ты такой умный, скажи: твоя жена продырявленная к тебе пришла и, если б пришла дырявая, взял бы ты ее иль нет? Вот что мне скажи!
В толпе раздался гогот, жена Стояна Кралева пристыженно опустила глаза, а он пожал плечами – с темным человеком разве договоришься?
– На этом свете любое дело уладить можно, – сказала тетка Дона, когда гомон затих. – Кто кашу заварил, тот пускай и расхлебывает. Пятнадцать декаров, и – кто старое помянет, тому глаз вон.
То, что говорилось в комнате, тут же передавалось из уст в уста в сени, а оттуда во двор, и уже со двора послышался многоголосый возглас: ух ты, целый надел!
Жендо не поддержал, но и не отверг идею тетки Доны ни словом, ни взглядом. Казалось, разочарование притупило остальные его чувства, так что все сделалось ему безразлично.
– Чужую беду руками разведу, Дона! – сказал кто-то. – Была бы ты на месте Радки, отец за тебя хоть пядь земли дал бы? И чего ты лезешь куда не просят? Жендо сам свое слово скажет.
– Жендо сейчас как мешком ударенный – даст маху, потом будет на себе волосы рвать, – сказала тетка Дона. – А мне он племяш, я не позволю, чтоб его вокруг пальца обвели. Коли им накладно, пусть берут девку назад. Женская честь еще дороже стоит.
Теперь общее внимание сосредоточилось на Троцком. Он был по-прежнему бледен, как мертвец, и не открывал рта. Молчал и его идол, уставившийся на противоположную стену, и лишь изредка поплевывал на пальцы правой руки. Молчали все, и длилось это так долго, что молчание сделалось зловещим и невыносимым. Тогда появилась тетка Груда. Никто не заметил, как она вошла, словно она пролезла у людей меж ногами, поникшая, с упавшим на плечи платком, измученная и жалкая. Она встала рядом с мужем и сказала спокойно, как говорят на пределе отчаяния:
– Отдавай, муженек, сколько просят земли, столько и отдавай, глаза б мои на нее не глядели!
Она выходила в другую комнату и говорила с дочерью, то есть этими словами подтвердила ее бесчестье. Толпа ответила новым залпом восклицаний. Так была раскрыта одна из загадок этого вечера. Оставались еще две – кто обесчестил Радку, женатый мужик или холостой парень (над этой тайной село будет ломать голову позже), и даст ли отец землю и сколько даст. Бывший фельдфебель Чаков осторожно убрал руку Троцкого со своего колена, сказал «встать!» и встал. Люди расступились, образовав проход, и он вышел. Жендо, схватившись за голову, тоже встал и вышел вслед за ним.
– Ну? – спросила тетка Дона тоном судебного исполнителя. Она стояла неподвижно, все так же сложив руки на животе.
Троцкий начал делать какие-то знаки руками. Он лишился дара речи, онемел, но никто из нас этого тогда не понял, и многие засмеялись. Он открыл рот, пытаясь что-то сказать, изо рта вырвались какие-то звуки, а глаза выкатились от напряжения. Наконец, он указал рукой на тетку Дону, взял ложку и стал царапать ею по скатерти.
– Написать хочет, – догадался кто-то.
– Верно, – сказала тетка Дона, сбегала в соседнюю комнату и тут же вернулась с листком бумаги, ручкой и чернилами в пузырьке. – А где Иван Шибилев? Он бы написал.
Но заложник куда-то исчез, и Троцкий сам потянулся к ручке. Тетка Дона перевернула пустой противень дном вверх, положила на него бумагу и подала Троцкому ручку. Он писал долго, перепачкал пальцы чернилами, а когда кончил, она взглянула на его каракули.
– Пиши день и год!
Троцкий приписал день и год, она протянула бумагу мужу, и тот, с помощью нескольких грамотеев, прочел:
«Приписаваю дочере моей Ратке питнацать декаров зимли, Калчо Статиф Димитравдень 1942 гот».
– Да-а, сыпанули ему соли на хвост! – сказал кто-то.
По всей вероятности, новое его прозвище родилось именно в эту минуту, потому что на следующий день его уже звали Калчо Соленый. Так отныне придется называть его и мне.
Мело все сильнее, а внизу, в Преисподней, аж завывало. Калчо Соленый обронил по дороге левую рукавицу и теперь совал руку то под воротник полушубка, то в карман. С тех пор как он занял место в засаде, не прошло и десяти минут, но ноги уже мерзли. «Только б загонщики поскорей появились, и мы бы все по домам, а то морозимся тут попусту», – подумал он и в который уже раз с тех пор, как вышел из села, почувствовал себя виновником этой бессмысленной облавы. «И почему я не отпил Жендова вина, покарай меня господь! Небось не подавился бы! Бутылочка всему причиной, откуда только она взялась. Словно та самая, которую мне на Радкиной свадьбе дали. Я только протянул к ней руку, и ровно паралик ее хватил. Выпей глоток, говорю себе, люди на тебя смотрят, сошлись все по-дружески. Так-то оно так, а рука не берет бутылочку, ну хоть ты что. Сердце заколотилось, самого жаром обдает, что сказать, не знаю, да и язык не ворочается. Думал, будто я про то дело забыл, а оно занозой в сердце сидело. Много раз вспоминал я тот вечер и все, что потом стряслось, и душа у меня изболелась. Много раз решал я прикончить Жендо или что-нибудь такое с ним учинить, чтоб и его душу болью пронять, но тут же себя и останавливал: нет, негоже это. Хоть бы я его и убил, зло, что он мне причинил, останется. Он его с собой в могилу не унесет, так что к одному злу другое прибавится. Однако же, заноза двадцать с лишком лет так в сердце и сидит. Сколько всего я перезабыл, и хорошего, и плохого, а это нейдет из памяти, ну словно вчера произошло. И я все удивлялся, как же эта память человеческая устроена. Хочешь всякую скверну забыть, очистить душу, а память эту скверну хранит, всю жизнь хранит, будь она трижды неладна! Не было б у человека памяти, он бы как ангел на этом свете жил. Все зло от памяти. Славно придумал Иван Шибилев в лес нас позвать. Золотой он мужик, сметливый. И он, значит, помнит тот вечер и пустую бутылочку. И остальные помнят, иначе не пустились бы в путь в этакую метель. А раз пошли, стало быть, хотят сказать: кто старое помянет, тому глаз вон. Что было, то прошло и быльем поросло. Так и надо. Не в могилу же старые свары с собой тащить…»
Однако же, уговаривая себя забыть прошлое, он в то же время вспоминал одну такую же метель, которая занесла его в шалаше и чуть не погубила. После Радкиной свадьбы, в тот же вечер, он ушел в свой шалаш и зажил там в полном одиночестве. Он и раньше редко встречался с людьми, а теперь, когда у него отнялся язык, не хотел видеться даже с женой. На другой день тетка Груда понесла ему еду, но он сердито замычал и дал ей понять, чтоб она больше не таскалась на виноградник. Он сам стал ходить в село раз в неделю, всегда по ночам, чтобы ни с кем не встречаться, набирал хлеба, фасоли, картошки и потом варил себе на огне очага похлебку. Виноградники к этому времени опустели, кругом не видно было ни живой души, и он остался один со своей немотой, как древний исихаст[6]6
Исихаст – последователь религиозно-мистического учения, распространявшегося в Византии, а также в Болгарии в XIII—XIV вв. Исихасты должны были, в частности, вести уединенную аскетическую жизнь, давали обет молчания.
[Закрыть]. Ему хотелось зажить в полном единении с природой, как он и жил уже много лет, но теперь в душе его образовалась пустота, темная и непроглядная, и он не ощущал уже, как прежде, сладостной и таинственной гармонии окружающей жизни. Обострившиеся за многие годы чувства позволяли ему видеть, слышать и осязать, как растут виноградные лозы, деревья и травы, как они цветут, образуют завязь и умирают для того, чтобы родиться вновь. Не только днем, но и ночью, во сне, он наблюдал за таинством роста и знал, что бессловесные растения – это тоже живые существа, божественно благородные, самые благородные на свете существа, которые растут, творят и умирают в безропотном молчании, не жалуясь на стихии, никого не оскорбляя, не пожирая собственных плодов, не покидая своего места, выкачивая из недр земных соки жизни и отдавая их другим живым существам. Он знал, что люди смеются над его отшельничеством, но каждая с ними встреча показывала ему, как он жалок и бессилен перед лицом их страстей и суеты, и он спешил вернуться в свое логово. Одиночество и бездействие возвращали ему силы, душевное равновесие и покой, со сторожевой вышки мир казался величественным и безмятежным, в нем не было места для войн, вражды и свар, в нем не было лжи и бесчестья. Единственной страстью Калчо оставалась военная форма, но и она по сути дела была не прихотью, а необходимостью. Форма точно броней прикрывала его непригодность к жизни, создавала ему в глазах людей известный авторитет, пусть даже это был авторитет должностного лица, находящегося на низшей ступеньке служебной лестницы. По той же причине он сделал своим идолом такую ничтожную личность, какой был отставной фельдфебель Чаков. Воспоминания о суровой жизни в казарме и о его личных отношениях с фельдфебелем давали ему возможность ощущать себя мужественным, сильным и физически выносливым. Таким вот образом он создал себе, или воображал, что создал, условия для гармоничного, хотя и «заочного» сожительства с людьми и миром.
Он часто видел во сне добро – оно являлось ему в образе черешни рядом с шалашом, усыпанной цветами или ягодами, устремленной в голубизну неба. На самой верхушке дерева сидела маленькая белая птичка; задрав головку к небу, она раскрывала клювик и начинала петь, но вместо птичьего пения простор оглашался звоном колокольчиков, чистым и ласкающим слух, как детские голоса. Обычно ему снилось, что он сидит на вышке, каждый раз он дивился белой птичке и каждый раз убеждался в том, что это не она, а листья черешни, слегка колышимые ветром, касаются друг друга и звенят, как колокольчики. И сам он мало-помалу превращался в звон колокольчика, парил в просторе, легкий и нетленный, как душа, и видел, что все на земле замирает в блаженстве. А зло, которое снилось ему намного реже, неизменно являлось в виде вурдалака – такого, каким он представлял его себе в детстве, – неописуемо страшного существа, взявшего понемногу у всех хищных зверей и птиц, с огромной кровожадной пастью и острыми зубами, а иногда с клювом и крыльями. Оно придвигалось совсем близко, готовое на него наброситься, а он не догадывался взять карабин и его пристрелить, пятился и пятился, пока не падал на дно какой-то пропасти, а зло смотрело на него сверху и хохотало человеческим голосом. В тот вечер, когда на свадьбе своей дочери он узнал о ее позоре и вынужден был оплатить этот позор участком земли, он увидел зло, которое возникло по другую сторону стола. Мелькнула мысль, что это уже не сон, что зло готово разорвать его наяву, но он не испугался, как пугался, бывало, во сне. Он хотел только спросить «почему?», набрал воздуха, открыл рот и не смог произнести ни слова. С тех пор слово это рвалось у него из уст, но он все не мог его выговорить. Почему Радка, еще такая молодая, покрыла себя позором, почему Жендо его ограбил, почему у него отнялся язык? Почему господь наказал меня, послав три зла сразу, разве я сам причинил кому-нибудь зло? Этот вопрос камнем давил ему на сердце, он хотел выкрикнуть его, чтоб услышал весь мир, и – не мог. Так продолжалось, пока однажды ночью в начале декабря внезапно налетевшая вьюга не занесла шалаш и ему не пришлось выбираться наружу через крышу.
Он вернулся домой, но всю зиму не выходил со двора и впервые с тех пор, как стал сторожем на винограднике, занялся работой по хозяйству. В первые дни он расчищал от снега дорожку к хлеву и крутился во дворе больше для того, чтобы не мучить домашних своей немотой, а потом работа во дворе вошла у него в привычку. Он колол дрова, кормил птицу и скотину и с особым удовольствием обихаживал двух волов и корову, отощавших, грязных, в пятнах мочи. Он расчесывал их железным гребнем, замешивал им теплое пойло, вставал по ночам, чтобы подбросить им корма, и за два месяца они выправились. К вечеру, когда надо было их поить, тетка Груда или Митка, младшая дочь, гоняли их к колодцу, потому что он не хотел показываться на людях. Пришлось ему расстаться и со своим обмундированием, чтобы его не запачкать. Сначала он скинул ремни, через несколько дней пояс, галифе, гимнастерку и, наконец, белые, как снег, обмотки. Вместо этого он натянул на себя старую одежду, оставшуюся с холостяцкой поры, и стал похож на батрака в собственном доме. Потом тетка Груда наткала грубошерстного сукна, Стоян Кралев сшил ему без мерки одежу, и Калчо Соленый встретил новогодние праздники в штатском обличье.
С Радкой они не виделись со свадьбы. Тетка Груда подстерегала ее у колодца или у бакалейной лавки, но не могла удержать больше чем минуту. Все хорошо, чего мне сделается, говорила Радка и спешила домой. Во время этих коротких встреч она ни разу не взглянула матери в глаза и не рассказала ничего о себе. Она сильно исхудала и лицом и телом, так что с трудом удерживала на плечах полные ведра. Тетка Груда возвращалась домой заплаканная и говорила мужу, что с Радкой творится неладное. Он ничем не показывал, слышит ли он и понимает ли, что она говорит, смотрел в сторону или выходил из комнаты. Но тетка Груда не оставляла его, шла за ним по пятам и причитала: