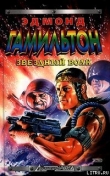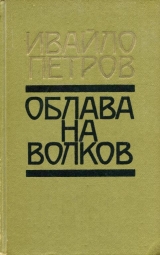
Текст книги "Облава на волков"
Автор книги: Ивайло Петров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Стоян Кралев принялся объяснять закон о разводах, повторив несколько раз, что Мона, если разведется, возьмет ребенка с собой. Тем самым он хотел выманить у Ивана признание, что ребенок и без того принадлежит ему. Если б он признался в этом хотя бы намеком, Стоян Кралев еще крепче прижал бы его к стене и окончательно обезоружил. Иван слушал его со своей очаровательной улыбкой и вдруг прервал, словно бы ненамеренно:
– Это кто ж тебя такого сотворил?
– Что? – Стоян Кралев сделал вид, что его не понял, но густая краска, выступившая у него на лице, показывала, что он понял очень даже хорошо и что он глубоко оскорблен.
– Кто, говорю, тебя такого выдумал? Ишь какой диктатор из села Равна!
– Эй ты, полегче! – воскликнул Стоян Кралев. – Думай что говоришь!
– Думаю, думаю, потому-то и не могу надивиться, как это полуграмотный крестьянин, который вчера еще только и умел, что портняжить, теперь возомнил себя господином моих мыслей и моих чувств, моей души и сердца. И самое трагическое состоит в том, что ты сам поверил, будто имеешь право безнаказанно шуровать грязными руками в людских душах. Любовь, говоришь, имеет классово-партийный характер. Кто научил тебя этой страшной глупости? Если это был я, расстреляй меня на месте и знай, что сделал доброе дело. Раз я такой циник, поделом мне. Ах, Стоянчо, Стоянчо, кто мог предположить, что из тебя получится этакий посконный повелитель? Наши святые идеалы, за которые мы готовы были головы сложить, оказались в руках бедного портняжки! Да еще какой фасон выдумал! Китель сталинский, фуражка сталинская, усы сталинские, и левая рука за борт заложена тоже по-сталински. Ну прямо Джугашвили. Нет, Кралешвили! И не только ты, товарищ Кралешвили, но и товарищи из околийского комитета не имеют никакого права вмешиваться в личную жизнь других людей!..
Говоря все это, Иван Шибилев улыбался кротко и снисходительно, словно рассказывал веселую историю о незнакомом человеке. Стоян Кралев был так поражен, что от ярости у него перехватило дыхание. Никто еще не осмеливался так унижать и оскорблять его, да еще с такой спокойной и наглой надменностью. Самым же неприятным было то, что Иван Шибилев говорил, словно глядя ему в душу, знакомую, как собственная ладонь, а нет ничего страшнее, чем подвергаться суду человека, который знает самые потайные уголки твоей души. Перед таким человеком ты должен поднять руки вверх или – смертельно его возненавидеть. Стоян Кралев хотел раз навсегда дать ему понять, с кем он имеет дело, но дерзость Ивана Шибилева поразила его до такой степени, что он не мог ничего предпринять, смотрел в одну точку и молчал, плотно сжав губы. А Иван сказал, что у него спешное дело, и ушел, как будто они со Стояном просто-напросто обменялись обычными любезностями.
Примерно через неделю Стоян Кралев созвал партийное собрание, на котором присутствовал и представитель околийского комитета партии. В повестке дня собрания был только один вопрос – о членстве в партии товарища Ивана Шибилева, которому предъявлялись обвинения по нескольким линиям – выражение недоверия ОК БКП, морально-бытовое разложение и нарушения партийной дисциплины. Единственно серьезным был последний пункт, поскольку Иван часто пропускал партийные собрания, хотя раньше Стоян Кралев и заявлял по этому поводу, что для настоящего коммуниста партия – повсюду, как бог для верующих. Теперь же он начал свою обвинительную речь именно с того, что Иван Шибилев приходит на партийные собрания когда вздумается, – то его нет в селе, то просто пренебрегает, а по уставу это наказывается исключением из партии. Самым сильным его доводом в пользу исключения были любовные похождения Ивана, которые должны были бы вызвать наибольшее возмущение среди членов партии, но этого, к величайшему удивлению Стояна Кралева, не произошло. Те самые люди, у которых связь Ивана с Моной не сходила с уст, – а Стоян Кралев предложил исключить и ее тоже, но комитет не согласился, сочтя, что это может ухудшить положение в ее семье, – так вот, те самые люди, узнав, что его собираются исключать из партии, сникли, и когда дело дошло до прений, никто не захотел высказываться. Стоян Кралев предварительно «подработал» десять человек, обещавших его поддержать, но сейчас и они молчали, глядя в пол. Пришлось вызывать их по фамилиям и предоставлять слово, но они едва подымались со своих мест, от неловкости мяли в руках шапки, вздыхали, молчали или бормотали, что, мол, сказать им нечего, мол, была вина, да прощена или что, мол, сука не захочет, кобель не вскочит, и все в таком духе. Наконец, один высокий одноухий мужик, которому вовсе и не давали слова, встал и крикнул во всю голосину:
– Иван Шибилев без нашего села обойдется, а село без Ивана Шибилева – нет!
Собрание оживилось. Люди стали перешептываться, послышался женский смех, а кто-то предложил закрыть собрание. Всеобщее оживление подтверждало мысль одноухого, новые голоса предлагали закрыть собрание, потому что это грех – исключать из партии такого человека, как Иван Шибилев. В этих несвязных протестах, высказанных тихо и несмело, выражалась любовь людей к Ивану Шибилеву, этому горемыке и чародею, сорвиголове и краснобаю, артисту, художнику и человеку с золотыми руками, к тому Ивану Шибилеву, из рук которого за многие годы село привыкло получать духовную пищу. Стоян Кралев сказал что-то председателю ОК, потом дал слово Ивану Шибилеву.
– Мне нечего сказать! – произнес он с места.
Он сидел в конце первого ряда, у самой трибуны, слушал, рассматривая почти в упор нарочито серьезные, чуть ли не мрачные лица Стояна Кралева и представителя, и думал, что вся эта история с его исключением – неумело разыгранный фарс, над которым смеется даже простой народ. Когда Стоян Кралев спросил, означает ли его молчание согласие с решением партийного бюро, он ответил, что не означает, и добавил, что решение околийского комитета тоже неправильно, так как содержит клевету на него.
– Клевету? – откликнулся представитель. – Выходит, значит, что ОК БКП – клеветник?
– Не надо передергивать. Перед комитетом меня оклеветал Стоян Кралев.
– Секретарь партийной организации не может быть клеветником! – закричал представитель и встал со стула. – Партия не выбирает клеветников в секретари. Заруби это себе на носу.
– Я не собираюсь с вами спорить, переливать из пустого в порожнее. Вам приказано провести решение о моем исключении, ну и проводите! – сказал улыбаясь Иван Шибилев. – Все решено предварительно, нечего терять время на пустую болтовню.
На лицах большинства собравшихся блестел пот, все смотрели прямо перед собой тяжелыми, неподвижными взглядами, в душном воздухе стоял густой запах лука и прокисшего пота, а самое чувствительное обоняние могло уловить и запах зрелых хлебов, проникавший в окно. Полночь давно миновала, где-то пропели петухи, в помещении становилось все более жарко и душно, люди, истомленные работой в поле, дремали на своих местах, и лица у них были темные, как головешки. Стоян Кралев снова начал вызывать людей по фамилиям, сначала тех десятерых, которых он «подработал», а потом и остальных. Они вставали по одному, подавленные и сбитые с толку, и мучительно медленно поднимали руки до середины лица.
После того как Ивана исключили из партии, на него обрушилась и другая беда. Он как раз подготовил две новые роли и собрался через неделю ехать в Шумен, когда к нему зашел отец Энчо и попросил подправить икону святого Георгия Победоносца. Иван был атеистом, но с удовольствием писал для церкви иконы, потому что это было ему интересно. Стоян Кралев много раз уже грозился приспособить церковь под молодежный клуб или склад зерна, но из околийского комитета ему не разрешали. Церковь, разумеется, обычно пустовала. Церковные браки и крещения не признавались законными, молодежь была настроена антирелигиозно, а люди пожилые боялись ходить в церковь, так что паству отца Энчо составляли два десятка стариков и старух, которые раз в неделю прибредали в церковь поставить свечу за упокой души своих близких. В 1949 году во время весенних дождей у церкви во многих местах протекла крыша, при этом пострадала икона святого Георгия Победоносца. Мастер, который должен был ремонтировать церковь, повредил ее еще больше, и Иван нарисовал новую. Через несколько дней после того, как он повесил ее на место старой, за ним явились двое милиционеров на старом «джипе» и доставили в околийский комитет партии. Иван был уверен, что его решили восстановить в партии, и вошел в помещение комитета в самом радужном настроении. Здесь его ждали Стоян Кралев, Козарев (тот представитель, что был на собрании) и двое секретарей. Все четверо были так мрачны, что даже не ответили, когда он поздоровался, и без всяких предисловий сунули ему под нос икону Георгия Победоносца.
– Ты рисовал?
– Я, – сказал Иван Шибилев.
– Объясни, что ты нарисовал!
– Святой Георгий борется со змеем…
Они укрепили икону на стуле и велели ему сесть напротив, а сами встали с двух сторон от него. Святой Георгий, юноша в алом плаще и серебристом шлеме, верхом на белом, сказочно прекрасном коне, изо всей силы вонзал копье в одну из пастей двуглавого змея. Но эта голова была головой представителя ОК Козарева, уродливо страшная, сомкнувшая на наконечнике копья окровавленные зубы. Тело змея, напоминавшее жабье, было покрыто ядовито-зеленой чешуей, с розово-белым брюхом, перепончатыми лапами и свернутым в колечко мышиным хвостом. Вторая голова была головой Стояна Кралева, уже мертвой, с закрытыми глазами и черными усами, из-под которых стекала темно-красная кровь. Эта кровавая сцена разворачивалась на фоне веселого поля с цветущими деревьями, серебристыми отблесками заколосившихся хлебов и ясным голубым небом.
– Мы все видели змея в детских книжках, слушали народные сказки, но такого змея, с человечьими головами, да еще с головами партийных работников, мы еще не видали, – сказал один из секретарей. – Почему ты надругался над нашими товарищами, почему ты превратил их в чудовища? Случайно ли это?
– Я не знаю, как это получилось, – сказал Иван Шибилев, и он не лгал. Не боялся он и взять на себя ответственность за «надругательство». Он работал над иконой так лихорадочно, что и в самом деле не в состоянии был объяснить, как все это произошло. Он помнил только, что, пока он рисовал, лица этих двоих стояли у него перед глазами – такое, видно, сильное впечатление произвели они на него, когда исключали его из партии. Тогда, на собрании, он думал о том, что они набрасываются на него, как два хищника, и поскольку они предъявляли одни и те же обвинения, да еще в одних и тех же словах, ему казалось, что перед ним, в сущности, один хищник о двух головах. Потом, когда он рисовал святого, борющегося с традиционным двуглавым змеем, он невольно изобразил лица тех двоих. Сделал он это неумышленно, просто собрание разбередило ему душу, и объяснить, как он это сделал, он не мог. Тяжелые обвинения теперь сыпались на него одно за другим, и оправдаться было невозможно. Особенно серьезным было обвинение в преступном пренебрежении к коммунистическим идеям и в том, что он попал под религиозное влияние. Верно, до Девятого сентября он вел с религией упорнейшую борьбу, благодаря чему почти все молодые люди в селе стали атеистами, но эта его заслуга не только не облегчает его положения, а, наоборот, усугубляет его вину. Одно дело, когда под влияние попов попадает какой-нибудь люмпен или несознательный тип, и совсем другое, когда это происходит с бывшим активным атеистом и коммунистом, который изменяет своим убеждениям в то самое время, когда партия ведет острую и бескомпромиссную борьбу против религиозного дурмана. Буржуазные элементы непременно воспользуются этой ситуацией и будут на него указывать – вот, мол, убежденный в прошлом коммунист отрекается от своей идеологии и переходит на сторону бога и религии. Встает вопрос, был ли этот коммунист в прошлом настоящим коммунистом, или он был провокатором и предателем, и не случилось ли так, что именно теперь, получив поддержку сил реакции, он показал свое истинное лицо?
Иван Шибилев напрасно пытался доказывать, что их обвинения ни на чем не основаны и оскорбительны для него, что, прав он или нет, но он смотрит на иконы как на произведения искусства, а не как на средство религиозной пропаганды. Что же касается его личной жизни, в нее никто не имеет права вмешиваться, потому что никто не может направлять чувства и вкусы других людей. Этим заключением Иван отверг все обвинения, которые ему предъявлялись, что же до самокритики, которой от него ждали, ему и в голову не пришло ею заниматься. Его выпроводили еще более холодно, чем встретили. В тот же вечер Иван узнал от отца Энчо, что накануне председатель сельсовета Стою Бараков передал икону Стояну Кралеву. Зашел якобы для того, чтоб посмотреть, как отремонтирована церковь, всмотрелся в икону, снял и тут же унес.
На следующий день, под вечер, сосед Ивана Шибилева сказал ему, что будут жечь иконы. Иван читал на галерее какую-то книгу, отложил ее и пошел к церкви. В этот день и я как раз оказался в селе и узнал о происходящем от него самого, встретив его на улице. Он был очень взволнован, схватил меня за руку и потащил к церкви. В церковном дворе собралось уже немало народу, в основном парней и девушек, которых, как выяснилось позже, Стоян Кралев созвал, чтобы они присутствовали при сожжении. Самого Стояна Кралева во дворе видно не было, не было его и в церкви, куда зашли мы с Иваном. Дверь была открыта, но внутри было пусто. С детства, когда учителя по большим праздникам водили нас в церковь, я туда не заходил и теперь испытывал смешанное чувство неловкости и любопытства. Удивило меня то, что в церкви, которая показалась мне крохотной, словно коробочка, не тягостно и не мрачно, как я воображал, а торжественно, светло и спокойно. И иконы были не однообразными и темными, точно закопченными, какими я запомнил их с детства, нет, – они излучали многокрасочный, ласкающий глаз, теплый свет, а лица святых дышали жизнью. У меня было такое чувство, будто мне знакомы эти лица и будто их глазами на меня смотрят близкие люди. И действительно, чем дольше я на них смотрел, тем яснее различал. Например, бог Отец, расположившийся в середине иконостаса, был на самом деле отец Энчо с его белой благолепной бородой, воздетой худой рукой и золотым нимбом вокруг головы. Он смотрел прямо перед собой строгим, вернее, холодно-проницательным взором, а фоном ему служили серебристо-зеленые поля пшеницы, прорезанные коричневыми лентами дорог. Влево от бога Отца, в образе святой Петки, покровительницы церкви, Иван нарисовал свою мать, на заднем плане был виден их дом и двор, а посреди двора – две лошади, привязанные к телеге. Справа висел Иисус с редкой, едва пробившейся бородкой и тонкими усами, с широко открытыми глазами и удлиненным страдальческим лицом – лицом Илко Кралева того времени, когда у него в легких были каверны и он боролся со смертью. И еще многие мужчины и женщины, молодые и старые, были нарисованы в виде святых на фоне нашего яркого и жизнерадостного пейзажа. Среди прочих была, разумеется, и Мона – юная, нежная мадонна с легкой улыбкой и чуть прищуренными голубыми глазами, в красном, сильно присборенном одеянии, с маленьким Иисусом на руках – копией ее дочурки, которая сама была копией художника.
Меня поразило еще и то, что до этого Иван ничего не говорил ни мне, ни Илко Кралеву о своей работе в церкви, хотя мы все трое были добрыми друзьями. Было время, когда он читал нам свои стихи, показывал картины, а иногда делился и личными переживаниями. Как-то раз, например, мы сидели у него дома, и он показал нам портрет Моны, шутливо уверяя, что он местный Леонардо, поскольку у него тоже много увлечений, а к тому же есть и своя Мона Лиза. Я спросил его, каков был его замысел, когда он писал эти иконы-портреты, да еще тайком от всех, и он объяснил, что никакого особого замысла у него не было и тайны из этих икон он не делал, но обстоятельства, при которых он работал, сложились так, что показывать иконы было некому. Писал он их на протяжении ряда лет по просьбе отца Энчо. Старику время от времени приходило в голову, что в церкви не хватает каких-то евангельских сюжетов или святых, какие были в церквах соседних сел, и он просил их нарисовать. Иван с удовольствием брался за эту работу, потому что она была ему интересна и приятна, да и церковь была единственным местом, где он мог выставить свои произведения на «суд общественности». Общественность состояла из двух десятков стариков и старух, которые по праздникам приходили в церковь послушать гнусавое чтение отца Энчо. Все они, состарившись в блаженном невежестве, на иконы и не смотрели, разве что когда крестились перед иконой божьей матери, но и она висела на иконостасе слишком высоко для их ослабевших глаз. Между тем Иван постепенно подменял старые иконы своими. Большая часть старых икон была делом рук некоего Петко, пришлого человека, тележного мастера. Они были грязно написаны, мрачны и даже зловещи и не имели никакой художественной ценности. Иван сохранил только пять настоящих старых икон, попавших сюда неведомыми путями. Их писал неизвестный талантливый мастер более ста лет назад, и они выделялись среди других как настоящие шедевры. Так Иван Шибилев стал, быть может, единственным художником в Болгарии, располагавшим для своих произведений постоянным выставочным залом, хотя никто, кроме него, все равно их не видел. Даже отец Энчо, по причине близорукости и невежества, на них не смотрел, но он был доволен, что пустые места на стенах церкви чем-то заполнены. Единственным компетентным посетителем оказался председатель сельсовета Стою Бараков, который распознал лица Стояка Кралева и представителя ОК Козарева в двух головах змея и тем самым обрек иконы на сожжение.
В церковь вошел незнакомый милиционер и предложил нам выйти, а когда мы вышли, то увидели Стояна Кралева и молодого Баракова в форме капитана милиции, которые разговаривали с группой молодежи. Михо Бараков, выйдя из фашистской тюрьмы, начал работать сначала в качестве помощника начальника, а затем в качестве начальника милиции в околийском центре, хотя ему было всего двадцать четыре года. Белолицый красавец с черными усиками, в новеньком мундире, начищенный с ног до головы, он внушал уважение и даже страх не только потому, что в таком возрасте занимал такую ответственную должность, но и потому еще, что именно в таком возрасте умел держаться как солидный мужчина, взвешивать каждое свое слово или жест и во всех случаях сохранять самообладание. Иван в глубине души не допускал, что Стоян Кралев сожжет иконы, как тот уже успел объявить. Он где-то читал, что в Советском Союзе закон строго наказывает похитителей икон, а этого не могли не знать в ОК партии. Стало быть, Стоян Кралев ни в коем случае не стал бы по собственному усмотрению посягать на иконы и, вероятно, собрал народ в церковный двор, чтобы показать те из них, которые рисовал Иван Шибилев, то есть чтобы разоблачить его как ренегата и таким образом оправдать его исключение из партии. Иван все еще надеялся на спасение икон, но, когда увидел Михо Баракова и милиционера, которого тот привел с собой, очень встревожился и шепнул мне:
– Ох, не к добру он явился!
Между тем со всех концов села продолжали подходить люди, появился под конец и отец Энчо. Сгорбленный старостью, он едва волочил ноги, останавливался, опираясь на палку, чтобы перевести дух, и тащился дальше. Выгоревшая на солнце камилавка сбилась на затылок, и оттуда торчала жидкая косица, за толстыми стеклами очков глаза казались уродливо большими и мутными. Первым делом он спросил о Стояне Кралеве и тут же подошел к нему. Народ замолчал, чтобы услышать, что он скажет:
– Я тебя, Стоянчо, – воскликнул отец Энчо, – в этой самой церкви и крестил, и венчал, и святым причастием причащал, когда ты мальчонкой был, а ты теперь божьи иконы хочешь пожечь.
Стоян Кралев смотрел на него с улыбкой, как смотрят на ребенка, который задает неуместные вопросы.
– Верно, батюшка, верно. Только это не божьи иконы, а мазня твоего приятеля Ивана Шибилева. Он и тебя там изобразил, и еще многих других из нашего села…
– Ага, значит, приходил, рассматривал! – нервно отозвался Иван, а Стоян Кралев продолжал громко, чтобы все его слышали:
– Раз они не святые, а наши грешные мужики, нечего им делать в церкви…
– Господь смотрит на нас сверху, чадо!
– Может, он и смотрит, а только мы вот смотрим наверх и видим один воздух. И ты ничего не видишь, а поклоны ему бьешь.
– Жив наш господь, жив! Если б он не был жив, и мы бы не были живы.
– Ты так говоришь, словно сегодня утром ходил к господу в гости, и он тебя кофием угощал.
– Господь никому не показывается. Се тайна всемирная…
– Дешевые у вас хитрости, батюшка. Господь, говорите, тайна. Не желает людям показываться, прячется от них, как же ты хочешь, чтоб они в него верили?
– Ты тоже коммунизма не видел, как же ты в него веришь?
Послышался смех, толпа зашумела.
– Ишь ты куда замахнулся! Коммунизм, батюшка, научно обоснован, а первая его фаза – социализм – уже построена в Советском Союзе. Туда многие ездили, видели, своей рукой пощупали, как говорится. А ваша вера на чем основана? Вам говорят: бог есть, и вы верите. Что может быть глупее этого – зажмуриться и верить во что-то, чего не можешь ни увидеть, ни услышать, ни понюхать? Все мы знаем народную поговорку «На бога надейся, да сам не плошай». Что хочет сказать народ этой поговоркой? Что на бога надеяться нечего, потому что его нет, а надеяться надо на себя. Простой народ сам, на собственном опыте, дошел до этой мысли, а вы, попы, задуриваете ему голову и сбиваете с толку. Столько несправедливостей, столько голода и болезней, столько человеческих трагедий на этом свете, а ваш всемогущий бог сидит наверху, скрестив руки, и в ус не дует. Верь в него после этого.
– Без веры – смерть, чадо! Придет день, и там, наверху…
– На тот свет намекаешь? – прервал его Стоян Кралев. – Когда кто-нибудь оттуда вернется и расскажет, что он там видел, тогда подумаем. Если там есть другая жизнь, мы покаемся господу, он нас простит и пустит в рай…
Отец Энчо хотел что-то сказать, но кто-то подхватил его под мышки и вынес из толпы. Это был его сын, мужик лет пятидесяти, сам не свой от неловкости за отца.
– Не обращай на него внимания, старый уж, сам не знает, что говорит! – сказал он Стояну Кралеву и потащил старика домой.
Краткий диспут со священником послужил Стояну Кралеву хорошим предисловием к антирелигиозной речи, которой требовал от него текущий момент. У него был многолетний опыт произнесения речей перед сельской аудиторией, он хорошо знал правила этого искусства, а также возможности своих слушателей. Говорил громко, отчетливо и вдохновенно, менял интонацию, умело пользовался паузами и жестами, употреблял к случаю народные словечки, приводил примеры, которые легко воспринимались и запоминались. Он обрушился на религию, сравнив ее, как все атеисты, с опиумом, с помощью которого буржуазная идеология усыпляет сознание народа. Убеждая слушателей в том, что бога нет, он использовал доводы полуграмотного священника, которые тот приводил, вероятно, не слишком их понимая. Опровергнуть и осмеять эти доводы было нетрудно, так как Стоян Кралев опирался на деревенский реализм. Он даже и не подозревал, что взялся за тему, старую и сложную, как мир, над которой бились до него сотни философов.
– Это все равно как если б нам сказали: поставьте кастрюлю на огонь и ждите, пока сварится похлебка, хотя вы не положили в кастрюлю ни мяса, ни овощей. Так и с религией: верьте в бога, хотя вы его не видите и не слышите!
Оказалось, что, пока Стоян Кралев говорил, иконы были выброшены в окно с другой стороны церкви и сложены у ограды, а рядом свалены сухие дрова. Люди рассматривали их с большим любопытством, узнавали знакомые лица и скоро начали спрашивать Стояна Кралева, зачем сжигать такие красивые картины. Он достал спички и поджег дрова, а Иван Шибилев бросился вперед, пробился сквозь толпу, схватил две иконы и крикнул:
– Варвары! Средневековые инквизиторы! Вас надо сжечь на костре, вас!..
Через некоторое время, когда мы встретились и заговорили об этом случае, Иван сказал мне, что никогда раньше не приходил в такое исступление.
– Сейчас я отдаю себе отчет, – говорил он, – что это и было их целью – вывести меня из себя, и я действительно был охвачен такой яростью, что мог натворить бог знает что. Я понимал, что меня решили принести в жертву, чтобы показать оппозиции, как они беспощадны и как они умеют, когда надо, не жалеть даже своих. Я понимал, что меня ждет после всего этого, и все-таки не мог сдержаться, кричал на Стояна Кралева и Михо Баракова, осыпал их оскорбительными эпитетами.
Две иконы, которые взял тогда Иван, были с ликами его матери и Моны. Милиционер догнал его, преградил дорогу и попытался их отнять, но Иван толкнул его в грудь и быстрым шагом направился к дому. Толпа молча следила за ним, пока он не скрылся за ближайшим домом, а Стоян Кралев, бледный и возбужденный, закричал:
– Товарищи, вы знаете, почему Иван Шибилев взбесился, когда мы взялись за иконы? Потому что это он их рисовал. Мы, товарищи, закладываем фундамент социализма, нашего светлого будущего, мучаемся, отказываем себе во всем, недосыпаем, недоедаем, а он завел дружбу с выжившим из ума попом и рисует ему для церкви иконы. Стал ли он только теперь жертвой религиозного заблуждения или мы годами носили за пазухой змею? Вы слышали, как он поносил и меня, и начальника народной милиции, видели, как он толкнул милиционера. Кто может позволить себе такую наглость на глазах у всего села, если не человек, который, хочет он этого или не хочет, льет воду на мельницу классового врага? И все из-за этой мазни…
Стоян Кралев взял несколько икон и бросил их в пламя. Запахло скипидаром и краской, сухое дерево затрещало и вспыхнуло. На одной из икон был нарисован Иисус с лицом его брата Илко. Лицо это, и без того истерзанное страданием, потемнело, покрылось кипящими каплями масла, съежилось и исчезло. Таким же образом исчез и Стою Бараков в облике Иуды с коротко подстриженными щетинистыми волосами, виновато прислушивающийся в конце стола к словам Иисуса; и Николин Миялков в облике Иоанна Крестителя; и тетушка Танка Джелебова в облике святой Мины, и еще с десяток наших мужиков и баб, старых и молодых, изображенных в ярких библейских одеяниях, с золотыми нимбами вокруг голов.
Рано утром Ивана Шибилева арестовали и увезли в город, а через несколько дней отправили в трудово-воспитательное общежитие (ТВО). Мотивы наказания стали нам известны от него самого, уже когда он вышел на свободу. Его обвинили в морально-бытовом разложении, в религиозной пропаганде, в неподчинении и нанесении побоев служащему народной милиции и еще в стольких прегрешениях, что, как он сам говорил, он даже удивился, как это его не повесили на глазах у честного народа или не засадили в тюрьму на всю жизнь. Позже он узнал, что, несмотря на эти многочисленные обвинения, в околийском комитете партии сочли, что после исключения из партии в новом наказании нет нужды, и решили его освободить, сделав лишь серьезное внушение, но начальник милиции настоял на том, чтобы послать его на некоторое время поработать, дабы он научился отвечать за свои слова и поступки.
ТВО находилось в селе Оброчиште, где было государственное земледельческое хозяйство – госхоз. Иван позднее рассказывал, что время, проведенное в ТВО, показалось ему и не таким долгим и не таким тяжелым, как он ожидал. Начальником лагеря был один из двенадцати парней, которых судили в свое время после провала ремсистской[19]19
Ремс (РМС) – Союз рабочей молодежи.
[Закрыть] организации и который сидел вместе с Михо Бараковым. Тогда это был молодой рабочий, теперь – тридцатилетний лейтенант милиции. Прочитав досье Ивана Шибилева, он порасспросил его и назначил учетчиком огородной бригады. Бригада обрабатывала огороды в соседнем селе Краневе, расположенном на берегу моря, в живописной долине речушки Батова. В праздничные и воскресные дни, когда им давали отпуск, Иван захаживал в корчму и играл там на кларнете, играл и на вечеринках, декламировал стихи, показывал всякие номера и фокусы – одним словом, и здесь, как всюду, где ему приходилось работать, завоевал симпатии и начальства, и своих товарищей, и крестьян.
Он, разумеется, был оскорблен тем, что его послали на принудительные работы, но его характер не позволял ему предаваться унынию. Он не был злопамятен, а склонность увлекаться всякой всячиной рассеивала его и успокаивала. Так его восьмимесячное пребывание в лагере, быть может, и не оставило бы заметных следов в его жизни, если бы не несчастье с Моной. Целый месяц после его высылки она ничего о нем не знала, и узнать было неоткуда. Стоян Кралев уверял ее, что тоже ничего не знает, а Михо Бараков, к которому она пробилась, сказал, что он выслан на несколько месяцев в какое-то хозяйство в Южную Болгарию, но куда именно, он, мол, тоже не знает. Иван мог написать ей сразу, как приехал на место, но был уверен, что письмо со штампом ТВО до нее не дойдет. Прошел месяц, пока он сумел послать ей какую-то пьесу и письмо от имени ее подруги из Толбухина, написанное рукой бухгалтерши госхоза. Бараков-старший вызвал Мону в сельсовет и вручил ей книгу, перелистав ее страницу за страницей, а письмо на всякий случай задержал. Прибежав домой, Мона выписала отмеченные точками буквы и составила письмо. Иван писал ей, что он жив и здоров и чувствует себя хорошо, но она была уверена, что он ее просто успокаивает. Как и все, она думала, что ТВО – это ад, где людей мучают и держат впроголодь. «Раз здешние власти столько времени скрывают, где он, – рассуждала она, – значит, это настоящий ад, и я должна любой ценой его увидеть, хотя бы на минуту, хотя бы через ограду». Мысль о том, что он в заключении в каких-нибудь сорока – пятидесяти километрах от села, не давала ей покоя, и она непрерывно строила планы, как до него добраться. Письмо его пришло в разгар молотьбы, и отлучиться из села по личным делам, хотя бы и на полдня, было более чем неудобно. Пришлось дожидаться первых дней осени, когда в хозяйстве освободился тягловый скот. В это время у нее начались приступы каких-то непонятных болей, сильный припадок случился и на глазах у Николина. Он попросил у председателя хозяйства повозку с лошадьми и еще затемно проводил жену в город к врачу, а сам остался дома с девочкой. До города было километров двадцать, до Оброчиште еще столько же, поэтому, чтобы вернуться до вечера, Мона, как только выехала из села, пустила лошадей галопом. Дорога огибала акациевую рощицу, на повороте навстречу выскочил мотоцикл с коляской и налетел на лошадей. Они встали как вкопанные, Мону кинуло вперед, и, перелетев через передок, она упала меж лошадиных крупов, ударившись о дышло. В следующее мгновение лошади рванули с места, понесли по стерне и, сделав круг, помчались обратно в село. Мотоциклист – а это был курьер из города – сообщил в сельсовете о том, что произошло, он только не видел, на какую улицу села свернули мчащиеся лошади. Они с милиционером бросились их искать, но трое мужчин уже несли Мону на одеяле. Ее оставили в сельсовете и послали мотоциклиста в соседнее село за врачом. Тот приехал через полчаса, но не застал Мону в живых. Сказал, что она скончалась, еще когда ее волочило под повозкой.