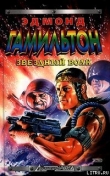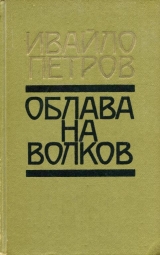
Текст книги "Облава на волков"
Автор книги: Ивайло Петров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
После той ночи в шалаше Иван по-прежнему пропадал целыми месяцами, но сообщал ей, где он, чем занимается и когда думает вернуться. Служащие в конторе общины распечатали первое же его письмо, содержание этого письма стало известно всему селу, и с тех пор Иван изобрел шифр, которого никто не мог разгадать. Он посылал ей книги с пьесами, журналы, старые газеты, любые тексты, и карандашом слегка помечал отдельные буквы. Мона выписывала отмеченные буквы, составляла из них слова и предложения и таким образом читала его письма. В каждом письме Иван обещал ей, что скоро вернется и тогда они поговорят, а она понимала это так, что он наконец предложит ей руку и сердце. Возвращаясь, он действительно вел с ней разговоры, но совсем о другом: о том, как он участвовал в каком-нибудь спектакле, помогал какому-нибудь художнику или играл в ресторане. Каждую ночь он заходил за ней и уводил из дома, а в плохую погоду залезал в ее комнату через окно. Все их встречи заканчивались тем, что он утолял свою ненасытную страсть, и к этому сводилось его обещание «поговорить».
Со временем Мона стала чувствовать себя с ним более уверенно и теперь напоминала ему, что годы проходят и пора им, наконец, стать мужем и женой. Истерзанная ожиданиями, сомнениями и страхом, как бы кто их не увидел, когда они пробираются ночью по садам и огородам, она иногда закатывала истерики, устраивала скандалы и ставила ему условие – они или женятся или расстанутся. После таких сцен Иван не приходил к ней и она отправлялась искать его по селу. Она сомневалась в его преданности, страдала от неведомых ей прежде приступов ревности, и все это, вместе с одиночеством и неизвестностью, терзало ее душу. Она знала, что для такого бродяги, как он, женитьба будет тяжким бременем, и все-таки верила ему, когда он смущенно и искренне, как ребенок, говорил ей, что никогда, что бы с ним ни случилось, никогда с ней не расстанется. Она верила и даже чувствовала себя виноватой в том, что оскорбляет его своим недоверием, искала и находила причины, которые оправдывали его неутолимое бродяжничество, и так попадала в заколдованный круг иллюзий, из которого уже не могла выбраться.
В течение двух месяцев, прошедших с тех пор, как она поняла, что беременна, вестей от Ивана не было, она не знала, где он и когда вернется. Беременность ее протекала тяжело – груди разбухли и затвердели, от некоторых запахов ее тошнило, она спала по нескольку часов до полуночи, а потом ее то и дело рвало. Лучше чувствовала она себя во второй половине дня, но и тогда не смела ходить по селу, потому что любая женщина, посмотрев ей в глаза, поняла бы, что она беременна. От чужого любопытства охранял ее и сезон – убирали бахчи, затем кукурузу и виноград, так что никто из ее подружек к ней не заглядывал, зато ей не от кого было и узнать, не вернулся ли Иван Шибилев. В другое время достаточно было увидеть его одному человеку, и в ту же минуту все узнавали о его приезде, узнавала и она – по лицу первого встречного. Кто бы он ни был, мужчина или женщина, на лице его появлялось особое выражение коварного сочувствия, насмешки и злорадства: «Твой хахаль вернулся, беги встречай!» Это была радостная весть и в то же время знак, что все потешаются над ее чувствами, что прошло уже то славное время, когда она одной капризной гримасой, точно царская дочь, лишала надежды самых видных кандидатов в женихи, а эти же самые люди смотрели на нее с недоумением и укором, но и с уважением.
Иногда ложные предчувствия или шумы, напоминающие многочисленные сигналы, которые Иван придумал в свое время для их тайных свиданий, подымали ее среди ночи с постели, она выходила во двор и, сгорая от нетерпения, прислушивалась и всматривалась в тени деревьев. Обманные удары ее сердца отдавались в тишине, и она шла по улицам посмотреть, не горит ли в окошке у Ивана свет. В эти теплые, призрачно светлые и тихие ночи ее надежда зажить когда-нибудь вместе с Иваном таяла с каждым часом, уступая место темному, беспросветному отчаянию. Иван мог не возвращаться еще целый год, мог вернуться и раньше, но она не знала, как он отнесется к ее беременности – захочет ли жениться или опять его понесет неведомо куда. Про себя она уже допускала, что он способен бросить ее и беременную, потому что знала его душу – душу непроницаемую, ангельски нежную и демонически жестокую.
Весть о том, что Деветаков завещал Илко Кралеву книги, а Николину сто декаров земли, дом, скотину и все остальное, разнеслась по селу через несколько дней после того, как Иван Шибилев уехал в город. Страшась предстоящей разлуки, бог знает какой уже по счету, Мона, однако же, не пыталась его удержать – надеялась, что на этот раз он и без того пренебрежет всеми своими делами и останется с ней. Только за полгода до этого она совершенно бесцеремонно выпроводила сватов Косты Богача и была уверена, что Иван лучше всех оценит ее поступок, совершенный ею только ради него. Но, судя по всему, Иван оценил его совсем иначе – раз Мона, скомпрометированная и уже зачисленная в старые девы, отказалась от столь выгодной партии, значит, она привязана к нему так крепко и неотрывно, что никогда и ни при каких обстоятельствах не уйдет к другому мужчине. Вольно или невольно, Иван злоупотребил ее рабской преданностью, и Мона, уязвленная его легкомыслием, впервые почувствовала, что любовь к нему непосильна для ее сердца, что она должна как-то освободиться от терзаний этой любви. И когда она услышала в селе разговоры о Николине, она вспомнила, как познакомилась с ним у себя в доме и как чутье опытной женщины помогло ей еще тогда его раскусить – несмотря на свои двадцать семь лет, он был простодушен, одинок и целомудрен. К тому же он был красивее, чем Иван Шибилев, а то, что он не сознавал своей красоты, придавало ему особое очарование. Костюм, какого никто в этом краю не носил, – юфтевые сапоги, широкополая шляпа, черный жилет и белая рубаха, – придавал ему вид человека почтенного и уравновешенного. Она мысленно поставила себя рядом с ним, подумала о том, какой прочной, нерушимой опорой мог бы он ей быть, и осознала, что призывает его образ на помощь, пытаясь найти в нем утешение в часы душевных мук. Но это мысленное сопоставление Ивана Шибилева с Николином было лишь минутной игрой больного воображения, игрой, в которую она вложила неосознанное мщение и ненависть к любимому человеку, заставившему ее страдать именно потому, что она его любила.
В тот же день, к вечеру, ее отец заговорил о Николине как о старом знакомом, чуть ли не родственнике.
– Гляди-ка, наш Николин помещиком заделался!
– С какой стати он «наш»? – раздраженно откликнулась Мона. – Два слова по пьяной лавочке сказали друг другу, и готово – «наш»!
– Чего уж там! – сказал дед Мяука. – С одним человеком всю жизнь разговоры разговариваешь, и все равно его не поймешь, а с другим только заговоришь, тут же и видишь, что у него за душа. Кабы такого человека господь нам послал, вот бы…
Он хотел сказать что-то еще, но благоразумно замолчал, потому что боялся ее рассердить. После многочисленных историй с кандидатами в женихи и особенно после скандала с Костой Богачом даже случайное упоминание имени неженатого мужчины вызывало у нее приступ гнева, а дед Мяука с его кошачьим нравом не выносил тягостных сцен. Сейчас, однако, Мона на него не рассердилась, хотя поняла его недвусмысленный намек, – ее поразило то, что и отец, в каком-то странном прозрении, в этот день так же, как она, подумал о том, что Николин, как ни противоречило это здравому смыслу, рано или поздно каким-то образом вмешается в их жизнь. Больше никогда дед Мяука об этом не заговаривал, включая тот день, когда Николин стал членом их семьи, словно он давно предвидел это как нечто естественное и неизбежное.
Иван Шибилев мелькнул в селе после замужества Моны, исчез и снова появился после рождения ребенка. «Он обманул меня и унизил, я его ненавижу», – твердила она себе и испытывала к нему такую ненависть, что сожгла и уничтожила все, что о нем напоминало: расшифрованные письма, ее портрет, который он нарисовал и подарил ей, туфли, блузки и дешевые побрякушки, которые он привозил ей при каждом возвращении. Она ходила по селу, гордо выпятив живот, показывая тем самым, что не скрывает беременности, а, наоборот, хвастается ею. Подругам, которые говорили, что живот растет у нее быстрее, чем следует, почти открыто давала понять, что даже если она родит на седьмом месяце, все равно ребенок будет «девяточкой», намекая на то, что встречалась с Николином, которого тогда называли, по имени бывшего его хозяина, «Деветак», или «Девятка», еще до свадьбы. Свадьба Радки, на которой она со многими его познакомила, была самым надежным алиби для подтверждения ее давних с ним связей. Никто не смел обвинить ее в том, что эта тайная связь была безнравственна по отношению к Ивану Шибилеву, коль скоро связь завершилась браком; к тому же – добавляла она – Иван Шибилев (тут Мона улыбалась с той циничной и убийственной иронией, на какую способна только мстящая женщина), по его собственному, хоть и запоздалому признанию, не был полноценным мужчиной. Это объясняло ее неожиданное замужество, а заодно доставило большое удовольствие нашим сплетникам, которые могли смеяться над мужской несостоятельностью Ивана и в то же время порицать его за то, что он столько лет водил девушку за нос. Только самые проницательные, имевшие в подобного рода делах особо тонкий нюх, отнеслись к заявлениям Крали скептически. Они, разумеется, не могли установить, каковы мужские достоинства Ивана Шибилева, но по опыту знали, что в таких делах следует сохранять за собой право на последнее слово. Но их было всего несколько человек, а все остальные верили Моне и хвалили ее за то, что она послала наконец Ивана ко всем чертям и стала примерной матерью и супругой.
Опьяненная страстным желанием развенчать до конца своего прежнего кумира, Мона отказалась и от театральной деятельности как раз тогда, когда особенно нужны были постановки, агитирующие крестьян за кооператив. Несмотря на просьбы и уговоры Стояна Кралева и его жены Кички, ближайшей своей подруги, она заявила, что из-за Ивана возненавидела и сцену и все, что о нем напоминает. Так прошло два года. Однажды, в конце мая, возвращаясь из лавки, Мона увидела Ивана Шибилева – он входил в клуб. Она пошла за ним и, не думая о том, один ли он и как он ее встретит, толкнула дверь и вошла. К стене около сцены была прислонена деревянная рама с полотном, на котором контуром был намечен портрет Георгия Димитрова. Рядом стояли банки с красками, кистями и рулоны бумаги, а Ивана не было. Темно-зеленый занавес был раздвинут и по обе стороны сцены завязан веревкой, а сама полутемная сцена с голыми грязными стенами и неровным дощатым полом казалась тревожаще пустой.
Мона поднялась на сцену и подошла к двери маленькой комнатки, которая использовалась как гримерная и как склад реквизита. У комнатки не было другого выхода, и Иван мог быть только там. Леденящий холод пронзил ее тело, а рука так задрожала, что она не могла нащупать ручку двери. Она постояла около минуты, бившая ее дрожь становилась все более неудержимой, ее охватил необъяснимый ужас, словно ей предстояло броситься в бездну, из которой нет выхода. В то же время какая-то зловещая сила толкала ее вперед, и она нажала на ручку. Иван стоял, плотно прижавшись к стене и повесив руки вдоль тела, и был так неподвижен, что в первое мгновение Мона приняла его за какой-то предмет. Она шагнула вперед, и его фигура выступила из блеклого полумрака. Он смотрел испуганным, немигающим взглядом и молчал. Она обняла его за плечи и почувствовала, что он оживает, лицо его приближается к ее лицу, а от рук исходит тепло…
Николин узнал о внебрачной связи своей жены примерно через год после того, как она изменила ему первый раз. Эта связь была настолько явной, что даже его недоброжелатели не сочли нужным шептать о ней ему на ухо, – так твердо они были уверены, что он и без них знает о похождениях Моны. Однако спокойствие, царившее в его семье, и особенно счастливое выражение его лица в тех случаях, когда он шагал по селу с женой и ребенком, говорили о том, что он не придает этим похождениям ни малейшего значения. Подобное безразличие, более осудительное, чем любой порок, казалось противоестественным и встречалось в истории села впервые, поэтому наши мужички начали тыкать его носом в измену жены, чтобы узнать, почему он не желает об этом слушать – то ли он невменяемый, то ли ненормальный как мужик, то ли неспособен вынести жестокую правду. Очевидцы измены засыпали его бесспорными доказательствами, а он молчал или улыбался и шел дальше своей дорогой. Доброжелатели не знали, что и думать – перед ними был такой дурковатый рогоносец, каких в нашем краю еще не видывали.
В его же глазах то, в чем люди так усердно его убеждали, было настолько бессмысленно, что не могло быть верно. Ни ум его, ни сердце не допускали, что его жена тайком «шлендрает» с чужим мужчиной. Мона дарила ему свои супружеские ласки с истинной страстью, и попробуй обвини ее в неверности, если ты испытал магию ее улыбки, если ты принимал из ее рук ребенка и слышал, как она говорит: «Ну, обними папочку!» К Ивану Шибилеву, на которого указывали как на любовника его жены, он относился с таким уважением и восхищением, что ни за что на свете не мог поверите, будто тот наставляет ему рога. Не мог такой человек, как Иван Шибилев, умный и обходительный, с золотыми руками и разнообразными способностями, тайком проникать в его семью и красть его счастье, как крадут скотину или имущество. И Николин не только не ревновал к нему свою жену, но радовался, что и она вместе с ним так замечательно играет на сцене. Они так мастерски вызывали у публики смех и слезы, что, когда в конце представления им аплодировали и кричали «браво», он краснел от удовольствия и преисполнялся гордости за свою жену. Способности, дарования и ученость он отождествлял с добротой и честностью, и тогда доброжелатели, ожесточенные его упрямством, глупостью или слепотой, а также действуя во имя «святой истины», принялись доказывать ему, что и ребенок – не его, а Ивана Шибилева.
При всем при том в селе не было в то время человека счастливее, чем Николин. Он стал уже чабаном в кооперативном хозяйстве и пас общую отару на стерне, где сохранялось много травы. Пока она еще не была вытоптана, все село пускало туда скотину. Дни стояли жаркие, и стерня расстилалась под ярким солнцем как золотистая, добела раскаленная бесконечность. К десяти часам овцы начинали сбиваться в кучки и ложиться, и тогда Николин гнал их к селу. В детстве он пас два десятка соседских ярок, с тех пор мечтал о большой отаре, осле и собаках, и теперь мечта его сбылась – у него была отара из двухсот овец, осел (Дренчо со двора деда Мяуки) и две собаки. Дренчо тащил притороченную к седлу баклагу, торбу с едой, бурку и возглавлял отару. Для Николина было настоящей радостью смотреть, как он выступает спокойно и чинно, с важностью древнего предводителя, как овцы тянутся вслед за ним длинной вереницей, а собаки, как два стража, идут по сторонам, будто бы безразличные, но готовые броситься на каждого, кто приблизится к отаре. Сам он шагал где-то посередине отары, закинув за плечи герлыгу и повесив на нее руки, прислушиваясь к мелодии полногласных колокольцев и высокому звону медных бубенцов. Длинная темно-коричневая вереница отары ползла, подобно змее, едва заметно подрагивая, волоча за собой белый шлейф пыли, и втягивалась в село под равномерный звон бубенцов. Дренчо первым подходил к старой шелковице с твердыми пыльными листьями, а овцы брели на сыроварню – круглую площадку, обнесенную низкой каменной оградой с двумя узкими, один против другого, проходами. Разгружая осла, Николин несколько раз кричал во весь голос: «Э-хей, э-хе-эй!», и к сыроварне подходили старухи с медными ведерками, а с ними и ребятня. Старухи садились на плоские камни, в два ряда, друг против друга, перед входом в сыроварню, а ребятишки изнутри по одной гнали овец. Скоро в душном воздухе разносился сладковатый запах прелой шерсти, навоза и парного молока, а сквозь женский гомон прорезался нежный приглушенный звон молочных струй, ударявших в пустые ведерки. Дренчо удалялся походкой солдата, сменившегося с поста, вольготно раскидывался на соседской навозной куче и грелся на солнце, собаки ложились неподалеку, а выдоенные овцы, опустив головы, подбегали к шелковице и собирались в тени. Николин шел домой обедать, поспать несколько часов и сделать кое-какую мужскую работу. Больше мужчин в доме не было – дед Мяука умер вскоре после организации ТКЗХ. Единственным условием, которое он поставил, вступая в кооператив, было, как мы уже знаем, сохранение за ним любимого кабриолета, и Стоян Кралев уважил его просьбу. Другие кооператоры сдали свое имущество и скотину, а дед Мяука продолжал, как и раньше, раскатывать по селу на двуколке вместе с верным Петко Болгарией, вызывая всеобщую ненависть. Однажды ночью с кабриолета сняли и утащили колеса, а коня отогнали в общую конюшню. Дед Мяука провел сутки, свернувшись по-кошачьи, в кожаном деветаковском кресле, а наутро Петко Болгария нашел его мертвым.
Под вечер, по холодку, Николин снова выводил отару в поле. Он любил стоять, опираясь на герлыгу, словно чабан былых времен, и смотреть, как овцы жадно щиплют мягкую траву, как солнце, все более громадное и пламенное, опускается к синей линии горизонта и медленно за нее уходит, как бледнеет закатное зарево, все вокруг заливает мягкий прозрачный свет, в этом свете по стерне на цыпочках приближается ночь и шаги ее потрескивают тихо и звучно. В такие вечера он часто слышал, как чабаны, остановившись неподалеку, говорят о том, что, мол, его дочка Мела вовсе и не его дочь, а Ивана Шибилева, при этом делают вид, будто не замечают его в сумерках, и перекликаются так громко, что голоса их разносятся далеко вокруг. Николин улыбался и проходил со своей отарой мимо. Чем грубее и оскорбительнее были сплетни о его жене, тем более невероятными они ему казались и тем меньше его трогали. Вместо того чтобы страдать от ревности и отчаяния, чего добивались его доброжелатели, он испытывал странное чувство наслаждения от их тщетных попыток открыть ему глаза. Чуть ли не все село поставило перед собой задачу разрушить его счастье, а это как раз показывало, как оно велико и неуязвимо. Он был один против всего села и побеждал в борьбе благодаря одному-единственному оружию – своей вере в жену. Но люди не хотели мириться с его глупой верой, тем более что она подрывала моральные устои села и поощряла разврат.
Иван и Мона тем временем стали так неосторожны, что им уже ничего не удавалось скрыть. Днем и ночью кто-нибудь следил за ними, и, как ни изобретателен был Иван, его свидания с Моной ни для кого уже не были тайной. Каждый новый их маршрут прослеживался, каждый сигнал разгадывался. Наконец, и власти решили вмешаться и пресечь «бытовое разложение», как выразился секретарь партбюро Стоян Кралев. Однако дело это оказалось очень трудным, почти невыполнимым. С одной стороны, Мона дружила с его семьей, так что, когда общественная совесть взбунтовалась и потребовала, чтобы руководители села каким-то образом обуздали Монины любовные похождения, он и его жена Кичка оказались в весьма щекотливом положении. С другой стороны, Мона участвовала в театральных представлениях еще девочкой, когда никто из женщин села, кроме Кички Кралевой, не желал ступить на сцену, она первая среди молодежи начинала носить одежду и прически, которые Кичка вводила когда-то как средство борьбы против старой моды, вообще из молодых женщин она чаще и лучше всех выполняла задания, которые и раньше и теперь давала ей партийная организация. Стоян Кралев и его жена и прежде много раз пытались внушить ей, что она должна порвать с Иваном, а она молчала, и на лице ее появлялась такая нежная и невинная улыбка, что они не смели больше ее тревожить. Однако любовные похождения этой парочки не сходили у односельчан с уст, к тому же и оппозиция, используя все средства для дискредитации коммунистов, кричала о них на всех углах, так как Иван Шибилев и Мона были членами партии. Стоян Кралев более чем кто-либо испытывал ненависть и органическое отвращение к их распущенности, но по разным причинам, прежде всего общественным, еще не брался как следует за то, чтоб их разоблачить или наказать. Мона и Иван вынесли на своих плечах тяжесть почти всей агитационной работы и в прошлом и теперь, притом работали они так хорошо, что привлекли к ОФ[18]18
ОФ – Отечественный фронт, массовая общественно-политическая организация болгарских трудящихся, работающая под руководством Болгарской коммунистической партии.
[Закрыть] не меньше половины села, не говоря уж о радости, которую они доставляли людям. Однако терпеть их развратное поведение дальше было невозможно, и Стоян Кралев наконец послал за Моной. Она пришла в клуб партии вместе с дочкой. Девочке не было еще трех лет, она знала Стояна Кралева, потому что много раз заходила с матерью к нему домой, и теперь, как только увидела его, стала шалить, залезать под стол и трогать все, что было в комнате.
– Надо было прийти одной, – сказал Стоян Кралев.
– Почему?
– Потому что разговор не для детских ушей. Приходи в пять часов, но одна.
Мона дала девочке мячик, вывела ее на улицу, чтоб она там поиграла, и вернулась.
– Я, ты и Кичка уже говорили о твоих делах, – продолжал Стоян Кралев, – но я вынужден поговорить с тобой снова.
– О каких моих делах?
– Об этих самых… с Иваном.
– А что о них говорить?
– Как что?.. Все село возмущается…
Стоян Кралев ждал, что, когда он заговорит с ней о ее внебрачной связи, она смутится, застыдится или попытается каким-то образом оправдаться, но она чинно сидела, положив руки на колени, словно послушная девочка, и с едва уловимой улыбкой смотрела ему в глаза. Эта улыбка, то ли ироническая, то ли осуждающая, поразила его и заставила на минуту замолчать. В ее улыбке была и красота, и бесстыдство, и вызов женщины, получившей и получающей все от столь долгожданной, хоть и краденой любви, и презрение ко всему и всем, кто попытается ее отнять. Чем больше смотрел Стоян Кралев на эту улыбку, тем лучше он ее понимал и тем сильнее раздражала его Мона. Все-таки он взял себя в руки и спокойно, «по-дружески» посоветовал ей устроить свою личную жизнь так, чтобы «не давать пищу досужим разговорам». Мона молча выслушала его и, направляясь к двери, сказала только «до свидания».
– Я не понял, согласна ты с тем, что я тебе сказал, или нет? – спросил Стоян Кралев, провожая ее до дверей.
– Говоришь, все село возмущается? Я возмущаюсь всем селом! – сказала Мона, и лицо ее покрылось густым румянцем.
– Что? Воз-му-щаешься се-лом? Ну-ка вернись и сядь!
– Чего мне возвращаться? Опять будешь талдычить свое. Я уже наслушалась.
– Я разговариваю с тобой как товарищ, желаю тебе добра, и все – как об стенку горох? Так, что ли?
Мона смотрела ему в глаза, и на лице ее снова появилось насмешливое выражение. «Наглая, испорченная бабенка», – подумал Стоян Кралев и отвернулся.
– Тебе не приходит в голову, что твоя связь с любовником аморальна? Ты хоть раз об этом подумала?
– Почему аморальна? Разве бывает аморальная любовь?..
– Бывает! Ваша любовь с Иваном как раз аморальная. Если развратную связь замужней женщины с любовником вообще можно назвать любовью.
– Я-то знаю, что такое любовь, а ты нет!
– Знаешь, как собачьи свадьбы по чужим огородам устраивать! Это бытовое и моральное разложение, а не любовь! – Стоян Кралев стоял спиной к двери, словно боялся, что Мона убежит, и, как всегда в таких случаях, давал волю своему гневу. – Все село от вас стонет, а у вас ни стыда, ни совести. Вы коммунисты, опомнитесь, пока не поздно!
– Я потому и живу на свете, что люблю этого человека. Никто не имеет права меня судить, – сказала Мона и хотела уйти, но Стоян Кралев преградил ей дорогу.
– Каждый порядочный человек имеет такое право.
– И оппозиция?
– В данном случае и она. Оппозиционеры, может, и такие и сякие, но разврату не предаются. Поэтому теперь они потирают руки и говорят: вот какие люди у власти, вот кто распоряжается народным достоянием. Землю и скотину сделали общей, теперь и жен общими сделают. Ты не понимаешь, что все на нас смотрят, следят за каждым нашим шагом? Мы должны быть образцом во всех отношениях. И что ты позоришь мужа, делаешь такого хорошего человека несчастным? Не совестно тебе, что ты ему так отплачиваешь? Ведь он тебя из рук Ивана Шибилева взял, дом и семью тебе подарил!
– Пусти меня! – закричала Мона, сдерживая рыданье, а лицо ее исказили спазмы. – Ты жестокий, безжалостный человек, только и знаешь, что в чужих душах хозяйничать. У тебя самого ни сердца, ни души.
– Это потому что я советую тебе взяться за ум? А у твоего возлюбленного есть сердце и душа? Были бы, не стал бы он бродить по свету и приходить к тебе раз в год по обещанию. Ты семьей пренебрегаешь ради него, ребенка ему родила, а он…
Мона вскрикнула, изо всех сил дернула ручку двери и выскочила из комнаты.
Вскоре Стоян Кралев послал сообщить Ивану Шибилеву, что тот должен явиться в клуб по срочному и важному делу. В ожидании Стоян ходил от стены к стене и уговаривал себя сохранять спокойствие, поскольку знал Ивана лучше, чем кто бы то ни было, и предполагал, что разговор с ним будет напряженным и трудным. Позже читатель узнает из нашего рассказа, какую большую политическую и просветительскую работу проделали эти два человека до Девятого сентября, когда, кроме идейного единомыслия, их связывала и дружба. В новой жизни и работа, и путь их оказались разными. Стоян Кралев стал секретарем сельской партийной организации и взял в свои руки руководство селом, а Иван Шибилев, как всегда, сновал из села в город и обратно. Правда, год назад он как будто был принят в штат Шуменского театра, и Стоян Кралев хотел проверить, так ли это, а если так, он смог бы более определенно поставить перед ним вопрос об отношениях с Моной. Вопрос, конечно, и сам по себе был деликатный, но Стояна Кралева особенно беспокоил характер Ивана, человека с переменчивым нравом, с собственными принципами и взглядами на жизнь, веселого, нежного, самоотверженного и покладистого, готового все отдать другим, а иногда своенравного, угрюмого и упрямого, что, разумеется (если говорить честно), не помешало ему славно поработать по партийной и просветительской части и сделаться любимцем всего села.
Итак, Стоян Кралев не ждал ничего хорошего от предстоящего разговора, но и не допускал, что он будет таким резким и приведет к полному разрыву. Как он и предполагал, Иван держался так, будто в его отношениях с Моной нет ничего предосудительного и будто эти отношения не компрометируют Мону в глазах села и не разрушают ее семьи. Любовь – это свобода духа, святая святых человека, свободен тот, кто любит, а раб тот, кто не способен испытывать любовь, говорил он, словно произнося монолог на сцене. Монолог его продолжался еще несколько минут в том же духе, отвлеченный и туманный, и Стоян Кралев начал терять терпение. Как ни уговаривал он себя, что должен сохранять спокойствие, нервы его все больше натягивались, и он снова зашагал по комнате, не в силах справиться с нервным тиком в правом углу рта. Он, естественно, тут же сообразил, что Иван пытается заговорить ему зубы разными учеными словесами, чтобы выиграть время или перевести разговор в другую плоскость. И он не ошибался, потому что Иван действительно декламировал по памяти монолог о любви из какой-то классической пьесы. В свою очередь и тот знал Стояна Кралева как самого себя и, как только понял, что по замыслу Стояна ему предстоит не только исповедь, но и проповедь, захотел лишить Стояна этого удовольствия и в то же время внушить ему, что у него, Ивана, нет ни малейшего намерения слушать его догматические суждения о морали и прочем. Иван не испытывал к нему неприязни, но давно уже не выносил его повадок недоучки, которые, в сочетании с высокомерием сельского властелина и партийного деятеля крупного масштаба, вызывали насмешку и сожаление.
– Оставим громкие слова в покое! – сказал Стоян Кралев. – Мы знаем, что ты артист и всякое такое. Скажи мне лучше на простом и ясном человеческом языке, без всяких твоих выкрутас, какие у тебя намерения по отношению к этой женщине? Оставишь ты ее в покое, перестанешь отрывать от семьи или увезешь с собой?
– Хорошо, скажу на простом и ясном языке. Об этих вещах ни на простом, ни на сложном языке говорить нельзя. Я по крайней мере не могу. А если б и мог, с какой стати я буду исповедоваться тебе?
– Не мне, а партии! – сказал Стоян Кралев.
– У тебя, значит, нет собственного мнения.
– Есть, но оно полностью совпадает с мнением партии. Я говорю с тобой как коммунист с коммунистом. И вопросы ставлю с партийной точки зрения, а не с личной.
– Ты хочешь сказать, что ты отождествляешь себя с партией. – Стоян не понял его и бросил на него гневно-вопросительный взгляд. – Ты вызвал меня, чтобы судить от имени БКП, это означает, что ты отождествляешь себя с партией. Как попы – они осуждают или одобряют не от своего имени, а от имени господа. В таком случае мне надо остерегаться. Если я отвечу тебе не так, как ты хочешь, значит, я отвечаю не так, как хочет партия. Если я тебя обижу, я обижу партию. Но я тебе уже сказал, что любовь свята и неприкосновенна. Как можешь ты требовать от меня, обязывать меня исповедоваться перед тобой в своих самых сокровенных чувствах и намерениях? Это святотатство не только по отношению к моим чувствам, но и к моей личности.
– Послушай меня, Иван, послушай, браток! Мы с тобой не в театре и не играем роли. Ты прекрасно знаешь, что партия стоит надо всем, над всеми личными чувствами и прочим. Любовь имеет партийно-классовый характер, а раз это так, партия имеет право вмешиваться в интимную жизнь коммуниста, если эта жизнь аморальна и пятнит коммунистическую нравственность. Я снова спрашиваю тебя, перестанешь ты таскаться к этой женщине или нет? Если вы будете встречаться и дальше, вам обоим нет места в партии, так и знай. Слухи о ваших любовных похождениях дошли до околийского комитета партии, и оттуда мне уже несколько раз поступали строжайшие указания разобраться в этой истории. Партия не станет терпеть, чтобы двое коммунистов развратничали на глазах у всего села. Разве могут двое коммунистов позволять себе внебрачную связь? Это преступление против нашей святой коммунистической морали. Как ты знаешь, предстоит новая кампания по вовлечению крестьян в ТКЗХ, и мы, коммунисты, должны быть на передовых рубежах как на политическом, так и на моральном фронте. Иначе люди за нами не пойдут. Как только мы заводим речь о ТКЗХ, все, особенно оппозиционеры, выставляют разные причины, по которым они не хотят вступать в хозяйство, и одна из них – ваши шашни с Моной. Иван Шибилев, говорят, в прежние времена все о коммунизме и колхозах нам толковал, а теперь мы видим, что у него за коммунизм. Блядует с чужими женами и на всех плюет. Верно? Верно. Слухи доходят, что ты и с другими бабами гуляешь в своих театрах или где там тебя носит. Коли есть у тебя там бабы, зачем тебе эта? А если ты уж так без нее не можешь, сделай ее законной женой. Ты ж говоришь, любовь у тебя святая! Святая-то святая, да только на словах, а на деле кобелиная. Так больше не пойдет. Или оставишь Мону в покое, или увози ее с собой в Шумен. Вместе с ребенком, конечно, с девочкой она не расстанется. Ты ее удочеришь.