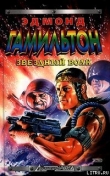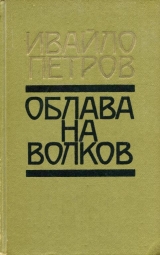
Текст книги "Облава на волков"
Автор книги: Ивайло Петров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Цветная фотография, которую он мне дал, была сделана так, чтобы как можно лучше продемонстрировать благосостояние Марчо. Он и его жена сидели на стульях посреди двора, утопавшего в цветах и зелени, дети сидели перед ними на траве. Сзади виднелся их дом с верандой и островерхой крышей, рядом с домом, под навесом какой-то хозяйственной постройки, – синяя легковая машина и томатного цвета маленький трактор. Дети, оба, были смуглые, как отец, а мать их – светло-русая, почти белая, словно альбинос.
Снаружи на лестнице послышались шаги, Киро выхватил фотографию у меня из рук, положил ее в ящик стола и сделал мне знак, чтобы я хранил в тайне то, о чем мы говорили. Тетушка Танка вошла и, увидев меня, воскликнула своим звонким голосом:
– Смотри-ка, кто к нам пришел! Господи, в доме гость, а я по селу гуляю! В магазин пошла взять кой-чего, потом к Иване заглянула, ей что-то все неможется. – Она положила покупки на стол и поправила платок на голове. – Ну, гостюшка, добро пожаловать!
Она протянула мне пальцы, как это делают, здороваясь, деревенские женщины, и я поцеловал ей руку. При каждой нашей встрече я напоминал ей о Марчо, видел страдание в ее глазах, но и она, так же как муж, никогда о сыне не заговаривала. Я хотел сказать, что рад видеть ее здоровой и бодрой, но она сама подошла ко мне ближе, приподнялась на цыпочках и молча поцеловала в левое плечо. Нежный жест этой простой женщины тронул меня, я обнял ее голову, погладил, она всхлипнула, закрыла лицо руками, и между пальцев ее проступили слезы.
– Каждую ночь в белом снится! Одежа белая, а в руках красные цветы…
– Что ты, ровно покойника оплакиваешь! Грех это! – прикрикнул на нее Киро. – Люди не затем приходят, чтоб про твои горести слушать! Иди-ка лучше принеси нам чего-нибудь поесть!
– Да ладно уж, ладно! – с тихим упреком сказала тетушка Танка и пошла к двери. – Слова при тебе не скажи. И что у тебя за сердце такое. Выпейте пока, а я сейчас соберу на стол.
– Женщины – что с них взять! Дай им только пореветь вволю! – сказал Киро, когда мы снова уселись с ним за стол, как будто сам он только что не плакал. – Никто на этом свете не вечен. Человек с рожденья в могилу смотрит, и, пока живет, чего только с ним не случится. Когда что хорошее, это всяк переживет, а ты попробуй с бедой совладай. Или она тебя, или ты ее, в сторонке не переждешь… Ты закусывай колбаской, а сейчас и обедать будем. Обед хозяйка давеча приготовила, прежде чем из дому уйти. За твое здоровье! Я ж тебе говорю, прошлогоднее, молодое на днях начну. В этом году виноград припозднился, зато сахаристый. Сорок дней сусло кипело…
Нетрудно было догадаться, что Киро говорит о винограде, вине и прочем, только чтобы перебить впечатление, которое могла на меня произвести проявленная им сентиментальность. Менее чем за минуту он сумел придать своему лицу такое спокойное выражение, что, не прочти я сообщения о смерти Марчо, я б нипочем не угадал, какое горе лежит у него на сердце. Тетушка Танка скоро накрыла на стол. И она, как и муж, сумела справиться со своим лицом, заулыбалась, как подобает гостеприимной хозяйке, и то и дело предлагала мне отведать того или другого.
– Ох, милок, да ты словно воробышек клюешь! Ешь как следует, ешь!
Этот обед был для меня тяжким испытанием, все угощение становилось мне поперек горла. Я с усилием глотал, говорил абы что и не мог освободиться от чувства, что присутствую на поминках, ибо я тоже посвящен в страшную тайну, которая неведомыми путями дошла до сердца матери, и она лишь из уважения ко мне не дает воли своей скорби. В молчании ее мужа была отчаянная гордыня, а в моем притворстве – кощунство по отношению к святой родительской скорби. Еще в начале обеда я предупредил, что мне надо собираться в дорогу, и когда обед кончился, встал из-за стола. Тетушка Танка заохала, что не успеет приготовить мне ничего вкусного для Софии, засуетилась и, наконец, сунула мне в руки несколько подков свежей колбасы-луканки. С тетушкой Танкой мы попрощались на лестнице, а Киро проводил меня до улицы.
– Ты уж извини, что я тебя в наши невзгоды посвящаю, да так сошлось, – сказал он, протягивая мне руку на прощанье. – А если погода совсем испортится и ты не сможешь ехать, приходи в воскресенье утром в корчму, молодые вина будем пробовать.
Я вернулся в старый дом к своей тетке, которая все еще жила в селе. Она растопила печку, в комнате было тепло, пахло сырыми поленьями и чебрецом, а на улице уже мело и сильный ветер гнул ветви деревьев. Я лег на кровать поверх пестрого покрывала и попытался читать, но не мог сосредоточиться и на первой же странице отложил книгу. Я думал о покойном Марчо и представлял его себе в разные годы, с детских лет и до времени его последней фотографии. Я знал, что мы сидели на одной парте с самого первого класса, но помнил его начиная со второго, с того дня, когда учитель Пешо вошел в наш класс с учительницей Гортензией и построил нас вдоль стены для осмотра. Вероятно, это было в начале учебного года, поскольку я помню, что на руках и вокруг рта у всех у нас были коричневые пятна от недозрелых грецких орехов, а наши свежеостриженные головы блестели, как луженые миски. Учитель Пешо велел нам расстегнуть верхние пуговки на рубашках и разуть левую ногу, взял в руки указку и пошел вдоль шеренги. Первым делом он проверял, чисты ли уши и шеи, потом осматривал воротники – на предмет вшей, и наконец выяснял, подстрижены ли ногти на руках и разутой ноге. За нестриженые ногти и грязную шею полагалось три удара указкой по ладони, за вшей – по пять ударов. Ребята помалодушней начинали плакать раньше, чем он взмахивал указкой, и прятали руки, но исступленный блюститель гигиены хватал руку плачущего, поворачивал ее ладонью вверх и отсчитывал необходимое число ударов. Пешо учительствовал в нашем селе с тех пор, как открыли школу, и во всем селе, от ребятишек до их дедушек и бабушек, не было жителя, которого он хоть раз не проучил бы своей указкой. Честь исполнения этой экзекуции принадлежала ему как старейшине учительского корпуса, и он трудился так добросовестно и аккуратно, что барышня Гортензия не могла удержаться от слез и выскакивала из класса. В дни, определенные для кампании по борьбе с нечистоплотностью, особенно в начале учебного года, когда мы приходили в школу прямо с поля, вольные и дикие, как скотина, которую мы пасли все лето, в классах раздавались такие вопли, словно там шло полицейское дознание, а потом все разбегались по домам. До позднего вечера во дворах горели очаги, матери раздевали нас догола, обирали вшей, драили нас и выпаривали в чанах нашу одежонку.
Марчо я запомнил с того дня, вероятно, потому, что он единственный из всего класса удостоился не наказания, а похвалы. Учитель Пешо долго и тщательно осматривал его, удивленный, а может быть, и разочарованный тем, что впервые за свою многолетнюю учительскую практику не может воспользоваться правом экзекутора. Он раздел Марчо до пояса, проверил его одежду до последнего шва, но редкий случай чистоплотности был неоспорим, и учитель в конце концов был вынужден поставить Марчо в пример всей школе. В учении, однако, Марчо особенно не блистал, у него не было ни провалов, ни больших успехов, и благодаря своему трудолюбию и прилежанию он переходил из класса в класс с четверками и пятерками[28]28
В болгарской школе принята шестибалльная система оценок.
[Закрыть]. Наша с ним дружба была не совсем бескорыстна, зато взаимовыгодна. Я скоро заметил, что Марчо на уроках заглядывает в мою тетрадку, а на переменах спрашивает про то, что задано к следующему уроку. Я говорил ему что знал, а он оказывал мне мелкие услуги – то ластик даст, то перочинный ножик, который был приторочен цепочкой к его карману. Поздней осенью и зимой бывали дни, когда село тонуло в грязи и снегу. Отцы на закорках переносили нас утром в школу, а вечером домой. Мы брали с собой в торбочках еду и закусывали каждый за своей партой. Марчо приносил на обед кусок брынзы, жареное мясо, колбаску, сливочное масло или брынзу, и я начинал поглядывать на его обед, как он заглядывал на уроках в мои тетрадки. Больше всего меня привлекал его хлеб, обыкновенно горбушка большого, пышного и мягкого каравая с розовой корочкой. Именно из-за этого хлеба я стал более систематически заботиться об учебной подготовке Марчо. Я повторял с ним уроки, помогал выполнять письменные задания, а его меню становилось все более разнообразным и обильным. Он выкладывал угощение на середину парты, предлагал мне брать, что я хочу, и я брал. Так с самого раннего возраста я начал продавать свой интеллектуальный труд, удовлетворяя взамен насущные материальные нужды.
Когда нам подошло время учиться в гимназии, Киро Джелебов сам предложил снять для нас с Марчо общую комнату. «Мальчики привыкли здесь всегда быть вместе, пусть и в городе вместе живут», – сказал он, но его предложение едва ли было продиктовано сентиментальными соображениями, тем более что в гимназию ехали учиться и другие ребята, притом из более зажиточных семей. Он был хозяином средней руки, на нашу семью посматривал сверху вниз, но, видимо, оценил ту помощь, которую я оказывал его сыну в начальных классах, и надеялся, что и в гимназии я буду его «тянуть». Так или иначе, нам нашли комнату, договорились с хозяевами о пансионе, определили, сколько и каких продуктов нам привозить, и Киро с моим братом уехали, а мы с Марчо с этого дня стали гимназистами.
Город как будто не произвел на Марчо особого впечатления, во всяком случае никак не изменил его образа жизни. После первого же учебного дня он обернул все свои учебники и тетрадки в синюю бумагу, приклеил этикетки, расставил их в углу шкафа, после ужина повторил уроки и лег. На следующее утро встал на час раньше меня, почистил ботинки, вычистил щеткой одежду, умылся во дворе у колонки и разбудил меня. И так было все пять лет, что мы вместе жили и учились. Марчо и в гимназии не проявил особых способностей, но ниже четверки не спускался никогда. Как хороший отец поровну распределяет свои заботы между всеми детьми, так и он, словно на аптекарских весах, поровну распределял свое усердие между всеми предметами, так что в его дневниках, а потом и в аттестате о среднем образовании успехи его выражались стройной колонкой четверок. Эта колонка, вся составленная из цифры 4, подобно цепочке из одинаковых звеньев, говорила о посредственности обладателя четверок, но в то же время и о его редкостном постоянстве и твердости духа. И его отец, во всем прочем взыскательный и честолюбивый, не заставлял сына добиваться большего. Когда занимаешься чем-нибудь одним, говорил он, дело само движется вперед и рано или поздно приведет тебя к успеху.
Каникулы, особенно летние, Марчо проводил больше в поле, чем дома, одетый, как и все сельские ребята – в рубаху и постолы, на голове – соломенная шляпа. У Джелебовых было около шестидесяти декаров ухоженной земли, и Марчо, как и его отец, чувствовал себя на этой земле настоящим хозяином. Когда мы были в предпоследнем классе гимназии, его младший брат тоже приехал к нам учиться, а самый младший тем временем кончил прогимназию, так что в семье было четверо полноценных работников. Киро Джелебов мог рассчитывать на любого из сыновей, даже на самого младшего, который не настолько еще окреп, чтобы работать мотыгой и серпом, но смотрел за скотиной не хуже взрослых. На уборке Киро жал с внутренней стороны прокоса, чтобы прямо вести линию, а сыновья шли слева от него, оба скинув «по-городскому» рубахи, загорелые и сильные, точно взрослые мужики. Если накануне не было дождя, все трое оставались ночевать в поле. Ужинали в темноте, расстилали под грушей снопы и мгновенно засыпали. Самый младший, Димчо, с другими ребятами ходил в Преисподнюю в ночное, а утром вместе с матерью привозил в поле еду. Киро Джелебов просыпался ночью по нескольку раз, смотрел на сыновей – кто как спит, определял по звездам, который час, и снова ложился, но спал чутко. Ему снились неясные сны, и в то же время он слышал шумы ночи, улавливал запахи трав, пшеницы и земли. И так, пока из села не доносился первый, еще хриплый и сонный петушиный крик. Он тихо вставал, чтобы не разбудить мальчиков, которые спали крепким и сладким сном, и шел на другой конец полосы надергать соломы на перевясла. На востоке синева неба бледнела, переходила в сиреневый, розовый и, наконец, золотисто-желтый цвет. До тех пор он успевал навить перевясла, и, когда подходил, чтобы положить их под грушу, мальчики, заслышав его шаги, вскакивали, как солдаты на побудке. «Подремали б еще, рано», – говорил он, но ребята споласкивали лица водой из кувшина и брались за серпы. В первые дни на руках у них появлялись кровавые мозоли, по утрам они с трудом разгибали пальцы, но никогда не жаловались, а подшучивали друг над другом, что превратились, мол, в городских белоручек. С самого раннего детства они привыкли трудиться и с патриархальным благоговением относились к родителям, которые, ради того, чтобы дать им образование, обрекали себя на лишения. Дома, в поле или в любом другом месте, как только появлялись их мать или отец, они тут же вставали, никогда не тянулись раньше родителей к еде и не позволяли себе в их присутствии никаких вольностей. Киро Джелебов не докучал им наставлениями о пользе труда, будучи уверен, что кому сколько сил и способностей дано, тот столько к делу и приложит. А они никогда не просили у него ни денег, ни одежды, потому что знали – он даст каждому и вовремя все, что положено. Кровная солидарность рождала взаимное доверие, и в семье их никогда не бывало ни ссор, ни распрей.
До восхода солнца они проходили один или два прокоса. Над полем лежала легкая прозрачная мгла, на колосьях сверкали мелкие капли росы, перепела кричали наперебой чуть ли не в ногах у жнецов. Они спешили побольше успеть до жары и работали молча, а за ними вырастали ряды стянутых перевяслами снопов. И когда солнце поднималось на два-три человеческих роста, уже опавшее и яростно раскалившееся, на дороге появлялась телега. Младший, Димчо, погонял лошадей, а мать сидела в телеге, придерживая посудины с едой. Она тоже вставала с первыми петухами и спешила растопить печь, подоить корову и буйволицу, выгнать их в стадо, накормить птицу и, наконец, приготовить еду для работающих в поле мужчин. Пока они подходили, пока умывались, она расстилала в тени скатерть и расставляла еду, приготовленную рано поутру: куриную похлебку, кислое молоко, брынзу, огурцы, компот из кислой сливы или воду с тертым чесноком, сахаром и уксусом для утоления жажды – все это в мисках, глиняных крынках и кувшинах, завязанных белыми тряпками или заткнутых тыквенным листом. Мальчики набрасывались на еду, как оголодавшие волчата, а она брала понемножку, лишь бы не привлекать внимания тем, что сидит в сторонке, скрестив руки, и не сводила глаз с сыновей, потому что только тут и могла ими полюбоваться. Утром они вставали рано, вечером возвращались в темноте, а лето вон оно, уже на исходе, завтра наденут гимназическую форму, и только она их и видела.
– Ты что жмешься, для нас одних, что ли, готовила? – спрашивал Киро, глядя на то, как она, словно бы стесняясь, протягивает руку к еде.
– Вы на меня не смотрите, ешьте, да побольше, жатва сил требует, тяжелей работы нету, – отвечала она. – А я, пока готовила, того, другого попробовала, вот и сыта.
Все ее сыновья были как две капли воды похожи на отца: смуглые, с жесткими черными волосами и сине-зелеными глазами, работящие и сноровистые, как он. Она не смела приласкать их кроме как мысленно или во сне. Даже младшенький уже вывертывался из-под ее руки, хмурился и боялся, как бы старшие не подумали, что его считают ребенком. Мелькали друг за другом жатва, молотьба, Богородица с первой корзиной винограда, и вот уже четырнадцатого сентября рано-рано утром несколько телег везли гимназистов в Варну, Добрич, Провадию. Киро Джелебов провожал троих – старших в Варну, а младшего в Образцовое поместье возле Русе, дававшее среднее сельскохозяйственное образование.
События Девятого сентября застали нас с Марчо в армии. Он служил в Варне, я – в Шумене. Когда мы демобилизовались и вернулись домой, село наше едва можно было узнать, такое там шло брожение. Домашние регулярно сообщали нам в письмах обо всем, что у них происходит, и все же мы были поражены наступившими переменами, и прежде всего кипением политических страстей. До Девятого сентября только несколько гимназистов открыто говорили о своих политических убеждениях, и двое из них попали в тюрьму, наперечет были и взрослые, известные как коммунисты или члены Земледельческого союза, а теперь все записались в разные партии. В селе появились социалисты, члены партии «Звено», радикалы, притом раньше они и не слыхивали о таких партиях, не говоря о том, что не знали их политических программ. Они заседали в своих клубах, принимали решения, набирали или исключали членов, ссорились между собой, ссорились и со сторонниками других партий. Публично перемывалось грязное белье, сводились старые счеты, так что посторонний человек мог подумать, что наши мужики все на ножах друг с другом. Позже, однако, выяснилось, что социальное и классовое сознание выросло у наших мужичков еще не настолько, чтоб им всем перебить друг друга. Подоплекой всей этой политической истерики был страх перед ТКЗХ. Многие надеялись, что, если они вступят не в Коммунистическую партию, а в любую другую, обобществление земли их минует. Если, мол, партия коммунистов обязывает своих членов устраивать общее хозяйство, пусть устраивают на своей земле, а хозяева из других партий будут обрабатывать свою землю, как они это делали до сих пор. Стремясь таким образом себя обезопасить, отцы, сыновья и братья из многих семей вступали в разные партии, продавали землю, переписывали ее на наследников, чтобы уменьшить размеры госпоставок и налогов.
Киро Джелебов был одним из немногих, если не единственным в селе, кто остался в стороне от всяких партий. Если его звали на общесельское собрание, он не отказывался, слушал с начала до конца все, что там говорилось, и шел домой. В селе было с десяток крестьян, которые из-за авторитета своего в глазах односельчан требовали особого подхода. Считалось, что, если эти хозяева заупрямятся и откажутся вступать в ТКЗХ как члены-учредители, они внесут смятение и в души остальных, и наоборот, если они вступят, за ними потянутся другие. Стоян Кралев давал нам указания разговаривать с этими людьми о коллективизации едва ли не прибегая к аллегориям, всячески их обхаживать, улещивать и заверять, что и в общем хозяйстве они, как отличные хозяева, будут пользоваться всеобщим уважением. Киро Джелебов ни единым намеком не давал повода относить его к категории «трудных», но его созерцательное отношение к событиям в эти дни всеобщего возбуждения заставляло нас думать, что вступить в общее хозяйство ему будет нелегко и что он, быть может, никогда на это не решится. С другой стороны, однако, все мы ждали от него какого-то приятного сюрприза, то есть мы надеялись, что, обдумав и взвесив все лучше остальных, он в один прекрасный день, быть может в самый последний день, даже в последнюю минуту, уже на самом учредительном собрании, поднимется из последнего ряда, где он обычно сидел, и молча протянет заявление с просьбой принять его в ТКЗХ. Испытывая к нему такого рода двойственное чувство, Стоян Кралев подробно инструктировал меня, как его обрабатывать и как в конце концов любой ценой привлечь на нашу сторону.
– Мне не надо тебе объяснять, что он за птица, ты лучше других его знаешь. Ты для него свой человек, общий язык найдете легко, так что действуй!
Давая мне это задание, Стоян Кралев был так во мне уверен, что это обязывало меня немедля приступить к делу. На другой же день я нашел повод заглянуть к Киро. Для нас, молодых агитаторов, было вопросом престижа, кто сколько человек сумеет вовлечь в ТКЗХ, да и в агитационной работе была своя романтика. Наши мужички, столь легковерные по отношению к разным политическим партиям и всегда ждущие друг от друга подвоха, неожиданно образовали против нас единый фронт, но и мы превратились чуть ли не в нечистую силу и всякими хитроумными способами проникали в их дома. В какие только положения мы ни попадали – чаще всего, разумеется, неприятные! Кто провожал нас добром, кто посылал вслед проклятья и натравливал собак; нас загоняли в угол вопросами, на которые и сам Маркс не мог бы найти ответа, нам устраивали ловушки. На все это мы отвечали с терпением миссионеров, приобщенных к великой тайне и с безмерной жертвенностью занявшихся тем, чтобы посвятить в нее нищих духом, а языки наши при любых обстоятельствах не переставали молоть с бешеной скоростью. Насчет «сельских масс», то есть всех, кроме того десятка человек, о которых мы только что говорили, Стоян Кралев давал ясные и твердые указания. «Ухватишь его, так не выпускай, пока не запросит пардону. Где бы ты его ни встретил, на улице ли, в поле или в корчме, втолковывай ему, какие у коллективного хозяйства преимущества перед частным, как помещики и кулаки эксплуатируют крестьян, а главное – как благоденствуют советские колхозники. Декларация пусть лежит у тебя в кармане, чуть только скажет «да» – вытаскивай, и пусть подписывает!» И мы выполняли его указания с восторгом и воодушевлением. Все, что мы слышали и читали о советских колхозах, мы пересказывали сельчанам с таким вдохновением и наглядностью, будто сами уже были полеводами, животноводами и механизаторами. И чтобы не оставлять в их недоверчивых душах ни капли сомнения, под конец мы выкладывали последний и самый сокрушительный довод по части благоденствия колхозников: в конце года колхозники берут лишь малую долю своего вознаграждения, поскольку эта малая доля так велика, что ее с избытком хватает на удовлетворение всех их нужд. Более того, колхозник может сколько ему угодно пользоваться общим имуществом. Значит, если б кому-то взбрело в голову прирезать сегодня десяток кур, он бы их прирезал, и никто б ему слова не сказал, но он сам не станет этого делать, не станет наносить ущерб общему хозяйству, потому что он человек сознательный, новый советский человек, и прочее в том же духе.
Киро Джелебов во внутреннем дворе грузил на телегу коровий навоз. Надев старые галоши, в одной рубахе и закатанных штанах, он всаживал железные вилы в густую кашу и бросал навоз в телегу. Над навозной кучей поднимался пар, кругом разносился терпкий запах перепревшего коровяка, в ногах у Киро путались куры, которые каждый раз, как он поднимал вилы, остервенело кидались на червей. Он осторожно отгонял их и выговаривал, словно непослушным разлакомившимся детям:
– Ну куда ты лезешь, ты ж оглянуться не успеешь, как я тебя на вилы насажу. Целыми днями клюешь, и все тебе мало. А ну, кыш отсюдова!
Он был так занят делом, что заметил меня, только когда скрипнула садовая калитка. Воткнув вилы в кучу, он пошел мне навстречу.
– За руку не буду здороваться, руки грязные, но ты заходи, заходи! Решил вот подбросить немного навозу на ту полоску, что у Рощи. Этот год я там подсолнечник посеял, так на одном конце ни в рост не пошел, ни семя не налилось. Я так думаю, место там наклонное, почву дождями смыло, вот я телегу-другую навоза и хочу туда отвезти. Пойдем посидим в доме! Хозяйка нас виноградом угостит либо еще чем.
В это время тетушка Танка вышла на террасу, увидела меня и тоже стала звать в дом. Я сказал ей, что забежал по дороге на минутку, а на днях приду к ним в гости. Она стала развешивать под стрехой связки лука и чеснока, а мы с Киро остались во дворе. Я спросил его, пишет ли им Марчо, который два месяца назад поступил в Софийский университет, спросил и о других сыновьях. Он сказал, что Марчо пишет регулярно, у него все в порядке, поселился вместе с одним пареньком из-под Пловдива. Перед отъездом он собирался поступать в политехнический, но в Софии передумал и поступил на агрономический факультет. Агроном так агроном, дело хозяйское. Позавчера Киро отправил ему посылочку, подбросил кой-чего из продуктов, с продуктами в Софии туго. Анё марширует на плацу, а Димчо в этом году, коли все будет ладно, закончит ученье в Образцовом поместье.
Рассказывая мне о сыновьях – по нескольку слов о каждом, словно сообщая краткие сведения о посторонних людях, – Киро машинально снова взялся за вилы и, перебрасывая навоз в телегу, заговорил о курах, которые по-прежнему путались у него в ногах, выискивая червей:
– Не знаю, замечал ты или нет, но куры эти, что козы – такие же обжоры. Козу, если не трогать, целый день будет зелень щипать и все одно не наестся, и курица так же – с утра до вечера стучит клювом, словно швейная машина. Как посмотреть, зоб-то у ней меньше моей горсти, а ровно бочка бездонная. Особенно вот эта, рыжая, старозагорской породы, от зерна не оттащишь. Род-айланды едят меньше, а весу больше набирают. Что ни клюнет, все впрок идет. И плимутроки тоже такие. А леггорны самые ноские. Круглый год, можно сказать, несутся, каждый день. Тюрю только надо им давать, отруби замачивать или подсолнечник. А от кукурузы, от другого зерна слабо несутся. Обыкновенная курица, а знает, чего ей надо. И еще скажу – почве она злейший враг. На неделю пусти ее в огороде покопаться, что уж она с почвой делает, не знаю, а только удобрений не внесешь, на другой год урожая не жди.
После этой краткой, но исчерпывающей лекции по птицеводству Киро принес воловье ярмо, которое было прислонено к стене хлева, и принялся прилаживать его к дышлу, а я пожелал ему приятной работы и пошел восвояси. Я не ожидал особого успеха от своей миссии, ведь я знал, что этот первый разговор – лишь начало, и все же у меня появилось чувство, что встречаться с Киро мне будет все труднее. Мне казалось, что я посягну на его достоинство, если начну убеждать его совершить в своей жизни такой переворот, каким должен был стать для него отказ от частной собственности. Уговаривать других хозяев мне ничего не стоило, к Калчо Соленому, например, я мог зайти когда угодно, мог заговорить с ним и на улице. Сначала он категорически отказывался слушать об «этом дьявольском текехе», но постепенно разговор увлекал его, и когда мне удавалось (а удавалось мне всегда) заверить его, что в общем хозяйстве всю работу в поле будут выполнять машины, он простодушно восклицал: «Куда ж лучше!» Однако как только я предлагал ему подписать декларацию, он отвечал: «И для этого время придет, нам спешить некуда, ты не волнуйся!» И он действительно стал членом-учредителем кооперативного хозяйства. С Жендо Ивановым мы виделись по нескольку раз в день, потому что наши семьи жили как бы в одном дворе, символически разделенном прогнившим плетнем. Долгие годы я, как и все остальные в селе, не знал, почему его называют Разбойником, тем более что он был уважаемым, работящим хозяином. Очевидно, тот, кто окрестил его, слышал что-то о его подвигах в молодые годы, но так как Жендо в нашем селе был человек пришлый и ни разу не проявил свой «разбойничий» нрав, все считали, что своим прозвищем он обязан какому-то недоразумению. Всего за несколько дней до облавы на волков я узнал, почему его прозвали Разбойником. Я ненадолго забежал к нему, мы выпили, и разговор у нас получился долгий и душевный. В стене напротив были встроенные полки, на которых хранилась кухонная утварь, и среди них – ржавый наган. Я стал рассматривать эту древность, и тогда Жендо рассказал мне свою историю, которую читатель уже знает. Был ли его рассказ верен во всех подробностях, не приписал ли он себе чужих подвигов, чтобы выглядеть поинтересней, особого значения не имеет. Важнее то, что если б он даже выдумал всю историю с начала до конца, он излагал ее как свою и настаивал на том, что каждое его слово правдиво. Судя по всему, «тайну» своей жизни, которую он хранил много лет, он решил мне раскрыть внезапно и неожиданно для самого себя. Именно это произвело на меня сильнейшее впечатление. Гораздо позже я сообразил, что о своем житии он рассказал мне почти перед самой облавой на волков, и увидел в его исповеди трагическое предзнаменование.
Николин Миялков и еще четверо моих «подопечных» подписали декларации о членстве в ТКЗХ без особых терзаний, только Никола Денев при каждом разговоре повторял одно и то же: «Значит, так, перепашем межи, и все наши полосы станут общей нивой, да?» – «Да!» – «И всю скотину в общий хлев сгоним, так, значит?» – «Так». – «И будем работать, как одна семья, так, значит?..» Однажды ночью, не сказав никому ни слова, он смылся из села вместе с женой и двумя детьми. Около тридцати декаров принадлежавшей ему земли он оставил будущему хозяйству и стал «первой ласточкой» миграции из села в город. «Так, значит, а?»
Работать с этими людьми было нелегко, я упорно стремился подорвать основы их патриархального бытия, а они волновались и любопытствовали, спрашивали, спорили, отрицали, гнали меня или, как больные, искали у меня утешения. («Ты наш, ты ученый, я вступлю в кооператив, потому что поверил тебе, и если ты, сынок, ты, внучек, меня обманешь, ты перед нами в ответе!») Одним словом, отношения у нас были простые. А в случае с Киро Джелебовым я не знал, с какой стороны подступиться. Я бы не удивился, если бы он отказался вступить в ТКЗХ, потому что он был бы в селе не единственным. Мучительно было то, что он не подпускал меня к себе. Проще всего было бы спросить его, так и так, мол, дядя Киро, какие у тебя намерения относительно кооперативного хозяйства, но я не смел этого сделать. Я был слишком молод, и мое болезненное молодое самолюбие не давало мне его агитировать – а ну как он посмотрит мне в глаза и скажет: «Так вот зачем ты меня обхаживаешь – хочешь научить меня, как жить». Но не только самолюбие мешало мне его «учить», я испытывал к нему и какое-то не выразимое словами уважение. Испытывал его поначалу даже и Стоян Кралев, и не случайно он не сам занялся им, а послал меня его «прощупывать», притом советовал действовать поосторожней. Однако «прощупывать» его все же не означало, будто я должен доказывать, что с позиций нового времени вся его предыдущая жизнь неправильна и порочна, а все, им созданное и выпестованное, все, во что он вложил сердце и душу, – землю, скотину, инвентарь, – он должен сдать в общее хозяйство сегодня же или, самое позднее, завтра, просто так, чохом, будто это ему никогда и не принадлежало.
Я обещал прийти к нему в гости и действительно зашел, но снова на ходу, на несколько минут, объяснив, что «занят предстоящим учредительным собранием ТКЗХ». И еще несколько раз, уже при случайных встречах, я говорил ему, что не могу зайти, потому что мы, мол, с утра до вечера готовим учредительное собрание, при этом я надеялся, что он проявит интерес к этому важнейшему событию, но он отвечал: «Ну что ж, когда освободишься, заходи, Марчо тебе привет посылает!» Я спрашивал себя, сознает ли он, что как частный хозяин он обречен, и, если сознает, что помогает ему сохранять самообладание, когда жизнь вокруг него бушует, словно море. Да, в то время он казался мне каким-то Гулливером, который с высоты своего великанского роста смотрит на то, как сотни лилипутов копошатся у него в ногах, чем-то растревоженные, и только старается па них не наступить. Еще я спрашивал себя, надеется ли он, что общая участь его минует, и на чем основана его надежда. Со своей стороны, Стоян Кралев все чаще спрашивал меня, что там с моим подопечным, и я отвечал, что мой подопечный колеблется и все еще не может прийти ни к какому решению. «Все они такие, – объяснял мне Стоян Кралев, исходя из канонов классовой теории, – так он и будет стонать да охать, пока не вылезет из своей мелкобуржуазной скорлупы. А ты не позволяй ему слишком-то рассусоливать, пошевели его, чтоб он не думал, будто партия всю жизнь с ним цацкаться будет…»