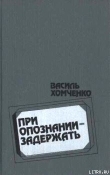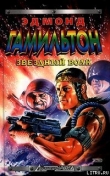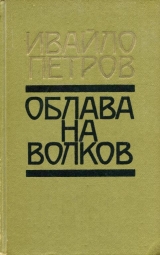
Текст книги "Облава на волков"
Автор книги: Ивайло Петров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
В это страдное время меня часто терзали сомнения, я приходил в отчаяние, мне казалось, что наши идеалы на практике извращаются, и тогда именно я начинал искать ответ на проклятый деветаковский вопрос. Я вспоминал, как приезжал в поместье Деветакова сперва с Лекси Пашовым, а потом один, и воспоминания об этом благородном человеке заставляли меня мысленно соглашаться с ним, что гуманная цель не может быть достигнута негуманными средствами. И еще с тем, что человек если и не постоянная величина, то меняется страшно медленно и очень уж понемногу – на миллиметр в столетие, а то и меньше. Деветаков говорил об этих вещах крайне редко, может быть, не хотел утомлять меня своим философствованием или, что более вероятно, старался убрать возрастной барьер, нас разделявший. И в самом деле, чем большее благоговение испытывал я перед его личностью, тем свободнее себя с ним чувствовал. Он высказывал свои мысли мягким, необыкновенно приятным голосом, не пытаясь их навязать, и в такой манере, словно они только что самому ему пришли в голову и он не видит в них ничего ценного. Когда я его слушал, мне всегда казалось, что за его словами скрывается мысль: «Можете не обращать внимания на то, что я сейчас сказал». Каждый раз я уходил из поместья, исполненный духовного блаженства и легкого, ласкающего сердце томления по какому-то другому, непостижимому миру.
Но как ни поддавался я обаянию Деветакова, в глубине души я сопротивлялся некоторым его философским суждениям. Источником этого сопротивления, несмелого и неуверенного, был мой возраст и среда, в которой я родился и жил. Мне было двадцать с чем-то лет, и жизнелюбие мое было так неукротимо, что я не поддавался отчаянию, даже когда болел и знал, что обречен на смерть. Только раз я поверил тому, что смерть лишает жизнь смысла, да и то ненадолго, – это было, когда умерла Нуша и я почувствовал себя бесконечно одиноким. Энергия молодости, пронизывавшая все мое существо, восставала против отчаяния Деветакова, изнуренного познанием и убедившегося в бессмысленности бытия. Теперь, когда я уже близок к пятидесяти, я понимаю безутешные стенания этого отчаявшегося мудреца, а тогда мне казалось, что афоризмы его – от избытка разума, а его самоубийство я счел результатом неизлечимой меланхолии.
Я догадывался, что Деветаков пал жертвой трагического безверия, и это укрепляло мой дух, давало мне силы для того, чтобы беспристрастно анализировать деятельность брата. Несмотря на резкие споры, из-за которых наше отчуждение все нарастало, в глубине души я всегда готов был его простить, потому что добродетелей у него было больше, чем пороков. Если в молодости мы бывали счастливы, то именно этой нашей готовностью пожертвовать собой ради всех страдальцев в этом мире, то есть ради бедных и угнетенных классов. Тогда мой брат был для меня образцом и примером, и не только для меня, но и для всех молодых людей в нашем крае. Честный, трудолюбивый, исполненный сострадания к людям, он ненавидел власть имущих и жил иллюзией, будто все люди на земле равноправны. Трудностей в его работе было немало, и лишь его неисчерпаемая энергия, преданность и вера в дело социализма могла их преодолеть. Он работал по указаниям «сверху», и ошибки и извращения, которые он допускал, исходили не от него или не только от него – такова была «линия», таковы были методы работы в период коллективизации. Инструкция ОК партии требовала «твердости», и Стоян понимал эту инструкцию, как все партийные работники того времени. Известную роль сыграло и то, что в его руки попала власть. Сложно и трудно проследить и объяснить, какое влияние оказывает на людей власть, но бесспорно, что противиться ее соблазнам не удается никому, особенно если это власть единоличная. Тот, кому она принадлежит, принимает на себя обязательство работать для общества, а общество, со своей стороны, обязано ему подчиняться. И может быть, при этом подчинении большинства одной личности власть как раз и проявляет свою женскую обольстительность, становится суетной и самодовлеющей.
По этому неотвратимому пути шел и мой брат. Как я узнал позже от самого Ивана Шибилева, он в свое время указал брату на его упоение властью и с обычной своей искренностью выложил ему все, что о нем думал, при этом он не имел ни малейшего намерения как-то его принизить, а просто говорил с ним «как со своим». Однако Иван Шибилев неудачно выбрал момент, Стоян к этому времени уже стал сильной личностью. Кооперативное хозяйство окрепло, на трудодень приходились уже не стотинки, а полтора-два лева. Время бессонных ночей, сомнений и стычек с врагами осталось в прошлом, и Стоян чувствовал себя спокойно и уверенно. Мало-помалу он сосредоточил в своих руках все сельские дела, и без него невозможно было ни решить, ни предпринять что бы то ни было как в общественной, так и в личной жизни сельчан. Партийная пропаганда в ту пору возводила личность Сталина в ранг божества, ставила его надо всем и всеми, провозглашала вездесущим и всемогущим, а деятели искусства спешили его воспеть и увековечить. Подражать ему в работе, закаливать, как он, свою волю в борьбе с идейными врагами было для нас святым партийным долгом и счастьем. А мой брат подражал и внешности Сталина. В клубе партии висел портрет Сталина в фуражке, в застегнутом доверху кителе, с заложенной за борт кителя рукой. Стоян, видно, обнаружил в своем лице сходство со Сталиным и, когда отпустил такие же усы, вправду стал поразительно на него похож. Мы часто ездили в город в кино, и в хроникальных, а также художественных фильмах видели и слышали, с какой царственной важностью расхаживает по своему кабинету эта сильная личность, как медленно и размеренно говорит, без жестов и эмоций, присущих простым смертным, как изрекает свои великие мысли, употребляя минимум слов, а иногда ограничиваясь одним «да» или «нет».
То, как мой брат подражал Сталину, было, разумеется, глупо и смешно, но руководители ОК партии рассматривали его сходство со Сталиным как его личную заслугу, идущую на пользу социализму, и даже как выполнение некоего предназначения, так что постепенно и его личность стала внушать им особое уважение. Его хвалили за организаторские способности, прощали ему то, чего не прощали секретарям других сельских партячеек, и обещали со временем перевести на более ответственную работу в город. Это не могло не внушать ему ощущения, что и он – сильная личность, и это, в сущности, стало причиной его конфликта с Иваном Шибилевым. Впрочем, этот конфликт показал, что истинно сильная личность великодушна, не злоупотребляет властью, терпимо относится к мнению, вкусам и мыслям других, а слабая личность не уверена в собственной правоте и потому защищает и утверждает ее, проявляя подозрительность, мелочность и жестокость.
Стоян без колебаний оклеветал перед ОК партии своего товарища только потому, что тот его «обидел», и таким образом упек невинного человека в трудовой лагерь. Задолго до этого он вмешался в мои отношения с Нушей, попытался в зародыше убить мои чувства к ней, в результате же этого вмешательства была отнята жизнь у ее отца, у бывшего старшего охранника, у следователя Марчинкова и кто знает у скольких еще людей. Мой случай был и в самом деле очень сложен из-за неясного политического положения Александра Пашова и интриг Бараковых, так что колебания Стояна, помешавшие ему действовать быстро и решительно, в какой-то степени можно оправдать. Но случай с Иваном Шибилевым, как и многие другие до него, показывал, что Стоян начал распоряжаться судьбами людей, исходя не из интересов общества, а по личным соображениям, и это было уже не просто превышение власти, а самовластие. Я знал, что и многие другие партийные работники вроде него пытаются вмешиваться в самые сокровенные чувства людей, грязными руками шарить в их сердцах и по своему вкусу и разумению определять их поступки, и я спрашивал себя, как же мы с такими обезличенными, лишенными достоинства людьми будем создавать самое демократическое общество, в котором человеку предстоит быть подлинным хозяином своего труда, своего государства и собственной свободы. Стоян был косвенно виноват и в смерти Моны, и я сказал ему об этом. Я сказал ему еще, что он ослеплен плебейской жаждой власти и что власть для него главное, а что народ, от имени которого он всегда говорит и действует, для него давно уже пустой звук. Он пришел в ярость и приказал мне немедленно покинуть село, чтобы не мешать ему своим гнилым интеллигентским либерализмом. Если я этого не сделаю, и меня ждут неприятности…
Через несколько дней я поехал попрощаться с Нушиной матерью. Я каждую неделю навещал ее и спрашивал, не получила ли она вестей от Лекси. Она удочерила одну из своих племянниц и жила теперь с ее семьей. Под грузом лет она словно бы стала меньше ростом, но держалась бодро, ум ее был ясен, а темные влажные глаза блестели молодым блеском. Эти глаза, глаза Лекси, обычно издали спрашивали меня, нет ли от него вестей, и по выражению моего лица она понимала, что нету. В хорошую погоду я заставал ее во дворе или в саду, но сейчас ее не было видно. Прежде чем я успел постучать в дверь кухни, она открылась и на пороге встал Лекси. Как бывает в таких случаях, секунду или две мы, остолбенев, смотрели друг на друга, потом обнялись. Позже, когда мы уселись наверху, в его комнате, где я провел столько ночей и пережил столько счастливых и горестных часов, он рассказал мне о строго секретной работе, которой он занимался за границей последние восемь лет…
КИРО ДЖЕЛЕБОВ МАТЬТВОЮЗАНОГУ
Киро Джелебов получил это непристойное прозвище, когда был еще молод и только что отделился от братьев. Дом его был сложен из тесаного камня, в два этажа, и, как у всех новых домов в то время, лицевой фасад его был выкрашен в апельсиновый цвет с белыми ободками вокруг окон; на деревянную террасу на уровне второго этажа вела каменная лестница. От других домов дом Джелебова отличался тем, что первый этаж использовался для жилья, а не как хлев. В свое время эту реформу в области быта старые хозяева встретили насмешками и даже упреками, но впоследствии она была признана разумной и полезной. Хлев в нижнем этаже имел известное преимущество зимой, когда хозяин мог в одних подштанниках кормить и обихаживать скотину, но зловоние от навоза и мочи, а также всякие насекомые превращали в хлев весь дом. Киро Джелебов все хозяйственные постройки поставил в дальнем конце сада, огородил их высоким саманным забором, и в то время как в соседних дворах высились навозные кучи, в которых валялись поросята и рылись куры, его двор зеленел чистой травкой, словно лесная поляна.
Скоро село признало его дом образцовым, хотя на воротах и не появилось таблички «Дом образцового содержания», какие можно увидеть теперь в наших городах, дабы все знали, что наш человек готов поддерживать в доме чистоту и порядок, только если его удостоят каким-то отличием, и что в домах, на которых такой таблички нет, живут пещерные люди, погрязшие в нечистотах и смраде. В то время я впервые посетил дом Киро Джелебова. Я учился во втором классе и сидел на одной парте с его сыном Марчо. Наша учительница у них квартировала и однажды повела нас всех осматривать их дом, двор и сад, а потом задала нам сочинение на тему «Что мы видели во дворе Киро Джелебова?». Видимо, эстетическое чутье у меня было не развито, ничего достойного восхищения в этом образцовом доме я не увидел и получил за сочинение двойку, так что первый мой визит к Джелебовым оказался связан с моей первой литературной неудачей. Случилось так, что и в гимназии, в городе, мы учились с Марчо в одном классе, вместе жили, на каникулах я часто бывал у него в доме и только тогда разглядел и оценил хозяйственные добродетели его отца и всей семьи. Плодовый сад с выбеленными стволами деревьев (единственный в селе), ровные, словно по линейке отмеренные грядки с овощами, ограда из деревянных планок, свежая и чистая трава во дворе, цветник перед домом, колодец из тесаного камня рядом с хозяйственными постройками, ворота, крытые ярко-красной черепицей, и все остальное показывало, что хозяин подворья не только трудолюбив, но и требователен к себе и другим. И еще одну новацию он ввел, которой нельзя было увидеть не только в нашем селе, но и во всем крае, а может быть, и во всей стране. В то время чуть ли не на каждой полосе в поле росло по груше-дичку. В тени этих груш крестьяне обедали и отдыхали в летнюю жару, к ним подвешивали люльки с младенцами, под ними держали воду и привязывали в холодке скотину, одним словом, груша была неоценимым помощником хлебороба, а в нашем безлесном крае ее чтили как священное дерево. Вырастает она самосевом, и никто не считал нужным о ней заботиться. В хорошую пору она плодоносила, ее обирали и варили на зиму грушевый компот, в плохую – на нее нападали гусеницы, и на ветках не оставалось ни листочка. Один только Киро Джелебов ухаживал за дикими грушами на своих полосах так же, как он ухаживал за деревьями в саду, – весной обрезал, обмазывал известью стволы, окапывал, чтоб они получали больше влаги, опрыскивал купоросом и каждый год снимал урожай. По этим грушевым деревьям любой человек из нашего, да и из окрестных сел сразу узнавал, какая полоса – его.
У Джелебовых постоянно квартировали учительницы. Они приезжали на несколько лет из разных концов страны в наше забытое богом село, вступая здесь на учительское поприще. Ту, которая осенью приезжала первой, кмет посылал к Джелебовым, так же как он посылал к ним на ночевку всех, кто приезжал по службе из города. Из-за одной такой учительницы Киро Джелебов и получил новое прозвище. Как и все наши мужики, он материл, можно сказать, на каждом слове, с поводом и без повода, все, что попадалось ему на глаза или под руку. А наша брань составляет, скромно говоря, целую изящную словесность, обладающую при этом такой силой реалистического воздействия, что, как говорил один пришлый шутник, когда слышишь ее в первый раз, начинаешь невольно почесывать некоторые части тела.
Первую учительницу, жившую на квартире у Джелебовых, звали Гортензия. Мы долго не могли запомнить это странное имя, внушавшее нам такую робость, что когда мы его наконец усвоили, то долго еще не решались произносить, опасаясь, как бы в наших устах оно не прозвучало неловко и грубо. Среди нас, в нашем селе, летом утопавшем в пыли, а зимой – в грязи и снегу по колено, учительницы смотрелись как экзотические цветы. Почти все они были горожанки и в первое время с таким трудом приспосабливались к нашему быту, что сами крестьяне, с врожденным превосходством и неприязнью относившиеся к «городским белоручкам», одновременно и упрекали их и жалели: «И чего их, горемычных, сюда принесло! Только и радости в селе, что собаки облают да блохи искусают!» Они не знали, что все эти девушки были из бедных семей и приезжали к нам, чтобы заработать, обзавестись семьей и домом или же продолжить затем свое образование. Гортензия, к примеру, провела у нас три года, не уезжая – в целях экономии – на каникулы, а на четвертый год прислала открытку из Швейцарии, куда уехала изучать медицину. Она была родом из Кюстендила и часто рассказывала нам об этом большом и сказочном по нашим представлениям городе, потому что мы-то никогда не видели ни гор, ни прозрачных рек, ни минеральных источников. И теперь, когда мне случается увидеть на географической карте точку, обозначающую Кюстендил, я всегда вспоминаю «барышню Гортензию», мою первую учительницу, вижу, как она осторожно шагает по глубокой вязкой грязи, в которой тонут ее ботики, как легко и грациозно бегает с нами по полю, в белой блузке и черной юбке, маленькая и стройная, с мальчишеской прической «а-ля гарсон», слышу, как нежным, точно флейта, голоском окликает нас по именам, чувствую благоухание ее одежды и рук, благоухание цветка среди наших постолов и шапчонок, пропахших навозом и пылью.
В первое же утро, рассказывала потом тетушка Танка, учительница прибежала к ней в слезах и сказала:
– Хозяйка, я от вас ухожу! Уж извини меня, но больше я не могу у вас оставаться.
– Чего так, учителька? Вчера только пришла, а нынче съезжаешь. Или змею в нашем доме увидела?
Учительница рассказала ей, что заснула только на рассвете, а вскоре ее разбудил голос хозяина. Она приподнялась в постели, увидела, что он стоит под ее окном, и тут он наговорил ей таких слов, что она не может их повторить. Тетушке Танке и в голову не пришло, в чем тут дело, и она чуть не сгорела со стыда перед девушкой. Трое детей у мужика, и чтоб нес перед городской девушкой похабщину – нет, это было выше ее понимания. Она отыскала мужа в хлеву и отругала его на чем свет стоит. Поняв, в чем обвиняет его жена, Киро в свою очередь покраснел от стыда как рак и поклялся, что не только что ничего не говорил учительнице, но и вообще ее не видел. И в окно ее не смотрел, а углядел на подоконнике мышь, из тех, что водятся все лето в подвале, и ни водой их не выведешь, ни отравой. Сидит себе на подоконнике и нахально смотрит тебе прямо в глаза.
Тетушка Танка тут же сообразила, что и как он сказал мышке, велела ему строго-настрого в другой раз «затыкать хайло» и поспешила успокоить девушку.
– Так ты этого испугалась? Да наши мужики заместо того, чтоб «добрый день» сказать, так-то выражаются. Киро наш мыша увидел, ему пригрозил, а ты сразу реветь…
Хорошо зная неотразимое художественное воздействие наших ругательств, которым дедушка обучал меня, еще когда я был дошколенком, я представляю себе, как прозвучала его угроза, раздавшаяся ранним утром под окном учительницы:
– Ах, мать твою, попадись мне только в руки, я тебя живую располовиню!
С этого дня Киро Джелебов разболелся, как разболевается страстный курильщик или наркоман, когда его лишают табака или наркотика. Приезжая девушка, хорошенькая «что цветик полевой», внушила ему такое почтение, что он вдруг осознал, сколь циничен дурной его навык, застыдился и решил от этого навыка навсегда избавиться. Но привычка, как мы знаем, – вторая натура, она сильнее и активнее первой. Эта вторая натура дала в его душе ростки еще в колыбели и пустила такие крепкие корни, что только какой-нибудь завзятый святой мог бы вылечиться от подобной хвори ценой пожизненного молчания. Для Киро Джелебова это было равнозначно тому, чтобы родиться заново, притом при условии, что учительница будет у них жить и воспитывать его с грудного возраста. Свое воздержание он переживал как болезнь, которая сделала его нервным, мелочным и сварливым. Он старался подлаживаться под учительницу, даже когда она бывала в школе, потому что ему казалось, будто она и оттуда может его услышать и расплакаться от стыда и обиды. Только во сне он мог в полной мере насладиться свободой слова и целыми ночами выдавал шедевры мата, которые тетушка Танка слушала с восхищением. Но вот он понял, что держать себя в узде больше не в силах, и стал пытаться обманывать свою вторую натуру, как обманывает свою страсть курильщик, прибегая к незажженной сигарете, леденцам или семечкам. Он стал заменять настоящий мат более невинными ругательствами, вроде: «язви тебя в душу», «ядрена вошь» или «туды его растуды», но это абстрактное «растуды» никак не могло удовлетворить его насущные потребности. Наконец, после целого ряда творческих неудач, он нашел выражение, показавшееся ему полным эквивалентом нашего классического ругательства. Выражение это, подобно произведениям современного искусства, было насыщено подтекстом, то есть с его помощью он мог по-эзоповски высказать то, что хочет, и вместе с тем никто не посмел бы упрекнуть его в цинизме или старомодном реализме: «Мать твою за ногу!»
Наши острословы с большим интересом следили за его словотворческими усилиями и, два раза услышав от него это выражение, тут же присобачили его к его честному имени.
Николин Миялков и Калчо Соленый мелькнули, как призраки, и исчезли в чаще, а он подошел к высохшему обрубленному стволу и утоптал возле него снег. Он уже не первый год становился в засаду в этом месте и всегда уходил с добычей. Сверху здесь спускалась узкая просека, и вспугнутые животные бежали по ней вниз. Он так хорошо маскировался за сухим стволом, что даже кабаны его не замечали и подходили на десять шагов. Два года назад он убил в этом месте самца с огромными клыками (золотыми, как выяснилось впоследствии) и подарил их Стояну Кралеву. Роща была небольшая, но дичи в ней водилось много. Кроме зайцев, в последние годы развелись косули, появились фазаны, а за ними и лисы. Перебралось откуда-то и два стада кабанов, которые после уборки кукурузы оставались зимовать в Преисподней возле луж, питаемых родником. Поздней осенью попадались вальдшнепы, привлеченные влагой, пролетали большие стаи диких голубей, и тогда лес превращался в небольшой, но богатый охотничий заповедник. Птицу били и влет, а при охоте на крупного зверя делились на загонщиков и стрелков. Охотников в селе было восемь человек, четверо шли по лесу, подымали шум, кричали и стреляли, а четверо других стояли в засаде. Делали всего по два захода и никогда не возвращались с пустыми руками. Добычу потрошили под старым дубом, делили мясо на равные части, потом один из охотников собирал в шапку мелкие предметы, взятые у каждого из товарищей, – перочинный ножик, спички, пуговицу или что-нибудь еще, передавал шапку другому, и тот клал предметы на куски мяса. Во время этой церемонии все остальные поворачивались спиной, а потом каждый брал кусок мяса, на который был положен его предмет. Так же честно распределяли и мелкую дичь. Если какой-нибудь фазан, куропатка или вяхирь оказывались лишними, бросали жребий и лишь после этого усаживались под старым дубом отдохнуть. Вынимали из заплечных мешков что у кого было, ракию или винишко, выпивали, и тут начинались нескончаемые охотничьи рассказы.
Иногда, возбужденные выпивкой, охотники устраивали стрельбу по мишеням. Подбрасывали пустые бутылки, стараясь в них попасть, стреляли по газетам и шапкам, а чаще всего избирали мишенью вороново гнездо. Вороны, как известно, живут по сто лет и дома свои, похоже, строят с расчетом на столетие. Гнездо прочно сидело меж нескольких веток на самой верхушке дуба уже много лет. Охотники стреляли в него только осенью, когда оно бывало пустым, и не сумели разрушить его ни крупной дробью, ни жеребьем, словно оно было сплетено из арматурного железа. У каждого из охотников были свои приятные или неприятные воспоминания, связанные со старым дубом. К примеру, в тот самый раз, когда Киро Джелебов убил здоровенного кабана, он допустил промашку, которая могла стоить жизни Стояну Кралеву. Они только было уселись, чтобы выпить и закусить, когда Киро Джелебов нечаянно толкнул ногой свое ружье, прислоненное к дубу. Ружье упало, выстрелив при этом прямо в Стояна Кралева. Заряд крупной дроби прошел на волос от Стояна, вырвав клок из рукава его ватника. Он пощупал свою левую руку, а Киро Джелебов пожелтел, как мертвец. Все вскочили, только Стоян Кралев остался сидеть и попытался спрятать свой испуг за шуткой:
– Смертушка дернула меня за рукав и убралась восвояси. Поживи, говорит, еще.
Киро Джелебов пришел в себя, схватил ружье и так саданул им о дуб, что приклад остался у него в руках.
– Ну и ну, за здорово живешь чуть человека не убил! – воскликнул он и стукнул себя кулаком по голове.
Пока ему в городе приделывали к ружью новый приклад, он продолжал ходить на охоту. Говорил, что в охотничий сезон ему не сидится дома, и стал постоянным загонщиком для всей компании, но в сущности работал на одного Стояна Кралева. Шел прямо на его засаду, кричал, лаял, как гончая, и гнал дичь под его выстрел. После охоты чистил и потрошил долю Стояна Кралева и только после этого садился отдохнуть. Так продолжалось целых два охотничьих сезона. Он помогал Стояну и на винограднике, мастерил ему всякие курятники и клетки для птиц и наконец стал приглашать в гости, все под предлогом, что хочет замолить грех, чуть не случившийся под старым дубом. Он не чувствовал за собой никакой вины, хотя тот неприятный случай действительно мог стоить Стояну Кралеву жизни, и все же непрерывно старался убедить его в том, что отрабатывает долг и что в небрежности, которую он допустил, не было умысла. Чем более чуждо было притворство натуре Киро Джелебова, чем больших усилий стоило ему играть роль Стоянова друга, тем старательнее он это ему доказывал. Стоян Кралев за все его щедрые услуги расплачивался коротким «спасибо». Ухаживания Киро были ему не слишком приятны, но он их допускал, потому что тем самым Киро Джелебов, хоть и с опозданием, демонстрировал перед всем селом, кто был повинен в драматическом конфликте, когда-то разыгравшемся между ними. Больше пятнадцати лет ждал Стоян Кралев, когда этот гордый человек склонит голову и снимет с его души немалую вину, о которой пожилые люди все еще помнили и которую не могли ему простить. О тяжких и непреодолимых последствиях этой вины думал сейчас и Киро Джелебов. Внизу, в Преисподней, оседала густая белая мгла, а наверху, вокруг засады, метель бушевала с бешеной силой. Ему казалось, что эта холодная и непроглядная белота кружит ему голову. Если б я не знал его душевного состояния, я не мог бы понять, как это он согласился в такую пору отправиться в лес, тем более что он единственный из группы не понял смысла эпизода с бутылочкой, из которой Калчо Соленый не пожелал пить, а потом расплакался. Для остальных это не было загадкой, так как все сидели за свадебным столом тогда, давно, когда Калчо Соленый выдавал свою дочь. И все, как мы уже видели, так или иначе были связаны с этим событием. Но и присутствуй Киро Джелебов на той страшной свадьбе, вряд ли случай в корчме о чем-либо ему бы напомнил. Он пошел в лес не для того, чтобы избавить село от волков, не из солидарности с другими охотниками, а, как он сам думал, чтобы попробовать избавиться от своей тоски.
Через несколько дней после того, как я приехал в село, мы встретились на улице и Киро очень настойчиво стал приглашать меня домой. Он, видно, искренне обрадовался нашей встрече и сказал, что часто вспоминает меня, просто так, когда думает о прошлом. Повел он меня наверх, в восточную комнату, где когда-то жили приезжие учительницы. Комната была чистая, уютная, обставленная, разумеется, совсем не так, как в былые годы, когда я ходил к ним в дом. На месте прежнего настенного коврика, сшитого из лоскутков шерстяной ткани и вышитого разноцветными нитками, теперь стоял двукрылый гардероб, деревянную кровать заменила железная, на стене в общей рамке было помещено множество фотографий двух его сыновей с женами и детьми, в углу, меж двух окоп, стоял большой радиоприемник, а рядом с кроватью висели на цепочке серебряные часы с арабскими цифрами, которыми мы с Марчо пользовались в гимназические годы. Тогда он рассказывал, что его дед получил в молодости эти часы от своего отца, то есть часы шли безотказно более сотни лет. Сюда была перенесена и икона святой Богородицы, сработанная нашим искусником Иваном Шибилевым. В отличие от всех икон, которые я видел в городских церквах, молодая женщина была нарисована в профиль, с одним большим египетским глазом, в темно-синем одеянии, с зеленым нимбом вокруг головы. Одной рукой она придерживала у себя на коленях Иисуса, а другой подавала ему ярко-красную виноградную кисть. Иисус нетерпеливо, как это делают голодные дети, тянул к винограду ручонки, и видно было, что, съев эту кисть, он попросит еще одну. Единственным признаком его божественного происхождения был такой же, как у матери, зеленый нимб, а так он во всем походил на деревенских двух-трехлетних карапузов с розовыми щечками, в белых рубашонках, потому что мальчикам в этом возрасте у нас еще не надевают штанишек. Иван Шибилев, наверное, рисовал икону летом, под навесом летней кухни, потому что фон был золотисто-желтым, как спелая пшеница, а вокруг двух основных фигур располагались всякие домашние птицы и животные.
– Садись, я сейчас приду, – сказал хозяин и через минуту принес из другой комнаты бутылку с вином, два стакана и тарелку с кровяной колбасой. – Жена в магазин пошла, скоро вернется, а мы пока выпьем. Бери колбасу, свежая, позавчера поросенка резали. Ну, я рад, что свиделись. За твое здоровье!
– Славное у тебя вино, дядя Киро! – сказал я. – Давно такого не пивал.
– Где ж тебе такое пить? Небось не покупная кислятина! Это прошлогоднее, нынешнее я еще не открывал. Вино-то есть, пить некому. Сыновья по городам разбежались, никак времени не найдут, чтоб в село заехать. Остались мы с Танкой одни, вдвоем кое-как хозяйничаем. Вечером выпьем иногда по стаканчику, а больше и ни к чему.
Говоря это, он встал, взглянул в окно на улицу, и глаза его наполнились слезами. Он подлил вина в стаканы и сказал:
– Ну, царствие ему небесное!
– Царствие небесное? Кому?
– Горе горькое залегло у меня на сердце, сынок! Никому я до сих пор не говорил, а тебе скажу, открою душу. Ты мне все равно что сын, вы ведь с Марчо и учились вместе, и дружили. Нет больше Марчо!
Марчо в пятьдесят втором году эмигрировал в Западную Германию. Он был первым из наших мест, кто сбежал за границу, и его бегство в свое время произвело сильнейшее впечатление, а для его семьи обернулось тяжкими испытаниями. Мы с Киро Джелебовым никогда об этом не говорили. Я видел, что при каждой нашей встрече ему хочется что-то рассказать мне о сыне, но он не смеет, а я со своей стороны тоже не решался спрашивать его о Марчо, чтобы не бередить рану. Только теперь он давал мне возможность его утешить, и я сказал, что когда-нибудь Марчо еще вернется. Мол, насколько я знаю, он сохранил болгарское подданство, невозвращенцем себя не объявлял, а значит, если захочет, сможет вернуться. Киро покачал головой.
– Марчо умер!
Он вынул из бумажника помятую бумагу и протянул ее мне. Это была телеграмма, написанная по-болгарски латинскими буквами, а для удобства получателя поверх латинских были вписаны болгарские буквы: «Марчо скончался ждем два дня похороны Юта Ани Кирил». Я долго читал телеграмму, делая вид, что плохо понимаю латиницу и хочу перевести букву за буквой, чтобы не допустить ошибки. Но Киро Джелебов понял, почему я застрял над текстом, и избавил меня от банальных соболезнований, которые полагается произносить в таких случаях.
– Два дня назад получил. Поехал в город письмо ему отправить, поздравить с Новым годом. Там на городской почте одна Танкина родственница работает, так она, как придет от него письмо, откладывает и потом прямо мне в руки отдает. Не то здешние его распечатают и будут плясать на моих костях. Вот эта женщина и говорит, тебе, мол, письмо, прочти его, а потом уж пошлешь что принес. Я сел, прочел письмо. Марчо пишет, что болен. Больше двух лет уже у него грудь болит, лежит в больнице и не знает, когда выпишется. Прочитал я письмо, тут почтарка меня подзывает к окошечку. Только что, говорит, телеграмма пришла. Хотела, видно, меня подготовить к самому плохому, и так оно и получилось. Я телеграмму спрятал, и до сих пор никто ничего не знает. Ни чтоб меня жалели, не хочу, ни чтоб руки потирали, злорадствовали. И Танке, и сыновьям ничего не сказал. Пусть думают, что он жив и здоров. Я сам похороню его в своем сердце, я ему и попом буду, и могилой. Вот какая черная доля ему выпала. И детей его мне не увидеть. Пока они вырастут, мать из них настоящих немцев сделает. Сейчас-то они калякают по-болгарски. Старшенького в мою честь окрестили – Кирилом. И писать умеет по-болгарски, да так хорошо, словно бы здесь учился. Дедушка и бабушка, пишет, отчего вы не приезжаете к нам в гости, у нас есть машина, мы вас всюду будем возить. У Марчо всегда к земле душа лежала, он и там на земле работал. Сам ли он на участок денег накопил, или у жены что было, не знаю. Только писал он, что у него маленькое имение, декаров сто. Вот фотография, два года назад прислал.