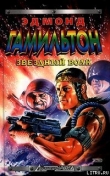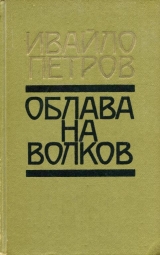
Текст книги "Облава на волков"
Автор книги: Ивайло Петров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Осенью следующего года кооперативное хозяйство распалось. Сомнениями, которые вызывал у меня этот коллектив бедняков, я делился с братом, и отношения у нас снова стали натянутыми. Я настаивал на том, что с организацией кооператива не следует спешить, потому что у бедняков не было в достатке ни земли, ни скота, ни земледельческих орудий. Сто человек бедняков, собравшись вместе, не могут стать богатыми, если не превосходят чем-то частных хозяев, ну хотя бы машинами. Но Стою Бараков предусмотрительно продал свою молотилку, сеялку, жнейку и трактор вскоре после Девятого сентября, и теперь кооператоры обрабатывали землю допотопными плугами, сеяли вручную и молотили примитивными кремневыми молотилами. Общих скотных дворов еще не было, и каждый норовил работать, впрягая собственную скотину, и сам ходить за ней у себя на подворье. Я вел бухгалтерию хозяйства и видел, что положение у него отчаянное, – на трудодень пришлось по восемнадцать стотинок в тогдашних деньгах, и кооператоры жили за счет натуральных выплат. В те дни, когда хозяйство распалось, Стоян был в Софии, на каких-то курсах. Когда он вернулся, хозяйства уже не было, кооператоры разобрали скотину и инвентарь по домам. Общее имущество осталось лишь в бумагах, над которыми я целыми ночами ломал голову. Из наступившего разброда мы не могли выбраться еще долгие месяцы.
Стоян вернулся из города автобусом до Житницы, а оттуда шел пешком. Около десяти вечера он появился в клубе партии. Увидел в окнах свет и зашел. Я постоянно держал его в курсе всех дел хозяйства, сообщал обо всех неполадках, накапливавшихся изо дня в день в течение полутора лет, он обо всем знал, но когда я сказал ему, что люди разобрали инвентарь и скотину, с ним случилась истерика. Он закричал: «Как вы могли допустить?», лицо его побелело, он задрожал, ноги у него подкосились, он опустился на пол и стал брыкаться, как рассерженный ребенок, и вопить до хрипоты. Я растерялся, попытался его поднять, но он лег навзничь и стал брыкаться и кричать еще пуще: «Всех обратно верну! Они подписали декларации, они обязаны вернуться!» Так продолжалось несколько минут, потом он умолк и встал с пола. Лицо его было залито слезами, и чтоб я не смотрел на него, он повернулся ко мне спиной и воскликнул: «Столько труда вложили, и все псу под хвост! А почему? Потому что слабаки, не проявили должной твердости. Завтра же начинаем работу по восстановлению хозяйства!..»
И действительно, со следующего же дня все, кто хоть сколько-нибудь был способен агитировать за возвращение в ТКЗХ, были подняты на ноги: пожилые мужчины и женщины, парни и девушки, дети и учителя. Я, Иван Шибилев (если он оказывался в это время в селе), Кичка, Мона Койнова и учителя по нескольку раз в неделю давали представления, устраивали вечера и посиделки. Агитировал и Стою Бараков. Обстоятельства сложились так, что он вынужден был отдать свою землю с улыбкой на устах. Кто знает, какие кошки скребли у него на душе, но он делал вид, будто счастлив, что идеи его сына наконец осуществляются. Он был записной оратор, на каждом собрании брал слово и уговаривал людей войти в кооперативное хозяйство. «Какая ирония судьбы, – думал я, слушая его длинные и утомительные речи. – Самый отъявленный враг новой власти, мало этого – преступник проповедует социализм». Стою Бараков вел себя как благодетель будущего кооперативного хозяйства еще и потому, что вносил в него больше всех земли. Бывшие кооператоры, по домам которых мы ходили, держались скованно и виновато, мялись, жаловались на бедность, но давали понять, что о возвращении в хозяйство не может быть и речи. «Мы уже на этом кооперативе обожглись, пусть теперь другие вступают, а коли увидим, что там хорошо, и мы войдем», – так отвечали все до одного, словно сговорившись. Они были угнетены сварами, убытками, которые они понесли при роспуске хозяйства, и нам следовало бы на какое-то время оставить их в покое, тем более что дело наше провалилось, а пострадавшими оказались они.
Однако мой брат был неумолим и неутомим. Днем он обходил дома, а по вечерам созывал собрания. Я слушал, как он говорит, и каждый раз поражался его воле, энергии и энтузиазму. Только неисправимый идеалист с чистыми и сильными душевными движениями мог так упорно, не жалея сил, времени и здоровья, отстаивать правоту своего дела. В то же время он начал терять терпение и нервничать. Раз или два в неделю его вызывали в ОК партии на инструктаж, и каждый раз, возвращаясь оттуда, он выказывал все большее нетерпение. В комитете назвали осень как крайний срок повторной организации кооператива и хотели прислать в помощь своего уполномоченного, а это, по мнению Стояна, означало, что наверху сомневаются в его организаторских способностях. В комитете ему непрерывно внушали, что действовать надо твердо, что одними разговорами он никогда не привлечет в кооператив тех, кто колеблется, не говоря уж о прямых противниках. Стоян был вынужден неотступно ходить за односельчанами и их уговаривать, наталкиваясь на их упрямство и невежество, а это вызывало его разочарование и гнев. «Почему эти жалкие людишки кобенятся? – порой спрашивал он себя в отчаянии. – Почему рычат на нас, точно собаки, у которых мы хотим отобрать кость? Почему противятся и не хотят понять, что все делается для их же блага, ради будущего их детей? Нет, я не в силах больше с ними препираться. Я вижу по их глазам, как они меня боятся и ненавидят. Лучше мне пойти в комитет и сказать, что я не могу справиться с порученным мне делом. Пусть назначают другого секретаря партбюро или присылают уполномоченного. И я имею право хоть одну ночь поспать спокойно…»
Так роптал он иногда в минуты усталости, но вскоре, стыдясь своего малодушия, снова начинал утверждать, что нытье и отступление перед трудностями нам, конечно, не помогут, а вот твердость и постоянство приведут к созданию кооператива. Если ждать, пока несознательные станут сознательными, а оппозиционные элементы сами отдадут землю в общее хозяйство, ждать придется до второго пришествия. Хватит болтовни, надо действовать! На то мы и революционеры, чтобы идти впереди других и указывать им путь на сто лет вперед! Это определяло и его отношение к крестьянам – отношение взрослого к недорослям, которых надо трепать за уши, когда они не слушаются или не видят своего будущего. Правда, иногда он не просто «трепал» непослушных за уши, а чуть не обрывал их вчистую.
В то время почти все семьи посылали детей учиться в город, но для того чтобы поступить в гимназию или университет, надо было представить так называемые ОФ-справки о политической благонадежности. Эти справки выдавал я в качестве председателя первичной организации Отечественного фронта, но Стоян начал использовать их как средство давления на тех родителей, которые отказывались вступить в ТКЗХ. Многие молодые люди лишились из-за этого возможности получить образование или получили его с опозданием в несколько лет. Первым пострадал парень по имени Кунчо, ставший впоследствии доцентом физико-математического факультета. Оказалось, что в первом классе гимназии он в течение полугода был бранником. Бранники ратовали за великую Болгарию «от Дуная до Эгея», но деревенские ребята попадали в их организацию не из-за их шовинистических идеалов. В годы, предшествовавшие Девятому сентября, ремсисты, легионеры и бранники наперебой вербовали «кадры» среди новичков, поступавших в гимназии. Сельские ребята, попадавшие в город без всякой политической подготовки, часто вступали в совершенно неподходящие для них организации. Так было и с Кунчо. И мы б никогда не узнали, что он был бранником, не расскажи он сам о былом своем политическом невежестве. Мой брат, однако, воспользовался его откровенностью и завязал узелок на память. Отец Кунчо уперся, три года не шел в кооператив, и Кунчо поступил в университет тремя годами позднее.
Стоян находил и много других способов прижать к стене тех, кто не хотел вступать в ТКЗХ. Одним из верных средств давления на зажиточных крестьян было и такое – их объявляли кулаками. У них было по сотне декаров земли, но они никогда не прибегали к наемной рабочей силе, а в случае нужды две или три семьи объединялись, чтобы побыстрее справиться с какой-либо из полевых работ. Кулак же в свою очередь был объявлен самым лютым врагом народа и социализма, и мы не упускали случая осмеять и заклеймить его в наших речах, агитпрограммах и театральных представлениях. Мы изображали его агентом империализма, фашистом и поджигателем новой войны, отъявленным оппозиционером и подстрекателем; в глухую ночную пору он убивал коммунистов, поджигал имущество и травил скот кооперативов, всячески мешал строительству новой жизни. О кулаке непрерывно писали газеты и говорило радио, на карикатурах и плакатах его рисовали жестоким кровопийцей. Одним словом, кулак превратился в синоним злого духа из детских сказок, которым, однако же, пугали взрослых. Ему не было места в селе – чтобы его обезвредить, необходимо было сослать его с семьей в какой-нибудь далекий край или отправить в трудовой лагерь. Мой брат держал в страхе нескольких человек, в том числе Илию Драгиева.
У Илии Драгиева было восемьдесят декаров земли и шестеро детей, мал мала меньше. Он обещал Стояну подписать декларацию о членстве в ТКЗХ, но когда пришел в партийный клуб, дрогнул и не стал подписывать. Стоян отругал его за то, что он не держит слова, а Илия сказал, что уже раз обжегся на кооперативе и, если вступит снова, дети его перемрут с голоду. Лучше он будет кормить их, как кормил до сих пор, – как-никак он держит двух волов, две коровы, три десятка овец, да и колодец у него во дворе.
Илия ушел, а Стоян велел двоим парням проследить, когда Илии не будет дома, забить колодец досками и повесить на него большой замок. Край у нас безводный, и этот колодец был летом настоящим спасением для всего верхнего конца села. Три других колодца, на площади, в эту пору почти пересыхали. Парни улучили время, когда Илия был в поле, заколотили колодец досками и заперли его. Вечером Илия разбил замок и отодрал доски, чтобы напоить скотину, но ночью кто-то бросил в колодец собаку и оставил записку. Село всколыхнулось. Осень была засушливая, и люди уже зачерпывали песок со дна колодцев. Многие настаивали, чтоб тех двух парней наказали, но парни отрицали, что это они бросили в колодец собаку. Они, мол, по приказу партийного секретаря только забили колодец, а собаку не бросали. Парни не врали. Дело было в том, что некоторые противники ТКЗХ и личные враги моего брата воспользовались этим случаем, чтобы настроить против него все село. Через несколько дней после этого в него стреляли. Около полуночи, когда он возвращался домой, над его головой просвистело три выстрела. Убийца притаился за оградой в таком месте, где через нее нельзя было бы быстро перелезть, если бы пули не попали в брата и он решил бы преследовать стрелявшего. Так и получилось. Одна пуля лишь задела пиджак на его левом плече, Стоян тут же пришел в себя, тоже выстрелил и хотел кинуться за злоумышленником, но, пока нашел место, где можно было перелезть через ограду, тот исчез в темноте.
Утром мы осмотрели место происшествия, но не нашли никаких следов. Стоян сообщил в милицию, и Михо Бараков, словно только того и ждал, тут же примчался со следователем и еще двумя молодыми людьми из следственных органов. Михо Бараков распорядился произвести обыск в нескольких домах. Я отказался присутствовать при обысках и посоветовал брату сделать то же самое, заявив, что сеять смятение среди людей, и без того растревоженных, – затея ненужная и недостойная. Но Михо Бараков сказал, что, поскольку мы вызвали его как потерпевшие, мы непременно должны присутствовать при обысках. Люди приходили в ужас, когда следователь и его помощники принимались совершенно бесцеремонно обшаривать их дома, переворачивать все вверх дном и залезать в лари, сундуки и другие места, никак не предназначенные для чужих рук и глаз. Женщины причитали как над покойником, дети плакали, по всему селу пошел стон. Оружия нигде не нашли, у всех заподозренных было безупречное алиби. Это был новый удар Михо Баракова нам в спину. Быстрый и хорошо рассчитанный удар.
Но дело этим не кончилось. Среди тех, на кого пало подозрение, притом в первую очередь, оказался, разумеется, Илия Драгиев. Когда мы пришли к нему с обыском, бедняга встретил нас, смущенный появлением «высоких гостей», и тут же, с утра пораньше, стал угощать нас ракией. Его дети (старший – шестнадцати лет, а младший – грудничок), полуголые, еще не умытые, сопливые, только что вылезшие из-под одеял, возились в комнате. Когда мы вошли, они забились в угол, точно напуганная скотинка, и смотрели на нас с застенчивым любопытством. Воздух был спертый, пахло мочой, хозяйка, костлявая и желтая, еще не прибранная, прикрыла грудь пеленкой младенца, которого кормила, и тоже уставилась на нас исподлобья любопытствующим и враждебным взглядом. Илию спросили, есть ли у него оружие, и он сказал, что есть. Вышел из комнаты, пошарил рукой под стрехой хлева и вытащил оттуда ржавый наган.
– Отцовский еще, вон как заржавел. Когда я был мальцом, отец давал мне играть, потом я его моим ребятишкам давал.
Следователь взял револьвер, попытался прокрутить барабан и вернул хозяину. Его помощники стали перетряхивать пропахшие мочой домотканые одеяла, перевернули все в соседней комнате, потом перешли в хлев, в кошару, но нигде ничего не нашли. И тогда, словно кто дернул его за язык, Илия, грозя пальцем, обратился к брату:
– Эй, секретарь, думаешь, ты партейный, так тебе сам черт не брат? Хозяйничаешь в селе, как на своем дворе, хочешь, чтоб все под твою дудку плясали. Начальник милиции – свой паренек, я ему все скажу. Ты мой колодец заколотил, на замок запер, а потом собаку туда кинул, потому как я в кооператив по второму разу не захотел идти. Детей моих, скотину и весь конец села без воды оставил. Слыхать, ночью в тебя стрелял кто-то. Да на кой в такого стрелять, потом за него всю жизнь по тюрьмам гнить. Его б судить надо, да таких, как он, и судом не возьмешь, вот они и куражатся. А коли суда и управы на него нет, хоть по роже бы ему съездить. Чтоб открыл глаза поширше да увидел, что в селе этом люди живут.
Все это Илия выпалил одним духом, высоким, прерывистым голосом, весь красный от неловкости и возбуждения, а из его больших и круглых голубых глаз потекли слезы. Он был из тех, что и мухи не обидят, к тому же полноватый, рыхлый, словно без костей, поэтому его воздетые кулаки вызвали лишь снисходительные усмешки. Он, очевидно, набрался храбрости в присутствии начальника милиции – «своего паренька» – и решил впервые в жизни отвести душу. В ту же ночь, будто выполняя угрозу Илии Драгиева, на моего брата напали неизвестные. Когда он, возвращаясь домой, открыл калитку и собирался войти во двор, он обо что-то (это оказалась натянутая веревка) споткнулся и упал ничком. Злоумышленники накинулись на него, связали ему руки, заткнули рот и принялись тузить кулаками. К счастью, его сосед вышел с фонарем на крыльцо, собираясь заглянуть в хлев, услышал в темноте стоны и таким образом спас брата. Враги действовали оперативно и изобретательно, умели учитывать психологический момент и заметать следы. После того как они бросили в колодец собаку, а накануне стреляли в него, брат меньше всего мог ждать нападения в следующую же ночь, да еще сразу после того, как он проводил начальника милиции до дома его отца. В невиновности Илии Драгиева Стоян не сомневался, но чтобы как-то выпутаться из скомпрометировавшей его истории с собакой, начал обвинять Илию, будто тот сам бросил собаку в колодец, чтобы подорвать в глазах сельчан авторитет новой власти. Враги ТКЗХ, которые и бросили в колодец собаку, взяли Илию под свое покровительство, и он невольно попал в их круг. Моему брату не оставалось ничего другого, кроме как вынудить Илию каким-то образом якобы добровольно вступить в кооператив и тем самым положить конец неприятной истории. Позже я узнал, что он угрожал Илии объявить его кулаком, но сначала устроил ему еще одно испытание.
В это время в селе началась кампания по истреблению собак. Основанием для этой смертоносной кампании выставлялись хозяйственные трудности – действовала карточная система, продовольствие надо было экономить. Было известно, у кого сколько собак, и председатель сельсовета Стою Бараков издал приказ – оставить на двор по одной собаке, а остальных уничтожить. Собаки исчислялись сотнями, и поскольку у Совета не было столько патронов, их убивали ножом. Работа эта была поручена цыгану Мато. Его гильотина была устроена очень просто – это был столб, врытый в землю и продырявленный на высоте около метра. Мато продергивал в дырку собачий поводок и дергал за него. Собака вставала на задние лапы, открывая грудь, и Мато всаживал нож ей в сердце.
Я ходил в Орлово по делу и на обратном пути пошел самой короткой дорогой, через северную часть сельских угодий. Дорога привела меня к месту, где уничтожали собак, – поляне, окруженной со всех сторон зарослями репейника, над которыми торчала собачья гильотина. По обеим сторонам дороги лежали рядком десятка три или больше мертвых собак. Я был так потрясен этим зрелищем, что поспешил повернуть назад, но тут кто-то окликнул меня по имени. Я посмотрел сквозь кусты – посреди поляны торчала окровавленная собачья гильотина, а рядом с ней – Илия Драгиев. Я подошел ближе и увидел, что он держит на поводке крупного пегого пса. На краю поляны сидел на пеньке цыган Мато и курил козью ножку с видом человека, который сделал важное дело и теперь с удовольствием предается отдыху. Он улыбался, показывая крупные пожелтевшие зубы, посматривал то на два ножа, всаженные в землю по обе стороны от него, то на Илию и иронически качал головой.
– Кишка тонка! Никак свою животную не прикончит. Сам, выходит, хлипкий! Мается тут, и ни в какую.
– Это ты про меня? Сейчас увидишь! Подумаешь, дело большое – нож в зверюгу эту всадить!
Взбадривая себя криком, Илия продернул поводок через дырку в столбе и натянул его. Голову собаки повело вверх, животное встало на задние лапы, давясь и вываливая язык. Цыган поднялся с пенька и протянул Илии нож, но Илия не взял его, посмотрел на землю вокруг столба, пропитанную кровью и покрытую роями сине-зеленых мух, и отпустил собаку. Он дрожал как в лихорадке, зубы у него стучали, побелевшее лицо заливал пот. Осеннее солнце припекало, на полянке, огороженной зарослями репейника, было жарко и душно, пахло кровью и собачьими испражнениями. Цыган, лицо которого блестело от пота, смотрел на Илию, улыбаясь до ушей и покачивая лохматой головой, потом взял нож и подошел к собаке.
– Эй ты, цыган! – вскрикнул Илия и загородил ему дорогу. – Убери свои грязные лапы! Не то я тебя самого прикончу. А собаку свою я сам убью. Я его такусеньким кутенком взял, я его вырастил, от моей руки пусть и гибель примет! – Несчастный Илия, словно обезумев, топтался возле своего пса и то дергал за поводок, ставя животное на задние лапы, то снова отпускал его и бил себя по голове. – Как же я тебя жизни лишу, Шарко! Скажи мне, как! Нет, не дает мне сердце, рука не поднимается. – Наконец, он отпустил собаку и воскликнул: – Да подпишу я эту декларацию, отчего не подписать. Столько народу подписало и не померло, так и я не помру! Илко, пошли, дашь мне декларацию. Подпишу, детей своих не стану губить…
Пока мы шли к селу, он рассказал мне, что Стоян несколько раз встречался с ним один на один и дал ему задание уничтожать собак вместо цыгана Мато. Сначала убить свою собаку, потом – чужих. Если же он этого не сделает, Стоян объявит его кулаком, потому что он нанимал мальчишек пасти ягнят, и отправит за оскорбление секретаря в трудовой лагерь, а из лагеря ему живым не выйти. Там он сгниет и детей сиротами оставит…
Брата в клубе мы не застали. Я дал Илии декларацию, он подписал ее и ушел. Я не мог отделаться от тягостного видения собачьей гильотины и, когда Стоян перешагнул порог, набросился на него с упреками. Стоян увидел подписанную декларацию, аккуратно убрал ее в шкаф и лишь после этого сел напротив меня. Раньше я не допускал, что он может быть таким жестокосердным, и сказал ему об этом. Еще я сказал, что с некоторых пор все спрашиваю себя, как это возможно – чтобы два брата, к тому же выросшие, как мы, в сиротстве, до такой степени не понимали и не знали друг друга. Я ожидал, что мои упреки его рассердят, но он молчал, и на лице его появилось выражение какой-то печали и примирения.
– Да, да, пожалуй, ты прав, – заговорил он наконец, глядя мне прямо в глаза. – Хотя нет… так-то уж мы и не знаем друг друга? Ты, может, меня не знаешь, но я тебя знаю. В былые годы, когда перед нами была одна великая цель, ты рвался прямо вперед, как стрела. Теперь ты стал другим. Оглядываешься по сторонам, сомневаешься, колеблешься. Да, то, о чем мы мечтали несколько лет назад, получается не совсем так, как мы думали. Мы верили, что как только мы возьмем в свои руки власть, люди с песнями ринутся навстречу новой жизни. Вышло не так. Оказалось, не все думают, как мы. Началась борьба, колебания, страдания. Да, но а как же иначе? Ты сам много раз говорил мне, что ликвидация частной собственности – величайшее событие в истории человечества. В истории этой чего только не было. И столетние войны, и смена эпох, и революции, и создание и крушение государств, и бог весть что еще, но ликвидация частной собственности осуществляется впервые. Двадцать лет назад – в Советском Союзе, теперь – у нас. Это величайшая революция, все остальные сводились к каким-то реформам, бунтам и больше ничему. Наша революция перевернула жизнь вверх тормашками для того, чтобы полностью ее обновить. Это твои слова, мой милый братец, тебя цитирую. А раз мы приступаем к полному обновлению жизни, как же нам не сталкиваться с трудностями? Мы не ждали, что они будут такими серьезными, но раз уж они обрушились на наши головы, надо их преодолевать. Ты обвиняешь меня в применении насилия. А может, ты ошибаешься и называешь насилием мои усилия, направленные на преодоление трудностей на пути к новой жизни? Ладно, допустим, мои усилия – это и есть насилие. Но почему я прибегаю к насилию? Ради себя, ради своей выгоды, или во имя общего блага, во имя народа? Ты жалеешь людей, они, мол, страдают. Но из-за чего они страдают? Из-за жалкого клочка земли, из-за своей тощей скотины, из-за всего, что у них «свое». Ведь частная собственность – первопричина страданий человечества, не так ли? Я не хочу бросать твои же камни в твой огород, но и этому ты меня учил. Читал мне книги по этому вопросу…
Стоян встал и принялся ходить по комнате. Он ступал медленно и осторожно, словно по краю пропасти, и время от времени дергал шеей, точно его душил воротник. Этот тик показывал, что в нем поднимается буря, с которой он не в состоянии справиться, и что вот-вот она грянет со страшной силой. Чтобы предотвратить эту бурю, я пошел было к выходу, но он догнал меня у двери и схватил за плечо.
– Прежде чем уйти, скажи мне, как мы добьемся нашей цели – социализма. Сто раз мы об этом говорили, а я все не пойму, какую же тактику ты предлагаешь. Раз ты не одобряешь мою тактику, значит, у тебя есть своя. Давай, выкладывай, а я послушаю.
Я сказал ему, что слово «тактика» в данном случае неуместно, более того – неверно. Мы хотим людям добра, и это движение души, а не какая-то тактика. Тактика – понятие стратегическое, это сумма приемов, с помощью которых можно выиграть войну или какие-либо состязания или овладеть богатством, но она не может привести к добру. Добро – категория нравственная, его не могут породить ни законы, ни идеи, которые приходят к человеку извне, добро порождается самой сущностью человека, как бьет из родника чистая вода…
Я видел, что Стоян сосредоточен до крайности, в глазах его горит внутреннее напряжение, он словно боится упустить хотя бы звук. Но вот по его лицу, застывшему как маска, пробежало оживление, и это означало, что он разгадал или вообразил, что разгадал, мои мысли, хотя я сам не вполне понимал, что именно хочу ему сказать. О «тактике», о том, как он ее толкует, мы говорили уже много раз, и я всегда сбивался, не мог выразиться достаточно ясно и определенно. Это был вопрос об осуществлении на практике революционных задач, поставленных перед нами партией, и наши мнения по этому вопросу расходились. Он отвергал мою точку зрения и в большинстве случаев не давал мне высказаться до конца. Вот и теперь он меня прервал. Он вскинул правую руку, точно саблю, а в глазах его сверкнули бесовские молнии.
– Ясно, ясно! Я так и знал – все та же старая тактика проволочек и хныканья. Либеральничанья и милосердия. Хотя ты прекрасно знаешь, что всякую революцию делает большая или меньшая группа единомышленников, называемая партией, в данном случае – наша Коммунистическая партия. Партия ведет вперед большинство, а большинству всегда кажется, что она действует намного быстрее, чем нужно. В этом и состоит революция. Какими словами ее ни определяй, она именно в том, чтобы организовать народ и вести его вперед к новой и лучшей жизни, преодолевая трудности и страдания, а если понадобится, то и проливая кровь. А ты упрекаешь меня, будто я честолюбив, болезненно мнителен и злопамятен, будто я караю тех, кто дерзнет меня оскорбить. Авторитет партии надо охранять так, чтоб и пылинка на него не упала. Партия никогда не ошибается, следовательно, и партийный работник, который выполняет ее указания, тоже не ошибается. Я солдат партии и делаю то, что она мне приказывает. Сейчас она требует от меня, чтобы любой ценой (любой ценой!) заново было организовано ТКЗХ, и я должен действовать так, чтобы оно было организовано, даже если мне придется заплатить за это жизнью. Вот почему я хочу рекомендовать тебе…
Он не успел закончить свою мысль, потому что из носа его хлынула кровь, намочила усы и потекла на пол. Я усадил его на стул, посоветовал запрокинуть голову и заткнуть нос платком. Кровотечение продолжалось еще долго, он ослабел, и мне пришлось проводить его домой. Впервые за последние четыре года мне предстояло переступить порог родного дома, и я волновался, но Кичка даже не предложила мне войти. Она встревожилась и хотела везти брата в город к врачу, но он отказался и ушел в дом, чтобы поскорее лечь. Утром я зашел его проведать. Кичка встретила меня во дворе и не позволила говорить с ним, чтобы его не волновать. Она сказала, что он всю ночь бредил и говорил, что Илия Драгиев плакал, как ребенок, из-за того, что не мог убить какую-то собаку. Какую еще собаку? Из-за чего мы снова ссорились, что я к нему цепляюсь? Мало ему неприятностей от чужих, так еще свои будут ему нервы трепать! Кичка смотрела на меня враждебно и наговорила еще много всяких слов. Я понял, что Стоян рассказывал ей о всех наших спорах, которые она назвала «контрами», и что эти «контры» тревожат его совесть и заставляют сомневаться в том, что он делает. «Не можете идти в одной упряжке, так разбегитесь в разные стороны, – сказала она под конец. – Ты теперь здоров, семьи нет, найди себе работу в городе, адвокатом или там судьей, женись. А то у вас с братом к тому дело идет, что врукопашную схватитесь, на потеху всему селу».
Кичка не умела скрытничать, и мне нетрудно было догадаться, что Стоян говорил с ней о своем желании спровадить меня подальше от села, однако сам сказать мне об этом не смел, и она взяла трудный разговор на себя. Я и сам подумывал о том, чтобы перебраться на работу в город, но сначала болезнь, а потом события в селе удерживали меня дома. Я вел бухгалтерию ТКЗХ, год работал учителем, известное время был юрисконсультом в только что образованной МТС. Мне казалось, что в эти годы, когда в муках и терзаниях рождается новая эпоха, я приношу пользу своим землякам. И быть может, я еще долго прожил бы в селе, не случись эта парадоксальная история с высылкой Ивана Шибилева. Действительно, это был настоящий парадокс – мой брат исключил из сельской партийной организации человека, который основал ее еще до Девятого сентября. Следствием этого парадокса стал еще один – политический преступник и убийца Михо Бараков в качестве начальника околийской милиции воспользовался характеристикой, которую мой брат дал Ивану Шибилеву на заседании ОК партии, и отправил Ивана Шибилева в трудовой лагерь. В лагерь отправили человека, который не пожалел свои дарования, поставив их на службу партии в тот период, когда она нуждалась не в высоком искусстве, а в агитках и плакатах; человека, который при всех перипетиях своей удивительной и бурной жизни ни на миг не переставал ей служить. И еще один парадокс – мой брат объявлял или грозил объявить кулаками крестьян, совершенно не подходивших под это понятие, а единственный в селе кулак и политический преступник Стою Бараков не только гулял на свободе, но в качестве председателя сельсовета представлял и осуществлял власть народа. Со времени раскрытия преступлений отца и сына Бараковых прошло четыре года, но в ОК партии все еще ничего не предпринимали для их разоблачения. Я несколько раз ездил туда и спрашивал, до коих пор будем мы держать за пазухой этих змей, и каждый раз мне отвечали, прижимая палец к губам, что все, к ним относящееся, следует хранить в строжайшей тайне. Других объяснений мне не давали, но было ясно, что судьба отца и сына Бараковых зависит от возвращения Александра Пашова, которое само по себе должно было стать бесспорным доказательством того, что за границей он работал на нас и что его отца напрасно принесли в жертву. Но Пашов, к сожалению, все еще не возвращался, и у его матери не было о нем никаких известий.
Всего этого не случилось бы, если бы Стоян не относился к партийной дисциплине как к догме и проявлял в своих решениях известную самостоятельность. Я очень часто вспоминал о том вопросе, над которым бился, размышляя о революциях, покойный Деветаков: можно ли достичь гуманной цели негуманными средствами? В то время, когда мы беседовали с Деветаковым, этот вопрос, как отмечал он сам, для меня и Лекси Пашова не существовал. Предстоящая революция была для нас тогда самым желанным, самым великим и гуманным событием, и мы никогда не задумывались над тем, как все будет выглядеть на практике. Когда же революция произошла, вопрос о том, какими средствами следует «проводить» ее у нас, стал для меня поистине проклятым вопросом. Народ, зажатый между двумя эпохами, переживал свое положение как болезнь. Тех, кто верил, что капиталистические страны объявят нам войну и вернут старые порядки, было немного. Большинство людей понимали, что революция необратима, но не могли пережить того, что им пришлось расстаться со своей собственностью. Некоторые пожилые люди плакали у меня на глазах. Они рвали на себе волосы, приговаривая: «Куда ж нам теперь? Ни назад, ни вперед!» Двое в нашем селе умерли от инфаркта, один покончил с собой. Добровольно подписал декларацию о членстве в ТКЗХ, а когда вернулся домой, прошел прямо в хлев и там повесился.