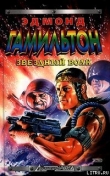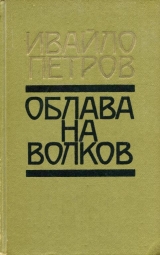
Текст книги "Облава на волков"
Автор книги: Ивайло Петров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Николин боялся, как бы она снова не вернулась, вскочил с кровати и запер дверь. Со стороны галереи не слышалось никакого шума, но он стоял у двери, готовый навалиться на нее плечом, если Мишона снова попытается войти. Только когда он услышал, что она легла за стеной, он тоже лег и укрылся с головой.
– Ники, голубчик, не думай обо мне плохо, – сказала она на следующий день, когда он вез ее на станцию. – Я жалею, что так пошутила. Ты ведь не станешь считать меня дурной женщиной? Обещай!
– Не стану, – сказал Николин, хотя продолжал быть настороже – как бы она не выкинула еще какую-нибудь шутку.
На обратном пути, да и в последующие дни он все думал о ней, спрашивал себя, что она за человек, и не находил ответа. Он вспоминал, как и в прежние годы она к нему приставала. «Какая первобытная красота у этого парня!» – говорила она и тащила танцевать, а он готов был от стыда провалиться сквозь землю и под смех гостей убегал из дома. Он не знал, откуда она, почему у нее такое странное имя, замужем она или нет, и не мог понять, насмехается она над ним или в самом деле хочет приблизить к себе. Теперь, когда он узнал, сколько тяжелого пришлось ей пережить, он был склонен считать, что сердце у нее доброе и жалостливое и что она не надменна, как другие посетительницы, но он испытывал перед ней инстинктивный страх, какой испытывают крестьяне при встрече с распущенными горожанками.
Вскоре после ее отъезда приехала на крестьянской телеге госпожа Сармашикова, или, как ее называли раньше, генеральша. В этот день Деветаков с утра уехал в Варну и не сказал, сколько дней там пробудет. Генеральша в нерешительности постояла посреди двора, потом вошла в дом и положила на стул клеенчатую хозяйственную сумку. Дальше все пошло так же, как и с другими гостьями. И она попросила продуктов для ужина, он дал ей все что нужно, показал, в каком шкафу какая посуда, и пошел работать во двор. Из всех женщин, приезжавших в поместье, генеральша была самая молчаливая и словно бы безразличная к окружающим. Она словно бы всегда думала о чем-то далеком, и только по ее легкой, едва заметной улыбке было видно, что она слышит и понимает, о чем говорят вокруг. Николин ни разу не обменялся с ней ни словом, но она казалась ему приятнее других, он любил смотреть на нее и слушать ее грудной, звучный голос. Она была в том зрелом возрасте, когда женщины полнеют и округляются и при этом не только не дурнеют, а, наоборот, приобретают особую привлекательность. Предыдущие посетительницы говорили, что она непременно приедет в поместье, и Николин поджидал ее с волнением, которого сам не мог себе объяснить. Мишона смутила его целомудрие и пробудила в нем влечение к женщине, а женщиной этой для него была генеральша. Когда он вспоминал, как Мишона ночью пришла к нему в постель, ее образ непонятным образом превращался в образ генеральши, и генеральша говорила ему: «Потрогай меня, миленький, потрогай!» В постыдных, мучительно сладостных снах он переживал близость со многими женщинами, с которыми когда-либо был знаком, даже покойная стряпуха тетка Райна являлась ему во сне – сидя на низенькой табуретке в кухне, она задирала подол до самых бедер и говорила ему: «А ну-ка глянь, милок, что у меня есть!» И у нее, и у других женщин, с которыми он предавался самому срамному прелюбодеянию, были лицо, голос и тело генеральши, в ее бесплотную плоть он погружался, точно в бездну, а потом просыпался в изнеможении, замаранный липкой влагой.
Он предполагал, что и генеральша, как госпожа Фени, не пригласит его на ужин, а оставит ему еду на кухне, и сердце у него дрогнуло, когда она с галереи позвала его по имени. Он быстро ополоснулся и пошел наверх, слегка задыхаясь и преодолевая дрожь в коленях. Генеральша накрыла на стол и ждала его. Она указала ему на стул напротив и произнесла:
– Приятного аппетита!
– Спасибо, и вам того же! – ответил Николин.
Генеральша бесшумно орудовала ножом и вилкой, медленно подносила куски ко рту и медленно, не размыкая губ, жевала. Николина не отпускало напряжение, он ел так же медленно, как она, и не ощущал вкуса еды. Как он замечал и раньше, она думала о чем-то далеком и неотрывно смотрела в одну точку. Время от времени он осмеливался бросить взгляд на ее высокую полную грудь, распиравшую светло-серую ткань платья, на ее лицо со смуглыми скулами и темными подглазьями, от которых глаза казались особенно большими и глубокими, на ее темные волосы, заколотые на затылке серебряной иглой. При каждом звуке, доносившемся с улицы, она переставала есть и прислушивалась, и Николину впервые с тех пор, как он жил у Деветакова, захотелось, чтоб этой ночью он не возвращался. Генеральша посмотрела на маленькие ручные часики и сказала:
– Мишель сегодня не приедет. Вечерний поезд уже прошел. – Она вытерла салфеткой губы и откинулась на спинку стула.
– Эх, я вино забыл принести, – сказал Николин, надеясь задержать ее за столом подольше, но она возразила, что не пьет. – Да я тоже не пью, но так уж, в честь гостьи…
Однако же, когда генеральша начала убирать со стола, он спустился в погреб под амбаром и одним духом выпил полбутылки вина. Кровь бросилась ему в лицо, голова приятно закружилась. Он вернулся в дом, но генеральши в гостиной уже не было. Он подумал, что она вышла во двор, и сел, поджидая ее, не допуская, что она могла уйти спать, не сказавшись. Потом он подошел к дверям комнаты, в которой она ночевала с мужем в прежние приезды, взялся за ручку, нажал на нее, но дверь была заперта изнутри.
– Что там такое? – послышался голос генеральши.
– Нет, ничего… где вы, думаю…
– Я уже легла.
Он постоял у дверей, борясь с искушением сказать ей еще что-то, но ему стало стыдно, и он ушел в свою комнату с ощущением, что его обманули. Оставалась надежда лишь на то, что на следующее утро генеральша сама обратится к нему и попросит продуктов для города. Мишона говорила ему, что и она, так же как и Чилева, живет на положении ссыльной и голодает, так что вряд ли она уедет с пустыми руками. Но наутро вернулся Деветаков, набил ее сумку продуктами, и Николин отвез генеральшу на станцию.
Так продолжалось все лето. Женщины, все три, приезжали, ночевали и потом уезжали с полными чемоданами, при этом визиты их ни разу не совпали, как будто они заранее договаривались. Тем временем «этакая тишь» снова поселилась в душе Деветакова. Женщины, видимо, по прежним временам знали это его состояние или делали вид, что его не замечают, и не обижались на то, что он не так мил и любезен с ними, как раньше, и даже не встречает их и не провожает, а целыми днями сидит в своей комнате или прохаживается по саду, сосредоточенный на чем-то своем, безразличный ко всем и ко всему.
Но настал день, когда, неизвестно почему, приехали все три дамы – Мишона утренним поездом, а госпожа Фени и генеральша – после обеда. В тот день Николин работал в поле и вернулся домой к вечеру. Гостьи сидели в беседке перед домом. Мишона встретила его во дворе и повела к ним. Садясь, он уже понял, что дамы не в настроении не только потому, что их пути пересеклись и что они терпеть друг друга не могут, но еще и потому, что уже успели поругаться. Лица их были бледны той бледностью, которая появляется у женщин, когда они взбешены, но вынуждены держать себя в руках. Вокруг было тихо и прохладно, как бывает на закате после жаркого дня, с полей наползала легкая, прозрачная тьма. Через некоторое время госпожа Фени вдруг нарушила молчание:
– Николин, будь добр, принеси мне стакан воды!
– Нет! – вскрикнула Мишона и схватила его за руку. – Не смей вскакивать! У нее от злобы горло пересохло, пусть сама идет на кухню и пьет.
– Как ты ведешь себя при посторонних, бесстыжая тварь! – тихо прошипела госпожа Фени и встала со скамейки.
Мишона засмеялась злым переливчатым смехом.
– Неужто кто тебя по бесстыдству переплюнет? Или ты на хлеб себе зарабатываешь не… – Она сказала нечто такое грязное, что Николин опустил голову. – Раньше ты Чилеву рога для собственного удовольствия наставляла, а теперь по нужде.
– Дрянь! Всю жизнь наши объедки подбирала, а теперь…
– Потому что ты за любовников втридорога платила и мне цену сбивала. – Мишона резко щелкнула солдатской зажигалкой из гильзы и закурила сигарету. – Попробуй здесь еще появиться, в клочья разорву. Зарабатывай в другом месте! Ты еще здоровая, многих мужиков выдержишь…
– Замолчи! – не выдержала и генеральша. – Что ты вяжешься, что за глупости болтаешь!
– Прощения просим, госпожа генеральша! – повернулась к ней Мишона. – Мы вас огорчили? Сохраняйте спокойствие, милочка! Если у вас будет дурное настроение, вы не сможете доставить удовольствие Ники. Правда, Ники? Ты же не любишь, чтоб к тебе в постель приходили в плохом настроении!
– Ничтожество! Так и хочется плюнуть в твою гнусную рожу! – сказала госпожа Фени и действительно плюнула в лицо Мишоне.
Мишона вскочила и закатила ей такую пощечину, что госпожа Фени с криком повалилась назад. Генеральша подхватила ее под руку, и они обе ушли в дом. Николин сидел ни жив ни мертв и не знал, что ему делать.
– Ни грамма продуктов им больше не давай! – сказала Мишона. – Столько лет на чужом несчастье наживались, пусть попробуют теперь сами на хлеб себе заработать. И на станцию их не отвози! Пусть идут пешком!
Но Николин отвез их в тот же вечер и дал «на дорожку» ящик с продуктами, чтобы они сами их поделили. Рано утром он отвез и Мишону, и ей тоже дал полный чемодан продуктов.
– Забудь о вчерашней сваре, Ники! – сказала она на прощанье и заплакала. – Ничего не попишешь, такие мы суки. Три голодные, грязные суки.
Это были ее последние слова. Больше Николин не видел ее и не слышал. Деветаков покончил с собой через несколько дней после их отъезда. Из села на его похороны пришел один только престарелый дед Ставри, муж покойной стряпухи тетки Райны. Похоронили Деветакова под старой орешиной в конце сада – Николин, дед Ставри, Малай и госпожа Клара. Через несколько дней Николина и Малая вызвали в город, к нотариусу. Нотариус вскрыл и прочитал завещание, которое оставил покойный. Деветаков завещал оставшиеся сто гектаров земли и дом Николину, молотилку и трактор – Малаю, а библиотеку – Илко Кралеву из села Равна. Малай тут же подписал акт о дарении, по которому передавал молотилку и трактор селу. Через неделю он и госпожа Клара уехали в Софию, где учились их сын и дочь, а оттуда – в Венгрию. Из города за ними приехали на машине. Малай обнял Николина, а госпожа Клара поцеловала его в лоб и заплакала. Такой он ее и запомнил – со слезами в голубых и веселых девичьих глазах. Был устроен митинг, произносились речи, Малая и его жену торжественно проводило все село, потому что они были коммунисты-эмигранты и теперь венгерское правительство приглашало их обратно на родину.
Николин остался совсем один. Никто ни с чем к нему не обращался, да и ему некуда было податься. Днем он работал во дворе или в поле и не чувствовал себя таким уж одиноким, потому что видел людей на полях и дорогах, зато ночи были невыносимы. Призрак покойного хозяина витал вокруг, каждую ночь он видел его во сне, а днем ему казалось, что тот сидит у себя в кабинете и вот-вот покажется на галерее. Незаметно в его сны стала проникать и генеральша. Она сидела напротив него за столом, тянулась к нему поверх тарелок, брала его руку в свою и с выжидательной блудливой улыбкой щекотала пальцем его ладонь, стол разъезжался в две стороны, она приближалась и приближалась и, наконец, прижимала его к своей груди. В другие ночи он носил ее на руках, как Малай носил жену, или она ложилась голая в его постель и обжигала своим дыханием его ухо: «Ну потрогай меня, миленький, или ты не мужик?», а Деветаков сидел у печки, отрывал глаза от книги и, печально улыбаясь, качал головой: «Эх, Николин, Николин, вот ты, оказывается, какой!» После таких сладостно-мучительных снов Николин думал о нем как о живом и страдал оттого, что оскверняет его память. Он шел на его могилу и от всей души молил о прощении: «Еще трава не выросла на твоей могиле, бате Михаил, а вот как я, неблагодарный, плачу тебе за то, что ты пригрел меня, был мне и за отца и за мать. Ты не спал в ту ночь с госпожой Фени, Мишона рассказала мне, какая чистая у тебя душа, да я и сам знаю, потому что ты никогда на моих глазах не согрешил с женщиной, а я предаю твою светлую память поруганию, когда вижу тебя во сне рядом с женщиной. Ни умом, ни душой не хочу я этих снов, а они приходят, когда я засыпаю глубоким сном, и нападают на меня, как разбойники. Не буду больше спать ночью, буду спать только днем, чтобы не видеть снов!»
После этого обета он не спал несколько ночей. Он лущил головки подсолнуха, пилил дрова и делал многое другое, что можно было делать в эти лунные ночи, а утром уходил в поле. На четвертую ночь, когда он уже не мог больше держаться без сна, он лег в телегу на голое днище, чтобы не засыпать слишком крепко, и привязал к колесу собаку, чтобы она будила его лаем. Но генеральша все равно появилась. Собака ее почуяла и яростно залаяла, но она не испугалась и с улыбкой подходила все ближе к телеге. Собака набросилась на нее, ухватила зубами за платье, разорвала его, а она стояла и улыбалась, пока собака не сорвала с нее всю одежду и она не осталась в ночной рубашке. Она залезла на телегу и легла рядом с ним, а разъяренная собака пыталась ее укусить. Николин пнул ногой оскаленную морду и тогда увидел, что это не собака, а Деветаков, который прижимает руку к ушибленному лицу и громко плачет. Как ни пытался Николин не спать, как ни истязал себя целыми ночами, стоило ему поддаться усталости и закрыть глаза, как тут же откуда ни возьмись появлялась генеральша и заключала его в свои жаркие объятия. И так продолжалось до того утра, когда она появилась наяву. Она сказала, что только накануне узнала о смерти Деветакова, и вот поспешила приехать посмотреть, как живет Николин, как он управляется один в этом большом доме.
– Боже мой, как ты похудел, словно весь месяц ничего не ел! – воскликнула она. – Мертвых не воскресишь, о живых надо думать. Ты еще молодой, вся жизнь у тебя впереди.
Она говорила и смотрела на него так, словно смерть Деветакова не произвела на нее особого впечатления и словно она приехала в поместье только ради него, чтобы помочь ему, если нужна женская рука, и рассеять его одиночество. В ее одежде не было ничего траурного, а в выражении ее лица, в глазах, в мягкости ее звучного голоса чувствовалась какая-то бодрость, в которой Николин уловил сочувствие и желание его успокоить, как успокаивают в трудные дни близкого человека. И та дикая и постыдная страсть, которая так безрассудно толкала его к этой женщине, снова властно охватила его, и он забыл о тех душевных терзаниях, которые она причиняла ему во сне. Он всегда полагал, что его влечение к ней сколь неприлично, столь и бессмысленно, потому что ни одна генеральша никогда не позволила бы себе близости с таким человеком, как он, но теперь у него было определенное предчувствие, что она пойдет на эту близость. Он знал по опыту, что прежде всего она возьмется за готовку, и предложил ей сходить за продуктами вдвоем. Они вошли в амбар, он поднял крышку с железным кольцом, и под крышкой показалась деревянная лестница. Он зажег фонарь, спустился по лестнице и позвал снизу:
– Ну, спускайся!
– Подай мне руку, я ничего не вижу! – сказала она. Он протянул ей свободную руку, она ступила на пол, потеряла равновесие, ухватилась за него как за опору и так его обняла, что ее грудь толкнула его назад. Объятие длилось всего один миг, она вскрикнула ненатуральным голосом и оторвалась от него. – Ох, чуть шею себе не свернула! А если кто-нибудь запрет сверху крышку и уйдет, что мы будем делать в этом подвале?
Она говорила и смеялась, словно расшалившаяся девочка, точно так, как в его снах, и он ждал, что сейчас она протянет руку и погладит его по лицу, но она смотрела на бидоны у стены, отражавшие свет фонаря.
– Что это?
– Два со смальцем, а два других – с постным маслом. – Николин пошел вперед, и свет фонаря открывал, где какие лежат и висят продукты: связки лука, чеснока, картошка, глиняный кувшин с рисом, копченые окорока, ларь с мукой, ящики со всевозможными напитками, а с потолка свешивались подковы домашней копченой колбасы – суджука. Рука генеральши метнулась к ним, оторвала одну подкову, и в следующий миг щеки ее оттопырились, словно она засунула туда по кулаку. Николина потряс звериный блеск ее глаз – так блестят глаза оголодавших собак, когда им достается кусок мяса и они глотают его, не жуя, рыча от удовольствия. Генеральша тоже глотала суджук не жуя, и из горла ее вырывалось какое-то сладострастное рычанье. Когда от подковы осталась половина, она поперхнулась, закашлялась и словно только тут вспомнила, что рядом есть еще человек.
– Угощайся, Николинчо! – Она пыталась сунуть ему в рот обкусанную подкову и заливалась нарочитым, капризным смехом. – Очень вкусная, только острая, вот я и поперхнулась.
Николин взял пустой ящик и начал наполнять его продуктами. Он видел, что генеральше стыдно и она пытается как-то замазать свой поступок, и в то же время чувствовал, что она его ненавидит. И он стыдился самого себя, что вот он позволил себе соблазнять голодную женщину, как охотники привадой заманивают в капкан голодного зверя. Еще когда он позвал ее с собой в погреб, куда никто из посторонних не заходил, он ощутил укол совести: «Хочешь показать, сколько у тебя продуктов, приманиваешь, чтоб она и дальше приезжала!» Но этот внутренний голос звучал из глубин его совести так тихо и неуверенно, что страсть заглушила его. Во время обеда генеральша была весела и разговорчива, как никогда. Она отпивала французское вино, которое взяла со склада, щеки ее разрумянились, как персик, она смотрела на него улыбаясь и спрашивала, как ей быть – уехать после обеда или остаться до завтра.
– Делай как знаешь, – сказал Николин. – Я оставлю тебе ключ, и ты запрешь дом, потому как мне надо в село и я, может, и завтра не вернусь. Сестра заболела, зять вчера за мной приходил.
– Просто тебе со мной неприятно, я вижу, – сказала генеральша. – Дай руку и признайся как на духу! – Она потянулась над столом и, как в сновидениях, взяла его руку в свою. – А если тебе приятно, пойдешь в село завтра, и я на вечер останусь. Видишь, как нам славно вдвоем, потому что мы оба одни на всем свете. – Рука у нее была холодная как лед, лицо из розового стало белым, а улыбка превратилась в гримасу, словно она с усилием старалась утишить какую-то острую боль. Николин видел, что она не в себе, но не знал, как ему быть, только выдернул свою руку и встал, а она упала лицом на стол и прошептала: – Господи, господи, до чего же… Нет, тебе неприятно, признайся!
– Почему неприятно? – защищался Николин. – Но мне надо в село. Раз пришли меня звать, значит, сестра и вправду разболелась. Другой раз приедешь, останешься ночевать, тогда и поговорим.
Генеральша подняла голову и посмотрела на него с улыбкой.
– Боже, как меня от вина развозит. Прости, Николин!
– Да ладно, – сказал Николин. – Ударило тебе в голову, я потому его и не пью. Сейчас соберу кое-что тебе в дорогу, и поехали.
Ему было совестно обманывать ее насчет сестры, но еще больше мучила его совесть, когда он смотрел, какие усилия она прилагает, чтобы подавить свое достоинство и гордость и решиться на отчаянный поступок. «И все это ради куска хлеба, – думал он, возвращаясь домой, после того, как отвез ее на станцию, снабдив, как всегда, полной сумкой продуктов. – Год назад генеральшей была, а теперь ни дома, ни денег, и что в ее душе творится, когда она ко мне чуть не с протянутой рукой приходит! Чего ей стоит лебезить перед слугой из-за килограмма картошки или килограмма фасоли! Она меня презирает и ненавидит, и правильно делает». Так думал Николин, стыдясь своей низменной страсти к этой несчастной женщине, упавшей с самых верхов общества в его низы, но ночью ему снова снились ее ноги – такие, какими он видел их на лесенке в складе. Они спускались со ступеньки на ступеньку, округлые и розовые в свете фонаря, он не устоял перед искушением, дотронулся пальцем до гладкой теплой кожи и тогда услышал над своей головой смех. Громко смеялись два голоса, один густой и звучный, другой тоненький и прерывистый, а потом голоса превратились в тревожный собачий лай. Он испугался и проснулся. Собаки лаяли около дома Малая, лаяли на человека. Николин вылез из телеги, в которой он спал, и пошел на лай. Ночь была светлая, как день, и было видно, как собаки кидаются на забор опустевшего дома. Кто-то крикнул ему, чтоб он стоял на месте, и Николин в тени дома увидел человека. Он остановился у забора и спросил, кто это среди ночи будит собак и что он там делает.
– Сейчас я тебе покажу, что я делаю, кулацкий прихлебатель! – закричал человек. – Сделаешь еще шаг, голову размозжу! А ну убирайся отсюда!
Николин не испугался и двинулся к теневой стороне дома, чтобы лучше разглядеть пришельца, но тут прогремел выстрел и пуля просвистела над самой его головой. Николин повернул назад, успокоил собак, зашел во двор и оттуда смотрел, как двое мужчин выносят из дома Малая вещи и грузят их на телегу. Они работали спокойно, не хоронясь, слышно было, как они обсуждают, что как уложить, в комнате горела лампа или фонарь. Нагрузив телегу, они погасили свет и поехали в сторону села. В следующие ночи они снова заявлялись и, когда выносить уже больше было нечего, выломали двери и окна и тоже увезли. Вскоре нападению подверглись и хозяйственные постройки, неизвестные увезли черепицу, двери, лежавшие под навесами доски, а под конец уволокли и плуги. Николин наблюдал за ними из своей комнаты и ничего не мог с ними поделать. Он не знал, откуда они и кто они, одни и те же ли приходят или разные люди, но слышал, как они грозятся, что, если он вздумает оказать сопротивление или просить у властей помощи, они отправят его к Деветакову, чтоб он прислуживал ему и на том свете.
В это же время примчались и двое его зятьев, почуявших, точно стервятники, запах падали аж из родного его села. Они, мол, услышали, что Деветаков оставил ему свое имущество и что это имущество растаскивают мужики, так вот, они пришли защищать его от грабителей. Николин, еще по совету покойной стряпухи тетки Райны, с первой же получки стал откладывать половину для двух своих сестер, так что для каждой из них набралось по две тысячи четыреста левов. Это были немалые деньги по тому времени, когда крестьяне обычно и расплачивались и получали натурой и живые деньги были для них что чистое золото. Пока сестры были еще малы, он давал им по сотне левов на приданое и другие нужды, а позже стал покупать им в счет приданого и землю. По совету той же тетки Райны делом этим занимался управляющий поместья Халил-эфенди. Он был человек опытный и честный, землю покупал лучшую из возможных, и когда сестры собрались замуж, у каждой было по пятьдесят – шестьдесят декаров. Обе вышли замуж за парней из более или менее зажиточных семей, народили детей и зажили неплохо. Но сваты и зятья – а за ними потянулись и сестры – оказались людьми алчными и ненасытными. Щедрость Николина давала им основания думать, будто он может как хочет вертеть своим хозяином, о котором было известно, что он человек не от мира сего и что он накопил много денег и всякого имущества. Они приезжали к Николину по нескольку раз в год, он тоже навещал их, и при каждой встрече они не давали ему проходу просьбами о деньгах – один, мол, начал строить дом, другой собирается купить лошадь или корову. И чем больше он им давал, тем больше они просили, полагая, что и он, как и его господин, не от мира сего и не знает цену деньгам.
Случилось так, что в тот вечер, когда явились зятья, грабители попытались увести из кошары овец. Николин ждал, что они доберутся до скотины, и по вечерам привязывал одну собаку в кошаре, а другую – в хлеву возле коровы. Не сумев отогнать собаку, чтоб она им не мешала, грабители убили ее прямо на цепи и, как обычно, начали работать, не соблюдая никаких мер предосторожности. Один ждал в телеге у ворот кошары, а двое других ловили овец и связывали им ноги. Зятья схватили по топору, не дали грабителям выскочить из кошары и сцепились с ними врукопашную. Тот, что был в телеге, успел смыться, но двум другим досталось так крепко, что они еле унесли ноги. Зятья прибыли, чтобы охранять имущество от разбойников, но сами оказались заправскими разбойниками. Они провели в поместье двое суток и не отстали от Николина, пока он не согласился отдать им корову, одну из лошадей и половину овец. «Раз мужики положили на поместье глаз, – говорили зятья, – они растащат все до нитки, потому как это кулацкое имущество, а коли так, зачем же отдавать чужим?» Николин дал им все, что они просили, и распрощался с ними.
В таком плачевном положении мы и застали Николина, когда отправились с Илко Кралевым в поместье, чтобы взять книги, которые Деветаков завещал Илко. Николин очень обрадовался Илко и хотел поздороваться с ним за руку, но Илко сказал ему, чтобы он держался подальше.
– Ты же знаешь, у меня туберкулез.
– Выздоровеешь, – сказал Николин, вглядываясь в его лицо. – В лице у тебя нет болезни.
Николин был в то время красивый парень с выразительными, усталыми и грустными глазами, грусть таилась и в смуглых ямочках на его щеках, и в складках губ, когда он улыбался, и в интонациях голоса, тихого, напевного и чуть сипловатого, когда он говорил, до чего ж мы хорошо сделали, что догадались к нему приехать. Илко предложил прежде всего пройти к могиле Деветакова, а потом уж приниматься за работу. Листья орешины цвета кованого золота покрывали продолговатый холмик, у подножья деревянного креста лежали астры. Их свежий запах, смешанный с йодистым ароматом ореховых листьев, насыщал теплый неподвижный воздух той нежной печалью, которая придает столь грустное очарование первым осенним дням. «Почему? – сказал Николин, и на усталых его глазах выступили слезы. – Почему он наложил на себя руки?»
Тот же вопрос много раз задавали себе и мы с Илко Кралевым, когда узнали о самоубийстве Деветакова. Молва разносила самые разные слухи о причинах самоубийства, и поскольку в то время основной темой разговоров были народные суды и приговоры политическим преступникам, многие под влиянием этих событий утверждали, что причина этого самоубийства тоже политическая. Как и все богатые землевладельцы, Деветаков, дескать, был, естественно, настроен против новой власти, был вовлечен в политические интриги и покончил с собой из страха, что его разоблачат и ему придется держать ответ. Строительство же школы и то, что он подарил селу триста декаров земли, объясняли как попытку искупить свою вину перед новой властью, при этом получалось, что он за год предвидел развитие событий, как, впрочем, предвидели его все.
Единственный человек, который мог знать или хотя бы догадываться, почему Деветаков покончил с собой, был Николин, но и он не заметил в поведении своего господина ничего необычайного, кроме разве «этакой тиши», временами забиравшей в плен его душу. Илко вспоминал, что в последние годы, во время встреч и разговоров с Деветаковым, тоже замечал эту «тишь», замечал ее и Александр Пашов, с которым они часто посещали поместье, но оба толковали ее как состояние внутренней сосредоточенности. Деветаков был по характеру человеком «тихим» и спокойным, но отнюдь не безразличным. Разговаривал и спорил он со страстью, хотя внешне это никак не проявлялось. Они беседовали об истории, литературе, философии, политике и прочем, а также о так называемых «проклятых вопросах». Деветаков не проповедовал пессимизм, но не был и «восторженным почитателем» мирового порядка, то есть смотрел на этот порядок со снисходительной иронией, а на жизнь – как на нечто нам навязанное, с чем так или иначе следует мириться, другими словами – проявлял мудрость. Смерть не была его излюбленной темой – разве что он щадил собеседников, и Илко не мог связать его самоубийство как акт сверхчеловеческой воли с его характером – характером человека, склонного к созерцанию, нежного и самоуглубленного.
Несколько дней мы паковали книги, перевозили в село и складывали на земляном полу Илковой комнаты. Подавленный кошмарами одиночества, Николин всеми силами стремился к общению с людьми, он не знал, чем нас ублажить и как подольше задержать в поместье. Он готовил нам чудесные обеды и ужины, а в свободное время помогал нам и с простодушной откровенностью рассказывал о Деветакове, о себе и обо всем, что читатель уже знает. Он был сбит с толку, угнетен, не представлял себе, как будет жить дальше, и просил у нас совета. Илко попросил своего квартирохозяина Анания сдать ему вторую комнату и, получив его согласие, предложил Николину переехать к нему. Николин обрадовался, но непонятно было, что делать с домашней обстановкой – перевезти ли ее куда-нибудь или оставить в доме. Илко дал знать в город, и оттуда приехал грузовик с несколькими рабочими. Так ковер из гостиной, рояль, овальный стол, несколько кожаных диванов и другая громоздкая мебель были перевезены в разные общественные учреждения.
Нам оставалось упаковать и перевезти книги с нижних полок книжных шкафов, когда Илко увидел между страницами какого-то французского романа стопку листков. Первая фраза, перенесенная с предыдущей, несохранившейся страницы, заинтриговала его, и он прочел все остальные листки. Они были пронумерованы, но не подряд, и связь между ними рвалась. Исписаны они были черными чернилами, ясным почерком, но было много зачеркиваний и вставок, так что мы предположили, что это отрывки из черновика то ли дневника, то ли какого-то сочинения. Илко пересмотрел у себя дома все книги в надежде найти полную рукопись, но не нашел больше ни строчки. Через несколько лет я переписал эти листки из записок Илко, а сейчас поддаюсь соблазну вставить их в свой рассказ, хотя сознаю, что никаких оригинальных мыслей там нет. Кроме того, Деветаков – один из самых эпизодических персонажей моего рассказа, причины его самоубийства едва ли будут представлять интерес для читателей, и все же я не могу утаить эти страницы, которые дышат нечеловеческой жаждой жизни и апокалиптическим ужасом перед смертью. А вот и та фраза, с которой начинаются листки и первая половина которой неизвестна:
«…из чего следует, что инстинкт жизни сильнее ее смысла.
Ненавижу природу! Хотя бы за то, что я явился в этот мир не по своей, а по ее воле. Она навязала меня миру. Природа – слепая сила, которая творит наугад, без плана, без цели и без чувства.
Пока человек изобрел такую простую штуку, как колесо, и многое другое в том же роде, прошли тысячелетия. Чтобы создать самое сложное на свете – человека, не нужно ничего, кроме слепого инстинкта. Создавая человека, никто не думает, потому что отдается плотской страсти. Более того, человек часто рождается после беспросветного пьянства, после насилия или флирта, в результате случайной встречи случайных людей. Несмотря на это, природа одаривает его умом, чувствами, воображением, способностью испытывать боль и душевное волнение. В этом ее подлость, если можно инкриминировать ей подобный порок.
Мой отец умер пятидесяти пяти лет от инсульта. Он был необыкновенно силен и жизнелюбив. Рассказывали, что в молодости он боролся на ярмарках и часто побеждал самых опытных борцов. Его отличал мягкий характер, тонкое чувство юмора и музыкальность. Помню, как в свободное время он любил «побаловаться» на скрипке или на флейте. Играл он по слуху, исполняя русские романсы и разные мелодии, которые слышал у других музыкантов или, чаще всего, на граммофонных пластинках. Учиться музыке в его время было делом немыслимым. Мой дед, полуграмотный крестьянин, и слышать не хотел ни о каком обучении. Отец окончил лишь прогимназию, но был интеллигентен от природы. В отличие от других крупных землевладельцев нашего края, он читал книги болгарских и иностранных авторов, купил сестре рояль, нанял ей учителя из города, но она не проявила музыкальных способностей. К его огорчению, меня тоже не тянуло к музыке, зато он был очень горд, что я получил высшее образование за границей.
Отец был человек щедрый и любил гостей. Любил угостить их на славу, предложить разнообразные напитки, любил послушать их разговоры. Приезд гостей, всегда разных, бывал для него праздником. Он был общителен и в их присутствии чувствовал прилив воодушевления, радости и счастья. Но вот случилось так, что именно в присутствии гостей он и заболел. Вышел зачем-то в другую комнату, задержался там, а когда мы пошли его искать, увидели, что он лежит в кровати на спине и не может ни говорить, ни двигаться. Утром позвали врача, и он установил правосторонний инсульт. С того дня отец был нем и неподвижен. Я был потрясен. Я спрашивал себя, почему именно этот жизнелюбивый добряк так жестоко наказан судьбой, почему она не послала ему хотя бы какой-нибудь болезни полегче. Он сделал такое доброе дело госпоже Кларе, а теперь наказан более тяжко, чем она. Целыми днями он лежал в доме или, в хорошую погоду, на галерее. Но самым страшным и невыносимым было то, что он сознавал свое состояние. Ум его остался ясным, но вместо слов изо рта вырывалось мычанье. Больше всего он страдал, когда нанятый в селе человек раздевал его, вытирал и подмывал. Тогда он плакал, как ребенок, и смотрел на икону святой Богородицы – быть может, просил, чтоб она скорее его прибрала. Я никогда не видел и никогда не увижу ни в чьих глазах такого страдания.
Да, природа не только причиняет человеку незаслуженные страдания, но и унижает его.
Один древний царь сказал поэту, который воспел его в оде и сравнил с солнцем: «Прежде чем сравнивать меня с солнцем, надо было посмотреть на мой ночной горшок!» Царь был искренен и сказал правду.
Прежде чем влюбиться в женщину, мы тоже должны прежде всего взглянуть на ее «ночной горшок». Даже самая нежная любовь между мужчиной и женщиной – всего лишь проявление полового инстинкта. Это прозаично, но верно. В противном случае влюбленные восхищались бы и опьяняли друг друга на расстоянии. Они не испытывали бы влечения друг к другу в первую же минуту знакомства или даже еще раньше. И может быть, именно поэтому человек с незапамятных времен возвеличивает объект своего влечения, изображая его неземным существом, и называет свое влечение любовью. Он воспевает любовь именно потому, что не смеет назвать ее настоящим ее именем, которое сровняло бы его с животными. Таким образом он вырастает в собственных глазах. Животные совокупляются только в определенное время, чтобы продолжить свой род, а человек проделывает это непрерывно, удовольствия ради, и удовольствие вырождается в блуд. А блуд ведет к трагическим последствиям. Любовь человека продается и покупается, она служит разменной монетой, используется для шпионажа и всяких нечистых сделок.
Таким образом человек доказывает, что его любовь – это инстинкт, из-под власти которого он не в силах освободиться, даже когда видит, что это может стоить ему чести, свободы и жизни.
Я должен убить в себе этот инстинкт. Он подавляет мою волю и свободу. То же – и с чувством собственности, одним из самых опасных пороков. Это чувство – преступление по отношению к тем, кто живет в нищете и лишениях. Зачем мне столько земли? У меня есть немного денег в банке, вложенных много лет назад моим отцом, и мне их хватает. Мне некуда больше ездить, нечего покупать. Всего у меня в достатке.
Если я раздам землю бедным крестьянам, я осчастливлю их на всю жизнь. И не только их, но их детей тоже. Я предчувствую, что и я буду счастлив. Или по крайней мере попытаюсь сделать свою жизнь хоть сколько-нибудь осмысленной. Невыносимо жить так, как я жил до сих пор. Решено: иду к крестьянам, и тебе – столько-то, тебе – столько-то! Как все это просто, а я вот уже сколько лет не могу это осуществить. Мне не хватает воли, у меня такое чувство, что я окажусь совершенно беспомощным, ничтожным, без всякой опоры и почвы под ногами. Но ведь будет не так. Раз я знаю, что сам отказался от чего-то, значит, я не буду страдать от его отсутствия. Хоть бы продать землю за полцены, но я и этого не могу сделать, потому что я алчен и порочен. Потому что я настоящий злодей. Я ведь и пальцем не шевельнул ради этой земли. Она досталась мне в наследство.
Первого марта пойду в правление общины и посмотрю земельные реестры. Посмотрю, у кого из крестьян сколько земли, и раздам свою самым бедным.
Первого марта, ни днем позже!
Говорят, что в природе существует высшая гармония. Скорее, в ней царит хаос. Еще древние, а вслед за ними и христианские мыслители сказали, что она несовершенна. Находятся, однако, «великие» умы, которые усматривают гармонию даже в существовании миллионов видов насекомых, всевозможных пресмыкающихся и низших организмов. Комар, говорят они, питается кровью человека и других животных, и это в согласии с гармонией природы. И животные, живущие под землей, которые никогда не видят света и уничтожают посадки бедных крестьян, – тоже часть этой гармонии. Войны, насилия, пожирание или убийство более слабого более сильным поддерживают в мире высшее равновесие. Это равновесие безнравственно и кровопролитно, но ученые и философы принимают его и оправдывают, создавая стройные системы. Они не могут понять природу и выстраивают собственные системы, чтобы блеснуть перед миром своим умом. При этом они доходят до того, что объявляют смерть необходимостью для гармонии природы. А смерть – это самое преступное деяние природы. Она лишает жизнь смысла.
Людей с самой глубокой древности мучило то, что жизнь преходяща и бессмысленна. В богатыря Гильгамеша, героя древневавилонского эпоса, смерть вселяла ужас. В поисках утешения он встречался со всеми мудрецами того времени, но все они говорили, что боги обрекли людей на смерть, а бессмертие приберегли для себя. Лучше не рождаться, чем жить и страдать, не зная зачем, – сказано в книге Ездры.
В античной Греции, которая знаменита своей жизнеутверждающей философией, мы находим не меньше скорби и печали. «Ибо из всех созданий во всей вселенной нет никого, кто был бы несчастнее человека», – говорит Гомер в «Илиаде». И в сочинениях многих ранних поэтов, как Семонид, Феогнид и другие, написанных за шестьсот лет до нашей эры, много безнадежности: «Смертным лучше не рождаться, чтобы не видеть сияющих лучей солнца».
Позже и Софокл говорит: «Высший дар человека – не быть рожденным».
Спустя века мы услышим и печальный вопль Паскаля: «У нас под ногами нет основы, под нами бездна. Страшно чувствовать, как все, что у тебя есть, исчезает».
Есть философы, которые утверждают, будто страданием и смертью отдельной личности искупается счастье человеческого рода. Смерть, разумеется, зло, но в таком случае она превращается в добродетель. Из нее рождается новая, вечно обновляющаяся жизнь. Отсюда и теория бессмертия, осуществляемого в смене поколений или даже в какой-либо деятельности. Жалкая утеха. Или, точнее, посмертное удовлетворение тщеславия. Меня нет, но дети, внуки и все ступеньки моего «колена» будут жить одни вслед другим, а я – в них. Живут ли во мне мой отец, мой дед, мои прадеды? Конечно, нет. Живу я, а они – прах, и даже не прах, а ничто. Какие-то имена, понятия, притом давно забытые.
Меня нет, но я буду жить в своих делах в сознании грядущих поколений. Еще более жалкая утеха. Что из того, что кто-то когда-то откроет какую-то книгу и, может быть, прочтет, что такой-то сделал то-то и то-то на пользу человечеству. Изобрел машину, нарисовал картину, изрек мудрую, бессмертную мысль. Какую пользу принесли человечеству Архимед или, скажем, Сократ? Или Шекспир, или Микеланджело? Никакой. Буквально никакой. Разными занятиями и суждениями отвлекали себя от мысли о неизбежности смерти. Отвлекали и других, и это единственное, чем они были полезны. А человечество продолжает умирать, и разные аристотели и прочие остаются именами, написанными на бумаге.
Я не хочу быть ни одним из этих великих людей, а хочу быть бессмертным. Жить и после конца света. А они пусть живут в «сознании признательного человечества».
Древние греки, как мы знаем, преклонялись перед неумолимой судьбой, которая пренебрегает отдельным человеком во имя всеобщей, мировой гармонии. Гераклит восхищался непрестанным потоком жизни, который течет благодаря смерти отдельных людей. Так, видите ли, обеспечивается бессмертие рода человеческого.
Если человек умирает, кому нужна жизнь природы, космоса! Какой смысл имеет моя жертва во имя поддержания жизни космоса, если он не живое существо и этого не осознает? Если он существует и со мной и без меня? Природа в силу своего слепого инстинкта непрерывно создает и непрерывно умерщвляет, так что мир, в сущности, представляет собой бесконечное кладбище. Это чередование жизни и смерти, рождения и исчезновения в небытии пугает и самого Гераклита, и под конец он сравнивает мировую гармонию, жизнь природы с кучей мусора или чем-то подобным.
Сегодня Малай принес госпожу Клару поиграть на рояле. Пока она играла (уже совсем плохо, и слушать ее мучительно), я думал о том, какую трагическую жажду жизни испытывает эта женщина. Когда они с мужем приехали к нам, она была так хороша, что из окрестных сел, да и знакомые из города съезжались на нее посмотреть. Мы уже знали, что она и ее муж – политэмигранты. Ее преданная любовь, ее жертвенность окружали ее в наших глазах ореолом святости. Через год или два ее разбил паралич, и мы все были потрясены. Когда заходит речь о смерти, она бледнеет от ужаса.
Ее болезнь, можно сказать, ничто по сравнению с заболеванием одного из моих кузенов. Ему сорок лет, но он не может ни ходить, ни сидеть. Он ползает на четвереньках, а во двор его вывозят на тележке. Он похож на четвероногое насекомое. Если посторонние случайно видят, как он ползет по полу, они приходят в ужас. Два или три раза в месяц я получаю от него записку, в которой он просит книги. Читает он всякие книги, но предпочитает описания далеких путешествий. С ним можно говорить обо всем, потому что он живой справочник. Он помнит не только все прочитанное в журналах и газетах, но и все услышанное по радио. Знает все политические события в мире, имена всех политических деятелей, знает все передвижения войсковых частей на немецко-русском фронте. Знает французский язык и говорит со мной только по-французски. Язык он выучил с частным учителем.
Память у него хорошо тренированная, при этом не механическая. В школьном возрасте у него было двое учителей, и поскольку он не мог писать, он должен был запоминать уроки. От меня его не прячут, потому что мы родственники и я ношу ему книги и журналы, которые его брат – а живет он у брата – не всегда может ему достать. Когда мы разговариваем с Личо (его зовут Илия, уменьшительное – Личо), он лежит на кровати ничком, а я сижу рядом на стуле. Темы наших разговоров энциклопедичны – от злобы дня до философии.
Иногда речь заходит о проблеме жизни, и он утверждает, что жизнь есть страдание. Я, говорит, наказан богом страшнее, чем все люди на земле, а коли так, зачем я живу? Я урод. Почему я не умру или сам не положу конец своим мукам?
Так он говорит, но стоит ему чуть простудиться и чихнуть, он тут же просит вызвать врача. Да, инстинкт жизни непреодолим. Он сильнее самой тяжелой болезни, самого безнадежного отчаяния, сильнее смысла жизни.
Как преодолеть эту неведомую слепую силу? Еврипид ли сказал, что, быть может, жизнь – это смерть, а смерть – это жизнь? Если это так, переход из одного состояния в другое не так уж страшен.
Вот эти заметки принадлежат Александру Пашову. Это его почерк. Помню, как он заглядывал в свои заметки, когда рассуждал о «Государстве и революции», заграничном русском издании, которое я привез ему из Парижа. Илко Кралев тогда тоже его прочел.
Как чисты они оба, как влюблены в человечество. Влюблены платонически. Они готовы принести себя в жертву на «алтарь» своих идеалов. Как они жаждут знаний и деятельности в пользу бедных и эксплуатируемых классов! Я не разделяю их идеологии. Это самая гуманная из всех идеологий, но она неприменима на практике. Человек устроен намного сложнее, чем думают молодые идеалисты и разные теоретики. Но я восхищаюсь ими, потому что их идеалы благородны, бескорыстны и возвышенны.
В них я вижу и себя в их возрасте. Разве я тогда не пытался заключить в свои объятия страждущее человечество? Я хотел стать сельским учителем, чтобы учить крестьянских детей читать и писать. Врачом – чтобы лечить бесплатно. Адвокатом – чтобы вести в суде дела крестьян и защищать их. Отец не смеялся надо мной и мне не противоречил. Как я узнал позже, он тоже пережил период романтического народничества и терпеливо ждал, пока жизнь повернется ко мне и другими своими сторонами.
Я завидую двум этим юношам, завидую их чистой, искренней вере в осуществление их идеалов. Какое это счастье – верить. Если в молодости я бывал счастлив, то я обязан этим своей тогдашней вере в то, что, пожертвовав собой, я сделаю людей счастливыми. Теперь я не могу верить. Хочу, но не могу. Теперь я знаю, что никакие идеи и революции не изменили и не изменят человека. Теоретики, особенно материалисты, не знают человеческой сущности. Для них человек – это материал, который им нужен для осуществления их теорий. Они и знать не хотят, что человек – бездна, в которую никто еще не сумел заглянуть так глубоко, чтобы увидеть дно.
Коммунисты, как и все революционеры, верят, что их идея – самая справедливая и наиболее применимая к общественной жизни, следовательно, все, что было до них, – несовершенно. Но кто бы вообще совершал революции, если бы не верил, что его идея – последнее слово человеческой справедливости?
Революции сопряжены с насилием, и я всегда спрашивал себя, как можно негуманными средствами добиться гуманной цели. Некоторое время назад, когда мы разговаривали с Александром Пашовым и Илко Кралевым, зашла речь и об этом, и они попытались доказать мне, что революция (имелась в виду социалистическая революция) не может быть неэтичной и неморальной. Революция – это коренной переворот в экономической, а вследствие этого и в духовной жизни общества. Мы каждый день совершаем революции в различных областях жизни, хотя и в меньших масштабах. Полив земель, внесение удобрений, скрещивание животных с целью получения лучших пород, лекарства, хирургические операции, вообще наука и цивилизация – разве это не «насилие» над эволюционным развитием? Революция для человека – необходимость.
Изложенные таким образом, на простых и ясных примерах, мотивы революций кажутся логичными и убедительными. В других разговорах на подобные темы Александр Пашов и Илко Кралев свободно цитируют экономистов и философов, то есть теоретически они, видимо, подготовлены очень хорошо. Особенно Александр Пашов, который основательно изучил труды Маркса, Ленина, Плеханова, Сталина и других. Он вообще для своего возраста сверхначитан, к тому же умеет импровизировать и убеждать своего собеседника спокойно и логично, не подавляя его своими познаниями. Разговоры с ним, так сказать, демократичны. К тому же он сдержан и тактичен, и похоже, что, хотя отец обеспечивает ему достаточно хорошие условия, он ведет спартанский образ жизни. Вообще мне кажется, что у него есть все данные, чтобы стать общественным деятелем, партийным функционером высокого класса или даже лидером партии.
Но и он теоретик, к тому же совсем молодой. Панта реи и то, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, означает, что она меняется каждый миг. Но это механическое изменение. Материалисты приписывают это свойство и человеку, но аналогия эта ошибочна. Человек меняется, но тоже механически. Он развивает свою материальную и техническую культуру, но в нравственном отношении не меняется. А цель любой революции – именно нравственные перемены.
Завидую мертвым. Они преодолели ужас смерти и перешли в ничто. Почему я испытываю ужас перед этим ничто? Миллиарды и миллиарды людей уходили в его лоно, уйду и я. Годы, которые мне осталось прожить, будут заполнены ожиданием смерти и ужасом перед ней, и это мучительное ожидание ничем не может быть оправдано. Человека, который дошел до той истины, что жизнь лишена смысла, смерть не должна пугать. Свободен и счастлив тот, кто может по своему усмотрению располагать своей жизнью. В конце концов, если я лишусь земной жизни, я ничего не потеряю, если же «наверху» есть жизнь – выиграю.
Да, вот единственный смысл жизни – бессмертие.
Если второй жизни нет, природа – уголовный преступник. Рецидивист. Но где осуществится эта вторая жизнь? Здесь, на земле, – нет. «Наверху», на том свете? Его не существует, он выдуман религиями. А религии – это самое бесспорное доказательство усилий человека преодолеть смерть. Вся деятельность человека, с тех пор как он появился, есть борьба против так называемой необходимости, царящей в природе. Вера в загробную жизнь – это отрицание смерти. Религия – это надежда на бессмертие. Бывают реальные надежды, например, надежда на то, что посеянное даст весной всходы, вырастет и летом принесет плоды. Вероятность того, что стихийные бедствия уничтожат посеянное, составляет всего один процент, да и то не каждый год. Но бывают и обманчивые надежды. Одна из них – потусторонняя жизнь, воскресение.
Стремление человека к бессмертию души так сильно, что он доходит до абсурда, то есть до веры в это бессмертие. В религиях говорится, что бог создал человека, на самом же деле наоборот. Человек создал бога как упование и надежду.
Где бог, который поможет нам и нас утешит?
Бог может все – утверждают религиозные мыслители. Но некоторые добавляют, что полной гарантии его существования нет. В нем всегда можно усомниться, можно его отвергнуть. Не следует искать и открывать его рациональным путем, он не в бытии, а в духе. Раз бог все может, то вера в него – это борьба за возможности. Она открывает путь к бессмертию.
Да, бог – наша единственная надежда, единственное спасение. Если мы сумеем возвыситься до него, мы победим ничто. Только не следует забывать – бога нельзя постичь, идя путем разума. Наш разум подозрителен и ограничен. Он ищет истину, справедливость и добро здесь, на земле, исходя из логических построений, и так создает закон, а следовательно – грех. Разум приносит человеку самые большие страдания, но кто его создал? Конечно, бог, кто же еще.
Но почему?
На этот вопрос некоторые философы отвечают, что бог сотворил все, но разум и мораль не сотворены. Они предвечны. Прекрасный ответ, ничего не скажешь. Дверца для того, чтобы выбраться из лабиринта этого явного противоречия. Таким образом обеспечивается и ответ на вопрос, почему бог так безучастен к судьбе человека. Раз не он создал мораль, то и добро не в его ведении. Он существует в этом мире инкогнито и не имеет ничего общего с мудростью, моралью и истиной. Они выдуманы разумом.
Древние полагали, что независимо от того, бессмертна ли душа, мы должны быть добродетельны, а Блаженный Августин отвечает на это афоризмом, который гласит, что добродетели язычников суть лишь блестящие пороки.
Великолепный афоризм, конечно, но – всего лишь афоризм.
И еще: «Бог повсюду, откуда приходят невежественные люди и приводят в восхищение небо».
А почему Иисус учит нас быть добродетельными здесь, на земле? Он, правда, говорит, что блаженны те, кто не соблазнится о нем, но в то же время советует нам отдать одну из двух рубашек тем, кто беднее нас. Разве это не добродетель?
Позавчера Илко Кралев сказал мне, что Александр Пашов с полгода назад уехал в Швейцарию изучать медицину. Я давно спрашивал о нем, но Илко отвечал, что не знает, где он. И только теперь сказал. У меня такое чувство, что, хотя они близкие друзья, а может быть, именно поэтому, отъезд Александра Пашова в разгар войны для него загадка. Потому я и не счел нужным сказать ему, что месяца два назад видел Пашова в Цюрихе, на обратном пути из Мюнхена. Я хотел добраться до Парижа, куда я вез кучу рекомендаций от софийских знакомых, но доехал лишь до Мюнхена. Сначала я был не вполне уверен, что молодой человек, на которого я обратил внимание в цюрихской гостинице, действительно Пашов. Поскольку я не ждал увидеть его за границей, в первую минуту я подумал, что обознался. Позже, чем чаще и подробнее я восстанавливал в памяти его походку, рост, выражение лица и глаз, тем больше убеждался, что это был он. Мы разминулись в трех шагах от портье. Я входил в гостиницу, он выходил. Взгляд его остановился на мне дольше обычного, и когда я открыл рот, чтобы поздороваться, он отвернулся и быстрым шагом направился к выходу. Он был элегантно одет – серое пальто, серая шляпа с широкими полями, серые перчатки.
Теперь я уже был вполне уверен, что это он, настолько уверен, что мне захотелось его догнать. Но тут я подумал, что раз он, после того как мы в течение трех лет встречались у меня дома, делает вид, будто не узнает меня, значит, у него есть на это серьезные причины. Что это могли быть за причины? Он не объявился ни вечером, ни на следующее утро. Администратор сказал мне, что такое лицо в гостинице не зарегистрировано. Господин, которого я видел, очевидно, посещал кого-то из живущих в гостинице. Всю дорогу домой и до самого недавнего времени я гадал, почему он отвернулся от меня в той швейцарской гостинице, и наконец пришел к заключению, что он, быть может, связан с международным шпионажем.
Какой страшный мир! Какое сложное существо человек. Если Пашов связан со шпионажем, то на кого он работает? То, что он так пламенно говорит о коммунизме, совсем не значит, что он служит Советской России, скорее наоборот. Может, он так открыто пропагандирует идеи коммунизма, чтобы прикрывать этим работу на фашистов.
О Советской России я почерпнул много сведений из французской печати. Они крайне противоречивы. Одни ужасаются тамошнему суровому диктаторскому режиму, другие в восторге от советской власти. Власти, которая ведет тяжелую борьбу с экономической отсталостью царской России, на благо народных масс. Некоторые французы, как и другие иностранцы, посетившие Советскую Россию, говорят, что там осуществляется великое возрождение человечества.
Но фашизм я знаю. И у нас, и в других странах. Это политический пароксизм. Я видел его в оккупированной Франции, видел демократию, придавленную сапогом. Видел я его и в Германии. Ни одному другому народу не удалось навязать такой стадный психоз. Нигде личность так не подавлена и не унифицирована, и кем – посредственным кровожадным фюрером. И свитой его подголосков. Как это можно – чтоб целым народом управляла банда люмпенов, с наглой уверенностью утверждающих, что они преобразят мир! Мы славословим народ, а народ – это толпа, которую может скрутить каждый, у кого есть для этого амбиции и способности. И здесь тоже дело не обходится без смерти. Это страх перед ней превращает людей в стадо. И диктатор это знает.
Фашизм – это безумие. И как может Александр Пашов служить этому безумию? Может ли в таком человеке, как он, прятаться чудовище? Не хочется в это верить, но кто знает. От человека всего можно ждать.
Итак, чтобы обеспечить себе бессмертие, мы должны отказаться от разумного мышления. Вера начинается там, где мышление кончается. Может ли существовать более невозможное условие для бессмертия? И как человечество пришло к этой истине, если не с помощью разума? Ведь человек, лишь только открывает глаза, хочет все увидеть, потрогать, узнать. Он задает в день по сто вопросов, и это – разум.
Ваш бог, который не хочет невозможного, не бог, а гнусный идол. Это говорит один из героев Достоевского. Человек из подполья. Древняя, древнейшая библейская химера, позже превращенная религиозными писателями в обязательное условие истинной веры. Ведь еще древний Авраам, как только бог призвал его принести своего сына Исаака в жертву, занес нож, готовый зарезать его, как ягненка. И если бы бог не остановил его руку, он сделал бы это не моргнув глазом. Но бог, разумеется, остановил его руку, так что мы не можем понять, насколько в сущности была сильна вера Авраамова, действительно ли он был готов убить сына.
Легенда эта мелковата. И весь ее смысл, если он есть вообще, заключается в том, что вера – это невероятный парадокс и что именно этот парадокс может превратить убийство в святое дело. Вернуть Аврааму его сына.
Но чтобы верить, как Авраам, я должен обезличиться, подавить свою волю, потерять свое Я. Отказаться от своей души. «Каждый из вас, кто не может отречься от всего своего, не может пойти со мною». Или: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною; ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее».
Некто Игнатий, доставленный в Рим, дабы быть растерзанным зверьми, просит тамошних христиан не пытаться его спасти. «Ничто не может удержать меня от того, чтобы пойти к Христу. Я предпочитаю умереть за него, чем властвовать над всей землей. Я горю желанием умереть, как он». И действительно, целые поколения мучеников с радостью принимали смерть из любви к Христу. И даже жаждали предать себя величайшим страданиям и смерти, чтобы испытать его муки и его смерть.
Мистики. Или люди с помутившимся сознанием, юродивые, безумные, припадочные, душевнобольные. Они видят во сне или наяву бога и воображают, что соединились с ним. И Паскаль бредил в моменты душевного кризиса. И он душевнобольной.
Сегодня слушал по радио речь Гитлера и подумал, что властители, особенно диктаторы, в сущности используют испытанные приемы религии. И они, как господь, требуют от своих подданных полного подчинения и готовности пожертвовать собой. Ни за кем не признают права на личную свободу и индивидуальность. Или признают его на бумаге, а в действительности подавляют всеми средствами.
Истина состоит в том, что бог должен был бы быть, но его нет. О, если бы бог был, он не пребывал бы на этом свете инкогнито. Он не был бы так безучастен к людям, не ставил бы такие тяжелые, невыполнимые условия, чтобы приобщить их к себе.
Но я совсем запутался. Ведь бог – это дух. Если он есть, он и вправду должен быть духом. Мир, в котором мы живем, столь абсурден, столь лишен смысла, что, быть может, только приобщение к духу способно нас спасти. Вот в чем тайна религии. Она в сущности борется за лучшую жизнь здесь, на земле. Она соблазняет нас воскресением в потустороннем мире, потому что здесь мы обречены на бессмысленную смерть. Следовательно, наше спасение в духовном мире. Если мы согласимся с этим, непреложность законов природы перестанет для нас существовать. Таким образом мы станем совершенными и сможем счастливо прожить свою жизнь здесь, на земле, а в этом и заключается смысл нашего существования.
Что же касается потустороннего мира, воскресения и пребывания в вечности, это уже эсхатология. Мечта, относительно которой никто из живых никогда не узнает, осуществима она или нет. Но если мы проживем свою жизнь счастливо, у нас не будет и этой потребности. Религия – это красивая, быть может, самая красивая поэзия, сотворенная когда-либо человеком.
Именно поэзия.
А смерть, нелепая, бессмысленная смерть, остается ужасным приговором, вынесенным человеку. Мысль о ней обессмысливает мою дальнейшую жизнь. Чтобы преодолеть смерть, я должен ее принять. Для этого у меня нет сил. Вечный мрак, в который я должен буду погрузиться, приводит меня в ужас, сковывает мою волю. Я не могу, не могу превозмочь своего инстинкта жизни. Эта слепая сила держит меня в своих руках.
Как счастливы те безумцы, те нищие духом, юродивые и душевнобольные, которые жаждут умереть как можно скорее, чтобы отправиться к своему богу.
Илко Кралев болен туберкулезом. Осужден на смерть. Знает ли он это? Ничем, буквально ничем он не показывает, что страдает. Плюет в свою жестяную коробочку так старательно, как будто совершает какой-то обряд. Откуда это самообладание? Или надежда в нем сильнее, чем отчаяние?
Почему он не бунтует против этой нелепицы?»
В первые дни октября Николин запряг кабриолет и поехал в Равну, намереваясь устроиться на жительство под боком у Илко Кралева. Он погрузил в кабриолет самое необходимое имущество – два чемодана с одеждой и бельем, ящик с кухонной утварью и продуктами, а поверх всего – клетку с десятком кур. Он вез их для Илко, который жил один, не ведя никакого хозяйства, в то время как его болезнь требовала, чтобы он хорошо питался. Николин знал его давно и полагал, что он единственный человек после Деветакова, с которым он мог бы жить. Ему казалось, что Илко похож на Деветакова по характеру и даже внешне и что его жизнь с Илко будет как бы продолжением его предыдущей жизни. И он, как Деветаков, не может без книг, вот пусть себе и читает, а я буду заниматься хозяйством, буду ему готовить, заботиться о нем, пока он не поправится. Завтра же вернусь в поместье, заберу остальных кур, поросенка, что там осталось из продуктов, да и деньги у меня есть, нам хватит надолго.