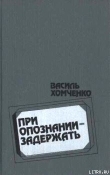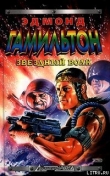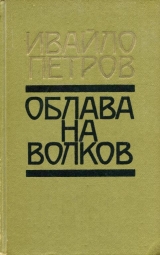
Текст книги "Облава на волков"
Автор книги: Ивайло Петров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
Сельские власти скоро капитулировали перед этим всенародным энтузиазмом и не только отменили штраф за незаконное строительство клуба, но и отпустили средства для его окончания. Нашлись плотники и штукатуры, удалось завезти доски для сцены, кирпичи для пола, стулья для зрительного зала. На следующий год правление общины предоставило клубу десять декаров земли, которые молодежь обрабатывала добровольно. Доходы от этого поля шли на оборудование клуба. Была куплена материя для занавеса, светильник, печка и, самое важное, новехонький граммофон с множеством пластинок – одним словом, зал клуба был полностью модернизирован и реконструирован, а это создало благоприятные условия для совершенствования старых танцев и изучения новых. Новые танцы требовали, однако, и модернизации одежды. Попробуй, к примеру, станцевать вальс в суконных шароварах, с обмотками на ногах и в меховой шапке, а после танца поклониться даме и сказать ей «мерси». Новая одежда властно входила в жизнь, ведя за собой в наше село новую моду.
Мой брат Стоян первым из сельских парней, опять-таки по примеру Ивана Шибилева, скинул с себя шаровары и антерию и надел брюки и пиджак, а на голову – кепку. Он взял из дому кусок грубого домотканого сукна – шаяка, выкрашенного отваром из листьев грецкого ореха, и они с Иваном отнесли его портному, который умел шить городскую одежду. Мама продала корзину яиц и еще кое-что, дала брату деньги, и он принес новый костюм. В первый день Пасхи, когда на сельской площади народ собрался плясать «хоро», к нам пришли Иван и еще несколько парней, зашли в комнату, и Стоян, в ритуальном молчании, надел новый костюм. Иван Шибилев осмотрел его со всех сторон и произнес краткое, но пророческое слово:
– Это не костюм из шаяка, ребята! – сказал он, положив руку брату на плечо. – Это броня прогресса, от которой будут отскакивать пули духовной нищеты, убожества и глупости. На нас сейчас с пеной у рта накинутся шаровары, обмотки, постолы, папахи и все смрадное ретроградство, но мы отразим все хулы и проклятия и скоро, очень скоро завершим победой нашу борьбу за прогресс и счастье молодежи. Дерзайте, друзья!
Парни ничего не поняли в этой патетической речи, но слушали его в благоговейном молчании, словно вступали в некий священный заговор. Все они были одеты в атрибуты смрадного ретроградства, чувствовали себя отставшими от брата на целый век и, судя по всему, собирались в ближайшее время последовать его примеру. После торжественного переодевания, которое явилось посвящением в новую моду, Стояна повели на площадь. Я был одиннадцатилетним мальчишкой, но уже мог оценить значение этого поворотного момента в истории села и присоединился к кортежу. Парни шли вплотную к Стояну с обеих сторон, словно оберегая его от чьих-то покушений. Так они подошли к хороводу.
Пасху праздновали с особым размахом целых три дня, и если пользоваться нынешней терминологией, можно сказать, что этот праздник представлял собой ревю весенне-летней молодежной моды. Молодежь, как это обычно бывает после продолжительного поста, ждала его с особым нетерпением. Ни свадьбы, ни какие-либо развлечения до этого не разрешались, так что в долгие зимние вечера девушки были заняты только своими нарядами. Ткались полотна, вышивались блузки, вязались носки и кофты, шилась мужская одежда, и все это надо было выставить напоказ в течение трех дней. В первый день молодые выходили плясать хоро в самом скромном, почти будничном платье, только какая-нибудь косынка, поясок или бант могли привлечь внимание как намек на завтрашние наряды. На второй день появлялись новые элементы праздничной одежды, а на третий – все, что было сшито, вышито и разукрашено, все, во что было вложено воображение, эстетический вкус и импровизация.
После полудня молодухи, девушки и парни выходили из домов и, чинно выступая, направлялись к площади. Парни – досиня выбритые, девушки – напомаженные, нарумяненные, и вот плывут к площади сарафаны, жесткие, негнущиеся юбки, из-под которых висят до земли тонкие кружева, разноцветные передники с пышной бахромой, платки и косынки на длинных, до колен косах, пестрые платья и широкие белые рукава с каймой, ожерелья из стеклянных бусин и золотых монет, новые шаровары, обшитые шнуром, красные кушаки и меховые шапочки с плоским верхом, белые обмотки с перекрещенными поверх черными шерстяными оборами, лиловые антерии и безрукавки. Немного позже выходили матери и отцы, свекры и свекрови. Они тоже, особенно те, что позажиточней, выступали с неотразимым достолепием и становились в круг, снаружи охватывающий хоровод, беседуя как бы о своих делах, а в сущности наблюдая, сравнивая и оценивая молодых, их пляски, их наряды и поведение.
Традиция, как это всегда бывает с обреченными, не подозревала, что костюм из шаяка, который так одиноко и неприкаянно маячил у нее перед глазами, – это троянский конь, из утробы которого уже готовы выскочить фанатичные сторонники новой моды и атаковать ее крепость изнутри. Но пока традиция чувствовала себя неуязвимой за толстыми стенами своего невежества и, не дрогнув от дерзкого вызова шаячного костюма, удовлетворилась тем, что удостоила его лишь презрительными улыбками и оговорами. Молодежь, проходя мимо костюма, хотя и не выражала восхищения, но и не смеялась над ним, а в любопытстве, с которым она его оглядывала, наблюдательный глаз мог различить зарождающееся ренегатство по отношению к старой моде. Только молодые гагаузы проявляли грубую невоздержанность, вытаращенными глазами в упор рассматривали костюм из шаяка, как если бы перед ними было чучело, пытались оторвать от него пуговицы, гоготали и что-то говорили по-турецки. Человек двадцать этих парней были пришельцами из соседнего села, бастиона замшелых предрассудков и невежества, которое наши презрительно называли Гагаузландия. Они имели обыкновение по праздникам гастролировать в соседних селах в качестве ансамбля народных танцев, а заодно норовили похитить и какую-нибудь девушку. Приезжали они на повозках или верхом, останавливались у знакомых или на поляне за околицей и отправлялись на площадь, где кружилось хоро. С собой они приводили двух музыкантов с огромными и громкоголосыми, точно иерихонские трубы, кавалами[22]22
Кавал – вид пастушьей свирели.
[Закрыть]. Все они, как на подбор, были красивые крепкие парни в островерхих каракулевых шапках, в лиловых антериях и черных шароварах, обшитых шнуром, за правое ухо у каждого был заткнут цветок или изогнутое запятой перышко из индюшачьего хвоста. В отличие от наших, обуты они были в сапоги с голенищами до колен, а из-за голенищ высовывались треугольники кружев, сплетенных из разноцветных ниток; за кушаками у всех торчали ручки пистолетов, а за голенищем – белый костяной черенок ножа. С жителями других сел они говорили на ломаном болгарском языке, и наши смеялись над ними, повторяя их слова: хароший лошадь, балшая село и прочее. Особую популярность приобрело выражение «верху режь, внизу трещи», употребленное одним гагаузом, который хотел похвалить свои арбузы, такие крепкие и сочные, что достаточно было коснуться их ножом, как они сами раскалывались до самого низа.
Гагаузы славились своим молодечеством, прекрасными лошадьми и особенно умением плясать «топотуху». Их несравненное искусство исполнения этого танца преодолевало барьер векового межсельского антагонизма и вызывало восхищение окрестных сел. Посреди площади в каждом из окрестных сел, в том числе и в нашем, было по круглой площадке, прозванной «гагаузским током». В этом кругу гагаузы два или три раза в год отплясывали свою знаменитую топотуху, да так отплясывали, что там никогда не вырастала трава. Музыканты их, плечом к плечу, двигались по окружности, а плясуны, крепко ухватившись за кушаки соседей, начинали танец медленно и легко, потом как бараны наклоняли головы, вплотную прижимались друг к другу и, приседая и выбрасывая ноги вперед, сужали круг, пока не утыкались своими шапками в музыкантов, а тогда начинали бить сапогами о землю с такой яростью, что площадь дрожала, а народ смотрел на них, затаив дыхание, покоренный их первобытной силой и страстью. Исполнив свой коронный номер, гости уезжали с криками и пальбой, и не успевала улечься пыль за их повозками, как выяснялось, что они под шумок увезли какую-нибудь девушку. Именно эти молодцы наиболее непримиримо отнеслись к городской одежде брата и пригрозили, что, если он не снимет ее до следующего их приезда, они разденут его посреди площади, а его тряпки повесят на кол на какой-нибудь бахче. Так мой брат Стоян высек первую искру, от которой вспыхнула война между старой и новой модой.
Старая мода засела за стенами векового бастиона традиции и оттуда направила на противника свои орудия, извергавшие огонь проклятий, угроз и ветхозаветных догм. Сторонники новой моды шли вперед с голыми руками, и единственным их оружием была их фанатичная вера в победу. При каждом штурме они кричали не обычное «ура», а «нет конформизму», готовые закрыть своими телами дула вражеских орудий. Никто из них не знал, что значит «нет конформизму», но этот лозунг, случайно брошенный Иваном Шибилевым, воодушевлял их именно своей новизной и непонятностью. Старая мода вела позиционные, оборонительные бои, а такие бои выиграть невозможно, особенно если они ведутся во имя отживших идеалов. Через несколько месяцев осады она выкинула белый флаг и капитулировала на вечные времена.
В этой войне стороны понесли не только моральные и материальные, но и людские потери. Трое отцов умерли от инфаркта, несколько парней в результате внутрисемейных междоусобиц остались инвалидами, одна девушка в знак протеста против родителей, не разрешавших ей отрезать косы, ушла из дома, нанялась в городе в прислуги и там сбилась с пути. Как и следовало ожидать, победители начали беспощадную расправу с побежденными, и из разрушенного бастиона традиции были вышвырнуты все ее внешние атрибуты. Их заменили невиданные до той поры туфли на высоких каблуках, чулки сеточкой, панбархат, газовые косынки, жоржет и крепдешин – для молодых женщин и обувь из шевро и юфти, кепки, котелки, английские ткани «рыбья кость», ворсистые и в рубчик, двубортные пиджаки и брюки с широкими, как рукава рясы, штанинами – для молодых мужчин. Женщины поотрезали косы, чтобы сделать себе модные прически «буби», и выкинули на помойку несметное количество волос. Ткацкие станы, чесалки, веретена отправлялись друг за другом на чердаки, не выдерживая конкуренции фабричных изделий. И если бы кто-нибудь всего через полгода попытался вернуть старую моду, такого чудака все бы лишь высмеяли.
Во главе этой реформаторской деятельности встал мой брат Стоян. Идею реформы, правда, выдвинул Иван Шибилев, но, как мы уже говорили, его беспокойный дух непрерывно гнал его из села в город и обратно, так что он не мог – а быть может, и не умел – до конца осуществить на практике ни одну из своих идей. Пока он странствовал неизвестно где и зачем, Стоян взял на себя всю общественную и просветительскую работу в селе. Он верил, как Кемаль Ататюрк, которого он любил цитировать, что если люди изменят свой внешний облик, они изменят и свою жизнь, но поскольку он не мог, подобно Ататюрку, употребить власть и издать декрет о запрещении фесок и шальвар, он решил провести эту реформу самым демократическим путем – снизу вверх и, разумеется, прежде всего подал другим личный пример. Первым из молодых людей надев городской костюм, он стал и первым в селе шить модную мужскую одежду. В наше время, когда я пишу эти записки, появилось много теоретиков моды. В зависимости от своих идейных и эстетических взглядов все они толкуют ее по-разному, но где бы они ни искали ее корни, в социально-экономических ли отношениях общества или в морали отдельной личности, как бы ни объясняли это явление, никто не отрицает, что мода – это прежде всего феномен неомании, страха оказаться старомодным. Люди верят, что одежда делает их красивее и даже лучше, хотя еще в глубокой древности была создана поговорка, согласно которой «по одежке встречают, по уму провожают». Эта вера превратилась в суетность, а суетностью легко манипулировать, она поддается влиянию массовой культуры и массового вкуса. Именно эта склонность к подражательству, которое, быть может, представляет собой вид любопытства, ставшего для наших библейских праотцев причиной непоправимого несчастья, позволяла устанавливать ту или иную моду даже некоторым безумцам и чудакам. В истории моды есть и такие случаи. Для молодого человека с неполным средним образованием и живым умом, как у моего брата, нетрудно было оценить эту особенность массовой психики и использовать ее как средство борьбы против тогдашней социальной системы.
Теперь усилия Стояна, направленные на преобразование общества, и его вера в то, что добиться этого можно, изменив одежду, заставляют меня лишь улыбаться его юношеской наивности. Но в тот вечер, когда я лежал под навесом, удивленный и огорченный его жестким и безжалостным отношением ко мне, я находил какую-то отраду лишь в воспоминаниях и хотел видеть его таким, каким он был в то время, – нежным, любвеобильным и беззаветно преданным борьбе за общее благо. Я с умилением вспоминал, как мы жили, любя и поддерживая друг друга. Сиротство и бедность так сблизили и сравняли нас, что я не говорил ему «бати»[23]23
Бати – обращение к старшему брату.
[Закрыть], а называл по имени, хотя он был на шесть лет старше. Он на отлично закончил прогимназию в трех разных селах, потому что прогимназии в то время, полные или неполные, открывали в селах, в зависимости от числа учеников. Каждую осень Стоян узнавал, в каком селе какие классы открыты, и ездил туда верхом, оставаясь там на ночевку только в самые холодные зимние дни. Несмотря на тяжелое положение семьи, он стал нажимать на маму, неграмотную, болезненную и робкую женщину, чтоб она отправила его учиться в гимназию, в город. В семье установилась тягостная атмосфера – с одной стороны, неизлечимая болезнь мамы все больше давала о себе знать, с другой – Стоян погрузился в тяжелую меланхолию, которой так подвержены хрупкие души подростков. Когда мама умерла, он был вне себя от горя, гладил меня по голове, утешал и не подпустил меня к покойнице, чтоб я не напугался. Думаю, что именно в те трудные годы его сердце заполнила жгучая ненависть к тогдашнему быту, к материальной и духовной нищете, на всю жизнь определившая его политические взгляды. После смерти матери, как это иногда бывает на самом краю бездны, когда никакого выхода, кажется, нету, в нем наступила быстрая перемена – отчаяние и мрачные предчувствия превратились в физическую и духовную энергию. «Ты должен учиться, – говорил он мне, – у меня не получилось, так хоть ты учись, сколько сможешь и сколько я смогу тебе помогать! Вырвешься из этого убожества, заживешь другой жизнью!» Он говорил это так, словно речь шла о нем самом, словно это ему предстояло жить «другой жизнью», и отождествлял себя со мной с самой искренней самоотверженностью. И с тех пор как я начал учиться и вошел в мир науки, искусства и истории, никогда и нигде я не находил более прекрасных примеров братской любви, привязанности и отзывчивости, чем те, что дал мне Стоян.
Когда я начал учиться в гимназии, Стоян, при скудости своих средств, только и мог, что время от времени привозить или посылать мне немного дров, фасоли, картошки или муки, иногда вареную курицу, но мне больше и не нужно было. Времена были дешевые, нравы строгие и скромные, люди проявляли к бедности благородное снисхождение, из общины мне выдали свидетельство о бедности, так что от платы за обучение в гимназии я был освобожден. Не платил я и за квартиру. Я жил под верандой одного дома, в помещении, когда-то служившем складом для дров и для всякого старья, а потом приспособленном под жилье, побеленном и кое-как обставленном, – я располагал кроватью, столом и маленькой цилиндрической печкой. Наверху в двух комнатах жила пожилая болезненная женщина, которая давно овдовела и, чтобы не быть совсем одинокой, сдавала комнатку под верандой гимназистам. Платы она не брала, но после гимназии я приносил воду из уличной колонки, покупал ей продукты, лекарства, зимой колол дрова. Если Стояну удавалось прислать мне какие-нибудь продукты, я отдавал их ей и тогда обедал с ней и ужинал. В остальное время я питался в заведении дяди Мичо. Условия у него были не слишком сложными и строгими – я мог есть до отвала, а за это мыл посуду, когда у меня бывало свободное время или когда уж очень хотелось есть. Клиентами заведения были мелкие чиновники и в базарные дни – крестьяне. На стойке лежала большая конторская книга с привязанным к ней веревкой химическим карандашом, чиновники вписывали в книгу свои обеды и ужины и платили в конце месяца. В ту же книгу вписывал свои обеды и ужины и я, когда мне было некогда мыть посуду. Таким же образом делал я покупки для моей хозяйки и в бакалее – там тоже была конторская книга и химический карандаш, и бакалейщик до конца месяца сам вписывал туда покупки при полном доверии со стороны клиентов. Это были годы неограниченных кредитов, уступок и взаимного доверия между покупателями и продавцами, благодаря чему многим из нас, бедным парням из сел и городов, удалось окончить гимназии и университеты. Позже, когда наступил кризис военных лет, в тех же заведениях появились надписи «Уважение – всем, кредит – никому» – официальное выражение того печального факта, что доверие между торговцами и потребителями исчезло. Тогда я уже учился в Софии и, напрактиковавшись в провинции, переместился в высшие гастрономические сферы. Я работал кельнером в самых фешенебельных ресторанах, но уже был «на крючке» – за каждое опоздание или оплошность у меня вычитали из жалованья.
Помощь, которую оказывал мне Стоян, была прежде всего моральной и потому неоценимой. Сам он был девятнадцатилетним парнем, задавленным бедностью, вокруг царило беспросветное невежество, так что по тем временам эта помощь была равна подвигу. Благодаря своему живому уму и собственной тяге к образованию, он оценил мое влечение к книгам, превратившееся впоследствии в болезненную страсть, и ради меня отказался от утех молодости. Он жил в селе один, без семейного тепла, без близких («Не женюсь, пока ты не кончишь гимназию!»), работал один в поле и вынужден был сам заниматься домашним хозяйством – стирал, сам себе месил и пек хлеб. Несмотря на это, когда я приезжал на каникулы, в доме был такой порядок, словно его наводили женские руки, а сам он встречал меня подтянутый, аккуратный и бодрый, обрадованный и разнеженный нашей встречей, крепко обнимал меня и прижимал к груди. Наши встречи на каникулах были самым большим праздником для нас обоих, мы делились мыслями и чувствами, волновавшими нас во время разлуки, обсуждали политические события, я рассказывал ему о книгах, которые прочел и привез ему.
Во время вторых моих рождественских каникул я застал дома швейную мастерскую и портного. Наш дом представлял собой старую татарскую постройку, с плетеными стенами, ушедшую в землю и состоявшую из двух комнатенок и прилепившегося к ним хлева. Стоян отгородил часть хлева стенкой из кирпича-сырца, уменьшив жилплощадь волов и коровы, и прорубил дверь и окно на улицу. На широкой кроильной доске, водруженной на табурет, кроил ткань мастер Стамо, тот самый, который сшил мне когда-то мой первый школьный костюм. Он работал тогда в соседнем гагаузском селе, но Стоян узнал, что он умеет шить городскую одежду, и повел меня к нему. Я испугался внешности Стамо и еле вытерпел, пока он снимал с меня мерку. Он был карлик, ростом не выше метра, с головой нормального человека и иссеченным морщинами лицом, а на спине и на груди у него было по громадному горбу, так что голова торчала между ними, как голова черепахи в отверстии панциря. Как он рассказывал потом, родом он был из Тулчи. Ремеслу научился у отца, известного мастера-закройщика и человека передовых взглядов. Он бунтовал против румынских властей, его бросили в тюрьму, и больше домой он не вернулся. Сестра Стамо вышла замуж в другой город, мать умерла. Стамо уехал из Тулчи, работал в разных селах и переезжал все дальше на юг, стараясь приблизиться к Болгарии. Наконец, он добрался до одного села у самой границы и стал ждать случая перебраться в Болгарию. В село тайком приходили к своим родственникам болгары, он познакомился с одним человеком, заплатил ему нужную сумму, и однажды вечером этот человек в мешке перенес его через границу.
Как положено всякому предприятию, у мастерской была вывеска, прибитая между стрехой и дверной притолокой, с текстом, который мог сочинить один Иван Шибилев. Он же и написал крупными разноцветными буквами: «А бон марше»[24]24
А бон марше – по дешевке (фр.).
[Закрыть]. Такая вывеска была на главной улице города, и там она выдавала провинциальную претенциозность, а здесь, приколоченная к татарской лачуге, утопавшей в грязи и бурьяне, она выглядела нелепой шуткой. Эта шутка, однако, выдавала честолюбие и дерзкие замыслы, переполнявшие Стояна. Мастер Стамо сшил ему новый костюм из шевиота, он выглядел и внешне и внутренне преобразившимся, восторженным и веселым, как человек, поверивший наконец, что его надежды сбудутся. Его воодушевление передавалось и мне, я радовался, что он нашел свое призвание, был счастлив, что теперь я могу любить его больше всех на свете, не испытывая при этом угрызений совести оттого, что благодаря ему я счастливее, чем он. Все каникулы я провел в мастерской, пытался помогать ему, разжигал во дворе угли в утюге, носил дрова для печки, подметал, а в остальное время читал вслух газеты, журналы и книги, привезенные из города. На улице тихо сыпал снежок или бушевала вьюга, а в мастерской было тепло, на печке булькало какое-нибудь варево, мастер Стамо, забравшись на стул, расчерчивал ткань мелом или куском домашнего мыла, а затем Стоян брал огромные тяжелые ножницы и кроил материю.
Вечером мастер Стамо оставался в мастерской и кончал какую-нибудь работу или ложился спать, а мы со Стояном шли в клуб. С основания клуба Стоян был его бессменным председателем, чувствовал себя там как дома, занимался допоздна просветительскими и финансовыми вопросами, составлял программы молодежных вечеров, распределял роли в предстоящих спектаклях. Если Ивана Шибилева в это время не было в селе, Стоян бывал и режиссером, и гримером, а также играл главные роли, чаще всего женские. Родители девушек запрещали им играть в «театрах», учительницы разъезжались на каникулы по своим родным местам, так что женские роли приходилось из пьес выкидывать. Но все выкинуть не удавалось, оставалось по крайней мере две, и тогда одну играл Стоян, другую – я. Борода у меня еще не росла, но усы пробивались, так что мне пришлось раньше времени их брить. Стоян тоже сбривал усы, и на театральный сезон мы с ним превращались в женщин. Мы репетировали наши роли, стараясь говорить женскими голосами, учились прясть на веретене, ходить, смеяться и плакать как женщины, перед спектаклем накладывали на лица помаду и пудру, надевали платья, на голову – в зависимости от роли – шляпку или платок. Я уже не помню ни имен героинь, которых я играл, ни содержания пьес («Йончовы постоялые дворы», «Хан Татар», «Сэнни бой»), но еще не забыл унизительного для моего достоинства чувства, с которым я выходил на сцену, и того усилия, которое я затрачивал, чтобы два часа говорить на сцене фальцетом, после чего у меня неделями болело горло. Еще неприятнее было то, что сельские шутники переделали наши имена в женские – Илка и Стоянка – и называли нас «сестры Кралевы». Стоян был уже взрослый мужчина, но он не считал, что женские роли задевают его мужское достоинство. «Не может быть унизительной и постыдной работа, если делаешь ее для людей, – говорил он, – сегодня нас высмеивают и попрекают, а завтра – поймут и похвалят».
Разумеется, он был прав, и все же я испытал большое облегчение, когда он женился на Кичке и мои роли перешли к ней. Кичка была из тех девушек, кого в селе называют «разбитухами» или бой-девками и кого мой брат считал «прогрессивными». Ей было всего восемнадцать лет. Маленького росточка, еще по-детски худенькая, она была, однако, энергична, сноровиста и по-женски сообразительна и практична. Еще она оказалась отличной хозяйкой и за несколько месяцев превратила старую татарскую развалюху в приветливый домик. Стоян к этому времени уже успел взять в свои руки всю просветительскую и политическую работу в селе, читал доклады о кооперативном движении, о советских колхозах, об эксплуататорском характере капиталистической экономики не хуже какого-нибудь современного лектора и пользовался репутацией ученого человека не только в нашем, но и в соседних селах. Он мог бы жениться на более богатой и более красивой девушке, но уже тогда рассматривал брак с классовых позиций и, как он признавался мне позже, у одной только Кички из всех девушек обнаружил качества, необходимые будущей подруге его жизни. Как он первым из парней надел пиджак и брюки, так и она первой из девушек стала носить городскую одежду; как к нему ходили молодые ребята, чтобы он шил им костюмы, так и к ней бегали девушки за выкройками юбок и блузок. Кичка не была красавицей, но одевалась со вкусом, носила по примеру учительниц прическу «буби» и, как они, говорила «пожалуйста», «спасибо», «извините» – слова, которым еще только предстояло войти в словарь сельской молодежи. Она закончила лишь первый класс прогимназии, но, как и мой брат, была любознательна, кое-что почитывала, любила «модничать», следила за своими манерами и среди тогдашних сельских девушек выглядела интеллигентной, кокетливой и грациозной барышней, которую посторонние принимали за учительницу или за гостью из города. Все это придавало ей известное обаяние и смягчало резкие черты ее маленького птичьего личика, которое в моменты приятного возбуждения становилось миловидным, одухотворенным и даже красивым. Трудно было осуждать ее и за то, что она относится к другим девушкам с нескрываемым превосходством, на людях – ласково-снисходительно, а за глаза даже и посмеивается над ними. Стояна ее самоуверенность не раздражала, он считал, что Кичка не отдает себе в ней отчета и что в ней проявляются положительные черты ее характера – прямота, решительность и готовность прийти другим на помощь. Он был счастлив, что связал свою жизнь с девушкой, чьи взгляды еще до женитьбы полностью совпадали с его взглядами. Кичка сама пришла к нему в дом, притом не так, как это бывает иногда – глухой ночью, а среди бела дня. Собрала в узелок свое немудрящее приданое и сказала родителям, что идет к Стояну Кралеву и станет его женой. Они ей не поверили, поскольку не могли допустить, что она без сватовства, поправ девичий стыд и достоинство, сама отдастся в руки мужчине, да еще на великий пост, да еще опередив старшую сестру. Но Кичка это сделала, смело пренебрегая тогдашними религиозными и житейскими условностями, и тем продемонстрировала, что достойна своего будущего супруга. Через несколько дней они захотели обвенчаться, но отец Энчо посоветовал им подождать, пока кончится пост. Стоян и Кичка, которые и сами знали, что венчаться во время поста не разрешается, воспользовались этим, чтобы объявить церковный брак предрассудком, и стали жить невенчанные. Такой дерзости не позволял себе никто с тех пор, как существовало село, и против молодых ополчились не только Кичкины близкие, но и все односельчане. Своим незаконным сожительством они оскверняли благословенную богом и традицией семью, подавали пример разврата, и батюшка пригрозил отлучить их от церкви. Мы втроем обдумали ситуацию и решили, что условия пока еще не благоприятствуют свободному гражданскому браку и что не следует бросать вызов общественному мнению из-за формальности, несоблюдение которой может подорвать авторитет, уже завоеванный Стояном и среди молодежи и среди старших.
Кичка очень скоро возглавила женское движение в селе, при этом первое время все сводилось к новой моде, новым танцам и к вовлечению женщин в театральную деятельность. «Боряна» – первая пьеса, в которой женские роли исполняли женщины, – прошла с большим успехом и игралась три раза. В этой пьесе Кичка дебютировала и стала в селе актрисой номер одни. Помогла этому и режиссура Ивана Шибилева. Оказалось, что во время своих частых и загадочных отлучек он работал в разных труппах в окрестных городах, и от него мы впервые услышали такие слова, как режиссура, грим, мизансцена, интерпретация, декорация, суфлер, антракт. В короткие периоды работы в разных театрах Иван позаимствовал у них и немного реквизита, грим, парики, усы и бороды, которые преобразили наших актеров так, что публика перестала их узнавать. В прежних постановках мы использовали белую и черную овечью шерсть, приклеивая ее на место бород, усов и бровей арбузной патокой, но патока размокала от жары в зале, бороды и усы отклеивались и падали, или, когда они начинали отклеиваться, актеры снимали их и засовывали в карманы. А иногда актеры, растерявшись, подбирали упавшую на пол бороду и отправлялись в маленькую комнатку за сценой, чтобы приклеить ее заново, а представление на несколько минут приостанавливалось. Актеры были несильны в грамоте и не могли учить роли по писаному тексту. На репетициях я и брат читали им роли каждому в отдельности, пока они не выучивали их наизусть, а если им случалось во время спектакля забыть какое-нибудь слово, они немели и смотрели нам в рот.
Вот почему Иван Шибилев, снабдив нас реквизитом, ввел в спектакли новое лицо – суфлера. На эту должность необходим был человек грамотный, и мы обратились к учителю Пешо. Он почему-то презирал наш театр и считал, что все эти вечера, новые танцы и моды развращают молодежь. Как большинство тогдашних учителей, он был строг и взыскателен, точно фельдфебель, и не оставлял ни одного проступка без наказания. Когда после долгих уговоров он, наконец, согласился быть суфлером, его первым и единственным условием было, чтоб его «слушались». Для него все село было школой, а все сельчане – учениками, так что и должность суфлера была для него учительской должностью. Еще при распределении ролей он заявлял актерам, что до третьей репетиции они должны выучить свои роли наизусть, не то… «последует наказание». Он столько лет был учителем, наставником и самой авторитетной в селе личностью, что никто не смел ему возражать, в том числе и мы. Все мы были его воспитанниками и помнили его гибкую кизиловую указку, от одного удара которой вспухали наши ладони. Правда, состав актеров тем временем обновился. Как и многое другое, в селе вошло в моду учение. У нас уже была одна гимназистка и четверо гимназистов, которые заменили на сцене полуграмотных парней. И вот наш театр заработал в полную силу. Из года в год увеличивалось число гимназистов, росло и число интеллигентных актеров. Очень часто мы за время каникул ставили по три пьесы, начали гастролировать и по соседним селам.