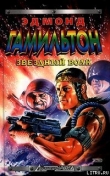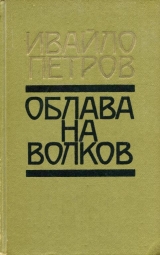
Текст книги "Облава на волков"
Автор книги: Ивайло Петров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Облава на волков
ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ СЕЙЧАС
Давно и навсегда любя Болгарию, я полагал, что, более или менее, знаю и ее и ее литературу.
Оказывается, нет, не знал. И этим немного грустным для меня, но и полезным открытием я обязан Ивайло Петрову и его роману «Облава на волков».
Конечно, любящее сердце больше всякого другого видит в той стране, которую любит. Но оно ведь и прощает больше. Как бы я ни любил Болгарию, я гость в ней. А Ивайло Петров – хозяин. Разница огромная. У себя, в России, встречаясь с иностранцами, любящими мое Отечество, начиная ругать то, что тормозит его прогресс, я часто встречал возражения своему праведному гневу: «Нет, нет, что вы, у вас такие люди, такая прекрасная страна, все хорошо…» Примерно такие чувства, чувства иностранца в Болгарии, доселе, видимо, все-таки незнакомой мне, я испытывал в начале чтения романа. Но таков талант Ивайло Петрова, таково его гражданство, такова его требовательная любовь к своей родине, что вскоре я понял: это Болгария, о которой мне говорит ее сын, он не даст ее в обиду, но и не приукрасит ее. Это Болгария, которой я не знал, но которую полюбил еще сильнее. Ибо увидел ее страдания, как свои. Причем даже и внешне эти страдания именно как свои. Я будто о России читал, когда вникал в описания коллективизации, строительства социализма, последствий революции…
После полуночи к Стояну Кралеву пришли провокаторы, воспользовавшиеся ситуацией того трудного времени, и сказали: «Революции нужна кровь, чтобы глубже войти в сознание народа». Страшные слова. Исполненные слова! И началась эра насильственного счастья, кончившаяся тем, что на все село остался один школьник – сын тракториста, да и то – приезжего. И будто о своей вятской родине я читаю вот эти строки: «На двести домов пятьдесят труб дымится, и под каждой по двое стариков свой век доживают. Из восьмисот человек около ста осталось, да и те помирают один за одним. Ни на свадьбы, ни на крестины не ходим, а все только на кладбище».
А ведь речь идет о кормильцах и поильцах страны, о тех, кто движет исторический процесс. Ведь земля – это не площадь, с которой собирают хлеб и овощи, это понятие кровное, родное. «Сказали бы мне раньше, что так можно душой к родному дому остыть, нипочем бы не поверил», – говорит отец Койчо.
Но нет вины крестьян, что вынуждены «остывать» к родному дому. Какая буря налетела на село, когда «получилось, будто половина жителей села – враги народа»? Что случилось с людьми, когда кум кума сажает в подвал, приговаривая, что скоро все будут равны? И страшно, что все беззакония творятся от имени народа. Нет, делают вывод здравомыслящие крестьяне вроде Киро Джелебова, «власть не у народа, а у таких, кто ни уха ни рыла в земле не смыслит… кабы была власть у народа, он не позволил бы над людьми измываться, да еще от его имени».
Но и не оправдывает автор людей. Он безжалостен в описании Калчо Соленого-Троцкого, его сладостных воспоминаний, как над ним издевался «гасдин филтебель». Этот «филтебель» – до сих пор его господин, до сих пор Калчо заискивает перед ним. Безжалостен автор в описаниях нравов псевдокультуры, врывающейся в жизнь. Раньше болгары и гагаузы так отплясывали топотуху два-три раза в год, что на этом месте никогда не вырастала трава. И танцы народа, и его национальная одежда, и его музыкальные инструменты – все было объявлено отсталостью и невежеством. Ворвались в жизнь «городские», суетливые, танцы, вошел граммофон, костюм. А изменение внешнего облика неизбежно привело к изменению образа жизни.
Читаешь – и будто видишь нашу коллективизацию, наши несчастия, которых не избежали и братья-болгары. «Стоян Кралев давал указания: «Втолковывай, какие у коллективного хозяйства преимущества перед частным, как помещики и кулаки эксплуатируют крестьян, а главное – как благоденствуют советские колхозники». И это мы-то благоденствовали? Двадцать – тридцать стотинок на трудодень, это те же двадцать – тридцать наших копеек на тот же трудодень. В то же самое время.
Но какова же сила пропагандистской машины, какова же степень эксплуатации человеческой веры в хорошее будущее («Пусть не мы, но наши дети хорошо поживут»), что даже внешне Стоян Кралев старается походить на Сталина. И это ему удается, и это ему партийные руководители ставят в заслугу. Но время идет, и дети не только не начинают жить лучше родителей, но становятся еще более несчастными. Разве хотел Марчо, сын Киро Джелебова, покидать Болгарию? Разве не мечтали он и его братья выучиться на специалистов? Разве такого счастья ждали Мела и Нуша, Радка и Слава? Бесчеловечная идея лишить человека всего своего, сделать его управляемым, лишить рассудка – эта идея во всей силе сработала и в Болгарии. И думаешь, переворачивая страницы: неужели социализм может прийти только путем крови и страданий? Неужели забыто правило, выработанное тысячелетиями и воплощенное в словах Достоевского: не может быть прочным здание, если в его основании хоть одна слеза невинного младенца. Боже мой! какая слеза, когда вместо пота поливались пашни кровью пахарей. И как обманно это неопределенное светлое будущее, во имя которого требуется переносить насилие и подневольный труд, унижение и рабство. Человек живет сейчас, сегодня, как стыдно должно быть обманывать его. Но что стряслось с нами, когда обманывать народ стало не только не стыдно, но доблестно, когда люди стали жить украдкой, вполголоса, когда беззаконие стало нормой, когда с человеком могли сделать что угодно.
Главное противостояние романа в столкновении Стояна Кралева и Киро Джелебова. Однако было бы слишком облегченно записать Стояна в плохие, в отрицательные, в негодяи, нет, все сложнее. Он, как и Киро – жертва исторического процесса. Но дело и еще сложнее. А исторический ли это процесс? Ведь исторический процесс согласно диалектике есть понятие прогрессивное. А здесь? И у нас и в Болгарии? Разве не происходило убивание личности под знаком уважения к ней? Разве не убивалось, не вытравлялось все национальное – одежда, культура, кухня, традиции, разве не прервалась связь времен?
Ивайло Петров борется с идеей Деветакова о том, что «смерть лишает жизнь всякого смысла». Нет, не лишает. Столько смертей в романе, и как всех жалко! Будто в театре живых картин застывают, навсегда уходя из земного бытия, те, кого мы полюбили. Но это не театр, а жизнь, и они не вернутся. И дед Мяука не вернется, и Радка, милая, безответная, доверчивая Радка не вернется. Не вернется и Кирка, зарезавшая себя, потому что была опозорена турками…
Это не театр, это жизнь. Но потрясенно думаешь: и это есть жизнь? Это жизнь, когда так над людьми издеваются сами же люди? Мучительно бьется с судьбой Киро Джелебов. В отчаянии он восстает на Бога, не способный повторить ветхозаветную историю многострадального Иова. Но, восстав, идет сатанинским путем – совершает убийство. Как он дошел до такого страшного решения? Довел Стоян Кралев? Но кто вынудил Стояна поступать так с односельчанами?
И почему смерть не лишает жизнь смысла? В данном случае, применительно к роману «Облава на волков», смерть не есть жизненный итог, она – предостережение живым. Нам.
Дойдя до этого места, я испугался вот чего: испугался, что читатели могут подумать, что роман Ивайло Петрова – роман только социальный, проблемный, политический, а от этого, перекормленные такой литературой, да еще тенденциозной, не захотят читать роман. Надо, чтоб захотели. Все это – социальность, проблемы, политика, – все есть в романе. Но все это соединено с такой высокой художественностью, с такой силой и красотой описана болгарская земля, что многие страницы не читаются глазами, а видятся внутренним зрением – так ярки картины. «Цветник утопал в осенних цветах – астрах и георгинах, алой герани и желтых ноготках, хризантемах и гвоздиках. Воздух был полон их ароматом, густым и недвижным, как многолетнее одиночество, нежное и печальное, сладостно нестерпимое и болезненно утешное…»
Несомненный талант прозаика еще и в способности держать наше внимание не только к тому событию или тому человеку, который описывается в данное время, то есть, точнее, о котором мы читаем в скользящую единицу времени, но и в удержании в памяти всего романа. Облава на волков, которой начался роман, все время отодвигается на задний план – и зачастую надолго. Но мы постоянно помним о снеге и вьюге, о том, что метель заметает следы, о том, что скоро ночь, что невеселые дела свершаются у местечка Преисподняя.
Соединение художественности и правды, серьезности и юмора делает чтение неотрывным. И трудным. Ибо настало время осмысления пройденного пути. И задумаемся вместе с автором и его героем: «Нельзя было не поразиться тем, что описанная в Библии жизнь, которая протекала тысячелетия назад, совершенно не отличается от теперешней, только названия государств и городов, имена людей теперь другие. Что там, что здесь – войны, бедность и нищета, подлость и ложь, насилие и рабство, радость и счастье. Зачем жило это человечество столько тысячелетий, если оно ничуть не изменилось, не стало лучше?»
Да, не стали лучше, с горечью признаемся мы. Но произошло то, что должно было произойти: мы задумались над тем, почему мы не становимся лучше?
Роман перед вами.
Владимир Крупин
ОБЛАВА НА ВОЛКОВ
Роман
Софии, моей маленькой дочери, которая уже умеет говорить «папа».
К тому времени, к которому относится начало моего рассказа, процесс так называемой промышленной миграции успешно завершился, и в моем селе остались доживать свой век лишь старики да пожилые. Самым молодым перевалило за пятьдесят, так что и процесс деторождения тоже можно было считать успешно себя исчерпавшим. За семь лет в селе родился один ребенок, у тракториста, да и сам тракторист был пришлый, не из нашего села. Осенью мальчик пошел в школу, на центральную усадьбу, куда его подвозил автобус тамошнего ТКЗХ[1]1
ТКЗХ – трудовое кооперативное земледельческое хозяйство (здесь и далее примечания переводчика).
[Закрыть], забиравший по утрам детей еще из двух соседних сел. Однако с тех пор как ударили морозы, автобус за мальчиком больше не заходил, потому что шоссе к центральной усадьбе еще не проложили, а проселочная дорога, заметенная снегом и прихваченная гололедом, была непригодна для транспорта. По этой самой причине и я вот уже десять дней не мог выбраться из села.
О положении, в которое попал сынишка тракториста, судило и рядило все село, и когда в воскресенье утром я пошел в «оремаг» (наверное, вы помните, что в свое время в наших селах учредили такие многообещающие богоугодные заведения – гибрид о-теля, ре-сторана и магазина, – которые как были, так и остались обыкновенными корчмами), мужики продолжали его обсуждать. Мне рассказывали о мальчике уже бог знает сколько раз, но и теперь мне пришлось выслушать всю историю с начала до конца и, разумеется, вынести свое суждение. Я сказал то, что все говорили уже целый месяц, а именно, что школьное начальство на центральной усадьбе, с одной стороны, виновато в том, что не посылает автобуса, а с другой стороны, не виновато, потому что автобус при таких раскатах ходить не может.
– Я понимаю, не так все просто, – запальчиво говорил тракторист, – но от этого не легче. Мальчик должен учиться, я хочу его в люди вывести, и весь сказ!
А в корчме в это время началось «причащение» – опробование домашних вин, на которое я, собственно, и был приглашен. К концу декабря вина отстаиваются, и наши мужички имели обыкновение приносить в корчму по бутылке, чтоб услышать мнение других о своем «домашнем производстве». Трендо Мангыр проворно расставил стаканы и с профессиональной сноровкой разлил всем поровну первую бутылку. Сколько я его помнил, он был корчмарем и корчмарем оставался, несмотря на все превратности истории. В годы организации кооперативных хозяйств началась было борьба за трезвость, корчмы стали закрывать и попытались приспособить Трендо к другой работе, но он как-то открутился и на несколько лет исчез из села. Перебрался в другое село, потом в город и открыл там корчму напротив городской бойни. Забойщики, все до одного горлопаны и горькие пьяницы, были, по его словам, лучшими и самыми постоянными его клиентами. Было их семеро, и приходили они спозаранку, еще затемно. Опрокидывали, не присаживаясь, по одному-два шкалика и исторгали рык: «Э-эх, черт подери, так душу и обжигает!» Мангыр с вечера наливал в шкалики воду, чтоб отбить запах, а утром наполнял их ракией[2]2
Ракия – плодовая водка, изготовляется чаще всего из винограда или слив.
[Закрыть] и ставил рядком на стойку, экономя время клиентов. Однажды утром он подзадержался в подсобке, а когда вернулся, смотрит – забойщики у стойки опрокидывают шкалики с чистой водицей, мотают головой и нахваливают ракию: «Ну и забористую ты сегодня налил!» С тех пор, по утверждению Мангыра, он ни разу не наливал им ракии, и они за целый год ни разу не расчухали, что пьют воду.
Рассказывая об этом случае из своей корчмарской практики, Трендо Мангыр между тем первым отпил вина и провозгласил:
– Ай да Калчо, вино у тебя первый класс – экстра!
Остальные встретили эту оценку равнодушно, поскольку знали, что многолетнее употребление алкоголя давно отбило у корчмаря вкус к напиткам, так же, как у забойщиков, о которых он только что рассказывал. Все повернулись к Стояну Кралеву Кралешвили, слывшему среди них лучшим дегустатором. Он поднес стакан ко рту, сделал большой глоток и остановил взгляд на лозунге, сочиненном, вероятно, корчмарем и выписанном каллиграфическим почерком Ивана Шибилева Мастака: «Социализм и алкоголь грызутся как кошка с собакой, но живут под одной крышей». Остальные уставились на Стояна и молча смотрели, как он прищурился и застыл, словно свершая священнодействие. Квадратик его коротко подстриженных седых усов дрогнул и зашевелился, дрогнул и кадык, показывая, что вино уже омыло нёбо. Он открыл глаза, причмокнул и наконец произнес приговор:
– Пей на здоровье, гляди телевизор! Три сорта чую – местный, мускат и малость памида. Словно три пряди в веревке ссучены…
– Верно угадал! – отозвался польщенный Калчо. – И памид учуял.
Другие тоже отпили вина – кто жадно, кто с приличествующим случаю достолепием – и единодушно подтвердили авторитетную оценку Стояна Кралева. Потом опробовали вина Николина Миялкова Рогача и Киро Джелебова Матьтвоюзаногу, и они тоже удостоились высокой оценки. Тем временем вы, вероятно, заметили, что у всех наших героев есть прозвища, к тому же не слишком лестные, но не будем спешить – о том, почему и при каких обстоятельствах кто получил прозвище, будет рассказано в свое время. Пока отмечу лишь, что в селе было несколько острословов, чье призвание придумывать прозвища передавалось по наследству от отца к сыну, так что без прозвища у нас не осталось ни одного человека, а кое у кого прозвищ было и по два и по три, так сказать, на все случаи жизни. Клички хозяев переходили и на животных, так что если слышался лай собаки или мычание коровы, все говорили: «Петко Башковитый лает» или «Добри Косой мычит». Самих острословов отнюдь не связывала коллегиальная солидарность – наоборот, терзаемые творческой ревностью, они были так беспощадны один к другому, что некоторые из их прозвищ можно было пускать в ход только в тесном кругу, а те, что предназначались для широкого употребления и произносились без стеснения, звучали так: Янко Убойник, Ганчо Писуха, Георгий Пукало, Иван Сопля и пр.
Так вот, в селе нашем лишь человек двадцать держали виноградники, поэтому ни для кого не было тайной, у кого какая лоза, кто сколько собрал и какой составил букет, но в публичном снятии проб крылось неотразимое обаяние взаимного великодушия. Каждому было приятно ополоснуть нёбо глотком чужого вина, произнести благословение и получить его от других. После торжественного обряда дегустации всем предстояло пить уже дома – «глядеть телевизор», как сказал Стоян Кралев, но это значило не сидеть у телевизора, а пить из миски или плоской чашки. Телевизор – правда, один – в селе уже был, все мужики успели с этой штукой познакомиться и обратили, между прочим, внимание на то, что в мисках с вином, когда их подносят ко рту, физиономии отражаются так же, как проступают лица на экране телевизора.
Время от времени слышалось, как за дверью кто-то топает ногами, сбивая снег, входил человек в тулупе или полушубке, и вместе с ним врывалось облако мелких, твердых снежинок, засыпавших пол корчмы, точно песком, до самой середины. Вошедший, перешагнув порог, еще раз топал, стряхивая снег, и, если приносил вино на пробу, ставил его на стол и садился. Служившая печью огромная железная бочка, потемневшая и заросшая грязью, точно брюхо буйвола, трещала и пыхтела, накаляясь до красноты, воздух вокруг нее дрожал, точно летнее марево, а от запаха молодого вина и мокрой овчины все помещение сладостно колыхалось. Фантастические рисунки на стекле ближайшего окна превращались в мутную влагу, кто-то вытирал рукавом нижнее стекло, и тогда становилось видно, как у самого окна гнутся ветви дерева, черные, как уголь, сиротливые и печальные; виднелись и призрачные очертания ближних домов, заштрихованных белой сетью снежинок, за ними уходил в небо, точно кабалистический знак, журавль старого колодца, и все вокруг, растворяясь в серо-белой мгле, наводило на мысль о чем-то колдовском и загадочном. Настроение в корчме тоже было каким-то необычным. Мужики уже целый час отпивали по глотку, на щеках выступил легкий румянец, но голоса никто не повышал, а все с ритуальной торжественностью тихо и чинно беседовали о тонкостях винодельческого искусства. Самый молодой из сидящих в корчме, тракторист, который все время ждал удобного момента, чтобы снова и снова вклиниться с нерешенным вопросом о своем сынишке, осторожно поставил выпитый стакан на стол и произнес, как заклинание:
– Приехал я сюда за тридевять земель, чтоб заработать и чтоб мальчонку на ноги поставить. А что же получается? Говорят, снимай ему комнату, но как же это ребенку семилетнему комнату снимать? Придется нам с женой отсюда уезжать. Уеду, и больше никаких. Как погода позволит, так и наймусь в другое село, где школа есть. Один у меня сын, хочу его в люди вывести…
– Мы их в человеки выводим, а от них потом ни слуху ни духу, – сказал дед Ради по прозвищу Подтянипортки. – Во всем селе молодого не сыщешь. Прошлым летом приехал мой старшой, с женой вместе. Три года не виделись ни с ними, ни с внуками. Сын когда-никогда хоть напишет, а эта-то, сноха, и знать нас не желает. Ракию хлещет и дымит, как труба, чистая прости господи. А рот откроет – хоть святых выноси. Мы со старухой думаем, ну вот, все ж вспомнили про нас, а они, слово за слово, к тому клонят, чтоб я полдвора продал, а денежки – им. Дачный участок, вишь, купить хотят. Раньше я им три тыщи на машину отвалил, а теперь они с дачей ко мне подбираются. Нет уж, говорю, дураков нет. И брату твоему, говорю, ни шиша не дам, пока жив, потому как и он сколько лет глаз не кажет. Без нас, говорю, вы женитесь, без нас рожаете и крестите, без нас и дачи стройте. Ты, говорят, о нас не думаешь, ты уже в годах, а у нас вся жизнь впереди. То-то и оно, говорю, что в годах, мне и нужно, чтоб у меня и дом был, и двор, и деньги про черный день, не то и воды никто не подаст, когда с постели вставать перестану. Так и отправил их с одним мешком картошки.
– Пангаровы отца хоронить не приехали, – подал голос кто-то другой. – Двое сыновей и две дочери, и ни один горсти земли на гроб не бросил. Тот телеграмму поздно получил, этот в командировке был… А когда надо было делить дом и двор, все сразу заявились. Разругались насмерть, пока последнюю черепицу не поделили…
Метель ударила по стеклам, засыпая их снегом, печные трубы взвыли зловеще, точно сирена, а печка с буйволиным брюхом подавилась, закашлялась, выбросила сноп огня и словно приподнялась над полом. Пришел черед пробовать вино Жендо Иванова Разбойника. Корчмарь вытащил из бутылки кукурузную кочерыжку и начал было разливать, но в это время дверь, распахнувшись, с силой ударилась о стену. В белой струе метели появилась рыжая, точно пламя, собака и стала на трех лапах посреди корчмы. Все уставились на нее, будто в корчму ворвался злой дух, воплотившийся в эту рыжую хромую собаку. Она поворачивала голову, обводя то левым, то правым глазом мужиков, словно выискивая, кому бы что-то сказать или кого бы пометить черным знаком беды. Никто не смел шевельнуться, чтобы не привлечь ее внимания.
– Ананий Безносый! – воскликнул корчмарь. Он был соседом Анания и каждый день видел пса у того во дворе. – Не кормит его, вот он и бродит, проклятущий. Пшел, Ананий, пшел!
Корчмарь замахнулся на собаку и нечаянно сбросил со стола на пол один стакан. Собака, видно сообразив, что ее приход неприятен людям в корчме, выскочила и исчезла в кружении снега. Суеверные старики увидели в ее появлении дурной знак. Собаки предсказывают землетрясения, резкое ухудшение погоды и смерть. Ананий живет один как сыч, не дай бог случись с ним что, никто и не узнает. Однако Стоян Кралев сказал, что всего час назад видел, как Ананий идет с коромыслом от чешмы[3]3
Чешма – источник, выведенный в трубу и обычно облицованный камнем.
[Закрыть]. То же подтвердили и другие, и дегустация продолжалась. Жендо Иванов Разбойник, чьи вина были на очереди, стащил с головы кепку и зажал ее под мышкой. Виноградником он обзавелся недавно, вино делал первый раз и потому в ожидании оценки напрягся, как на экзамене. Оказалось, что из стакана, который уронил корчмарь, пил Калчо Соленый. Корчмарь поискал было еще стакан, но не нашел и налил ему вино в бутылочку из-под лимонада. Первым отпить вино и произнести благословение была теперь очередь Калчо Соленого; он взялся за бутылочку, но не донес ее до рта. Пальцы его, отдернувшись от бутылочки, сдвинули головы, точно пять сказочных человечков, вступивших в какой-то заговор или решавших, что делать дальше. Мужики за столом примолкли, не отводя глаз от человечков, словно пытаясь услышать, о чем они шепчутся, и угадать их намерения. Не могу сказать, сколько времени это продолжалось, но, вероятно, довольно долго, потому что мне стало неловко и тягостно. Но и я, как все, не смел шевельнуться, чтобы не нарушить, как мне показалось, какой-то их ритуал. Я позволил себе только обвести их взглядом и заметил, что высокий, с залысинами, лоб Жендо побелел, а глаза Калчо Соленого подернулись влагой. Видимо, возбужденный всей церемонией, он не выдержал напряжения, становившегося все более мучительным, закрыл глаза ладонями, и из его уст вырвалось дикое, душераздирающее стенание:
– М-ма-а-ах!
Корчма утихла, за соседними столиками мужики поставили стаканы и обернулись к столу Калчо Соленого. Несколько секунд прошло в тяжелом молчании. Лицо Жендо из белого стало лилово-красным, он вытер кепкой потное темя и снова зажал ее под мышкой. Руки его дрожали, он принялся тереть их одна об другую. И тогда Иван Шибилев вдруг вскочил, словно вспомнив что-то важное и веселое, отпил глоток вина и сказал, улыбаясь:
– Эй, люди! Я ведь пришел сказать вам о волках, и вот поди ж ты – вино меня с панталыку сбило. Вы знаете, что в наших угодьях появилось три волка? Нынче утром Керан-пастух приходил ко мне домой, просил ружье. С десяток овец, говорит, задрали, а ружей-то у нас нет, вот и не можем от них избавиться. От одной кошары отгоним, они на другую налетают. В селе, говорит, вон вас сколько, охотников, вы б их мигом перестреляли. Следы их к Карьеру ведут, днем они там прячутся. Я ему ружья не дал, потому что решил – мы и впрямь за день с ними справимся. Пошли? Устроим облаву.
Как мы увидим в дальнейшем, Иван Шибилев, по прозвищу Мастак, всегда отличался немалыми чудачествами, поэтому его предложение отправиться в самую метель в лес на волков не столько удивило, сколько рассмешило тех посетителей корчмы, что не были охотниками. А он заговорил об облаве с веселым воодушевлением, как человек, которому пришла в голову мысль, неожиданная и для него самого, и это было вполне в его характере. Самое странное, что за столом оказались и остальные пять членов местной организации охотников, и все они, словно успели предварительно сговориться, повскакали и двинулись по домам за ружьями. Когда они уже вышли из корчмы, Иван Шибилев попытался было отвертеться, сказал, что метель разыгралась и лучше бы отложить облаву на завтра, но остальные пятеро заявили, что откладывать ни в коем случае нельзя, и даже упрекнули Ивана – поздно, мол, идти на попятную. Договорившись встретиться через полчаса у его калитки, охотники разошлись по домам за ружьями.
Зайдя в дом, Иван Шибилев увидел на печи кастрюлю и почувствовал, что голоден. Он снял полушубок, выложил еду на тарелку и сел обедать. Он был уверен, что никто за ним не придет, и, наевшись, прилег. Но вот с улицы послышались крики и свист, затем кто-то постучал в окно. Иван вскочил с постели, приоткрыл дверь и увидел, что охотники, с ружьями за плечами, стоят во дворе. «С ума сошли», – подумал он, но делать было нечего, он надел полушубок и снял со стены ружье. На охоту он давно не ходил, поискал на привычном месте патронташ, но не нашел и вышел без патронов.
– Ну, веди! – сказал кто-то.
– Что ж, пошли! – с улыбкой ответил Иван Шибилев, показывая, что готов поддерживать розыгрыш до конца.
Он видел, что охотники еще пребывают в приятном расположении духа после дегустации новых вин, и предположил, что они решили ответить шуткой на его многочисленные былые шутки. В то же время он был доволен, что они подхватили его затею с облавой, показав тем самым, что и они, так же как он, предугадали назревавшее столкновение между Калчо Соленым и Жендо и, чтобы его предотвратить, не колеблясь покинули корчму. Иван не сомневался в их намерениях, потому что совсем недавно сказал им, что волчьи следы ведут к Карьеру, а они шли к лесу; к тому же все понимали, что в такую метель следов все равно не найти. Поэтому он ждал, что, как только они выйдут за околицу, все рассмеются и объявят, что облава окончена. Подумал он также, что остальные, быть может, сговорились по дороге отставать по одному и возвращаться домой, а его заставить шагать одного до самого леса. Ему даже показалось, что он слышит только собственные шаги, он остановился будто для того, чтобы подтянуть завязки на постолах, и посмотрел назад. Все шли за ним цепочкой, и никто не выказывал намерения остановиться или вернуться. Он перевернул ружье стволами вниз, повесил его на плечо и зашагал дальше. До леса было полчаса ходьбы, и за это время никто не сказал ни слова. Иван Шибилев торил тропу и слышал хруст собственных шагов, время от времени ему снова начинало казаться, что остальные отстали, и он снова находил повод, чтобы обернуться.
Так они дошли до Кизильника, единственной рощи на землях села. Когда-то это была большая дубовая роща с зарослями кизила в той ее части, что обращена к селу. Мало-помалу ее выкорчевали, освобождая землю для малоземельных и переселенцев, – сначала кизильник, а потом и половину дубравы. По самой середине рощи пролегал обширный лог с крутыми склонами, открывающийся на юг и известный под страшным именем Преисподней. Так назвал его много лет назад один набожный человек из соседней деревни, который ходил на службу в нашу церковь. Человек этот в самые холода оказался глухой ночью посреди лога, а когда выбрался оттуда, полуживой от страха, сказал нашим: «В Преисподней побывал».
В сущности, Преисподняя была райским местечком, склоны лога поросли дубняком, а по дну его струился тоненький, в палец толщиной, родник. Весной, летом и осенью там было всегда безветренно и тепло, там расцветали первые подснежники и крокусы, там же поспевала первая земляника, там праздновали Первое мая, Георгиев день и Пасху, там паслась и скотина, пока с полей не убирали урожай.
Иван Шибилев зашел в лес шагов на сто и остановился под огромным дубом.
– И как это мы вышли прямо к нашему дубу?
– Глядите, верно! – отозвались голоса.
Промолчав всю дорогу от села, сейчас охотники оживились, словно увидели в дубе некое знамение. Все заговорили возбужденно и невнятно, потому что посиневшие губы их свело от холода. Иван Шибилев не узнал своих односельчан, лица их, с заиндевевшими усами и бровями, показались ему пугающе безобразными, он посмотрел на лесную чащу и попытался улыбнуться.
– Ну, что дальше?
– Как что? Бросай жребий!
Иван Шибилев, как-то механически подчиняясь последнему голосу, притоптал возле себя снег, вынул спички и объяснил, какая сторона коробки означает загонщика и какая – стрелка. Ближе всего к нему стоял Николин Миялков, и он кинул на него первого – стрелок. То же выпало Киро Джелебову и Калчо Соленому, а троим другим досталось быть загонщиками.
– Я иду в засаду, – сказал Киро Джелебов и первым вошел в чащу.