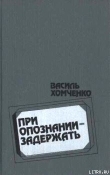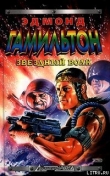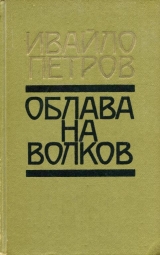
Текст книги "Облава на волков"
Автор книги: Ивайло Петров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
В «Сплендиде» часто показывали и «запретные», чаще всего любовные фильмы, которые до такой степени возбуждали воображение гимназистов, что те только о них и говорили и без конца строили планы, как бы им пробраться в зал. Во время сеансов у входа церберами стояли учителя, один из мужской, другой из женской гимназии, и, взяв себе в помощь учеников старших классов, вылавливали тех гимназистов, которых могли узнать. Тем не менее самые смелые и изобретательные гимназисты все же проникали в зал, и слава этих счастливцев гремела по всей гимназии. Один будто бы вошел в зал в офицерском мундире своего брата, другой подкупил киномеханика и смотрел фильм из его будки, третий преспокойно прошел мимо контроля в женском платье. Воспаленное воображение подростков творило легенды о смельчаках, умеющих проходить под носом у церберов. Никто не знал этих счастливцев, но то, что им удавалось увидеть в запретных фильмах, было известно во всех подробностях.
Иван ходил в кино почти каждый вечер, не считаясь с так называемым гимназическим часом и не испытывая ни малейших угрызений оттого, что нарушал устав гимназии. В середине второго полугодия счастье изменило ему, его задержали, когда он выходил из «Сплендида» после гимназического часа, и снизили отметку по поведению. Классный наставник вызвал его и попытался внушить, что в гимназии, как и во всяком учреждении, существуют годами сложившиеся порядок и дисциплина, которые никто не волен нарушать. Наставник испытывал к нему особую симпатию, как, впрочем, и все остальные учителя, и дал ему понять, что если тот обещает впредь строго соблюдать гимназические правила, то он уговорит директора отменить взыскание. Иван, однако, ответил, что не понимает, почему его обвиняют в нарушении гимназических правил, коль скоро он занялся удовлетворением своих духовных потребностей после того, как приготовил все уроки. Классному наставнику стало ясно, что без наказания одного из лучших учеников ему не обойтись, – надо, чтобы мальчишку «прошибло» и он не давал больше учителю повода заниматься этим неприятным делом.
Ивана, однако, наказание не «прошибло». Он мог, к примеру, совершенно спокойно переделать по своему вкусу монограмму гимназии, выгравированную на пряжке пояса. Он нарисовал собственный проект монограммы и отдал отлить ее в ближнюю мастерскую, при этом не из золотой, а из серебряной бронзы, поскольку полагал, что этот цвет больше подходит к цвету его мундира. По этой же причине он вольно обошелся и с фуражкой и с мундиром. Из фуражки он вытащил пружину, смял верх, выгнул правый край козырька, чтоб он выглядел более «шикарно», а на воротник мундира нашил голубой бархат. Руки его инстинктивно тянулись к одежде и прочим предметам, его окружавшим, и переделывали их по своему вкусу. Не выносил он и гимназического номера на левом рукаве. Он ненавидел его не из суетности и не потому, что он помогал уличать его в нарушении гимназического устава (как мы уже видели, он с ним не считался, поскольку не понимал его смысла), а потому что воспринимал его как насмешку над своей личностью. Он полагал, что он Иван Шибилев – ученик четвертого класса «а», а не цифра 219, изображенная на круглой картонке, обтянутой материей и пришитой к его рукаву. «Эй ты, номер 219, смени ногу, весь строй сбиваешь! – крикнул ему учитель гимнастики, который тренировал классы, готовя их к маршировке перед разными празднествами. – 219, тебе говорю!» – запыхавшийся учитель подбежал и тряхнул его за плечо, и только тогда Иван понял, что команда относится к нему. Это произошло в начале его гимназических занятий, и он тогда же спорол номер с рукава. Носил он его в кармане и только по утрам, перед тем как войти в класс, прикалывал к рукаву английской булавкой.
Увлечение кино длилось целый год и было так сильно, что на каникулы ему не хотелось уезжать в село, чтобы не пропустить ни одного фильма. Как только на экране появлялись первые кадры, он впадал в транс и переносился в сказочный мир, какой ему не случалось видеть даже во сне. Из кинематографа он выходил околдованный и долго носил в себе этот мир, видел героев фильма, слышал, как они говорят и дышат, ощущал их близость. И сам он словно бы жил другой, неведомой жизнью, удивляясь и умиляясь поступкам своих героев: он становился то матросом, переживающим кораблекрушение, то азартным игроком, который проигрывает в рулетку все свое состояние, то судьей, то преступником, то солдатом…
В начале второго учебного года он познакомился с художником Асеном Момовым. Он зашел в фотографию «Астра» на главной улице, чтобы сфотографироваться, и там на стенах салона, среди рекламных снимков, увидел и морские пейзажи. Видимо, еще никто из клиентов не разглядывал его картины с таким интересом, и художник тотчас это заметил. Заметил он и то почтение, с каким слушал его гимназист, когда он заговорил с ним о своих картинах, а потом узнал, что и тот «балуется кистью». Он пригласил его домой, чтоб показать ему и другие картины, и Иван явился точно в назначенный день и час. Момов держал фотографию на паях со своим отцом, а в свободное время писал прибрежные скалы с разбивающимися о них вспененными бурунами или тихое море с рыбачьими лодками. Очень редко, и только по заказу, писал он и натюрморты с фруктами в плетеных корзинках или букеты осенних цветов на столах под пестрыми скатертями. Работал он масляными красками, а чаще гуашью на небольших кусках картона и ходил по всем сколько-нибудь солидным учреждениям и магазинам, предлагая свое искусство. Очень редко, раза два-три в год, ему удавалось продать картину кому-нибудь из торговцев, притом не за деньги, а в обмен на товар – отрез материи на костюм, пару обуви или рубашку.
В городе было еще несколько художников, соперничество которых выражалось в полном презрении друг к другу, поэтому неудивительно, что как только Момов увидел в лице подростка своего восторженного поклонника, он в свою очередь посмотрел его рисунки, одобрил их и взял Ивана под свое покровительство. Иван Шибилев воспылал к живописи той же страстью, что к кино и поэзии, и осенью вернулся из села с целой кучей рисунков и картин. Все лето он с каким-то отчаянным вдохновением рисовал все, что попадалось ему на глаза: людей, дома, животных, жатву, молотьбу. В гимназии в это время появился новый учитель рисования, молодой человек с новыми взглядами на искусство и сам талантливый художник. Он пришел в восторг от пейзажей и особенно от портретов, выполненных Иваном, утверждая, что тот видит лица «не физическими, а духовными глазами». К концу года классный наставник Ивана Шибилева, он же учитель литературы, и преподаватель рисования объявили Ивана вундеркиндом с разносторонними дарованиями. По всем предметам Иван получил отличные отметки, а кроме того, нарисовал портреты своих одноклассников и учителей. Портреты он выполнял маслом, гуашью и карандашом, в зависимости от погоды и места, где наблюдал свои модели. В то же время в журнале «Болгарская речь» был напечатан цикл его стихов. Учителя литературы и рисования устроили в вестибюле гимназии его выставку, и на ней побывало множество гимназистов и прочих жителей города.
Вскоре после этих дней всеобщего восхищения его успехами в поэзии и живописи Ивану Шибилеву было суждено с непреодолимой силой увлечься еще и театром. Младший брат его квартирохозяина был рабочим сцены. Как большинство работающих в театре, он был убежден, что в нем погиб актер, и он «посвятил свою жизнь» сцене с такой безоглядностью, на какую сами актеры, быть может, и не способны. Его братья, один из них ушедший на пенсию учитель истории (хозяин Ивана), другой – чиновник в налоговом управлении, стеснялись его одержимости, из-за которой он отказался от нормальной карьеры, и смотрели на него как на душевнобольного. Однако все члены обоих семейств, особенно дети, любили его и радовались его приходам. Он создавал в доме праздничное настроение, умел «строить рожи» и показывать фокусы, искусно подражал людям и животным, так что, глядя на него, все покатывались со смеху. Звали его Георгий, но и взрослые и дети называли его дядя Жорко, а за глаза и дядя Зайка, потому что верхняя губа у него была рассечена, как у зайца. При первой же встрече Иван открыл в нем родную душу, а дядя Жорко, оценив его способности, стал бесплатно водить его в театр. Он познакомил его с билетершами, те ставили ему в конце балкона первого яруса дополнительный стул, и оттуда, никем не тревожимый, весь обратившись в слух и зрение, он пересмотрел весь репертуар театра.
Однажды дядя Жорко попросил его в течение нескольких часов помочь ему, поскольку один его коллега не вышел на работу. Иван проторчал в театре до самого спектакля и с тех пор стал его добровольным помощником, сначала в выходные дни, а потом и в будни, после гимназии. Помогать, в сущности, было нечего, дядя Жорко и остальные рабочие справлялись и без него, но он всякий раз торчал в театре до конца представления. Он обходил каждый уголок сцены, наблюдал, как устанавливают декорации, а иногда ему удавалось заглянуть и в гримерные, где актеры готовились к спектаклям. Интереснее всего ему было на репетициях. Присутствовать на них посторонним было строго-настрого запрещено, но дядя Жорко успешно прятал его в темных уголках за декорациями, а в случае чего выдавал за племянника. Так Иван получил возможность слушать и смотреть на то, что происходило на сцене. Сначала артисты читали свои роли, и дядя Жорко объяснял ему, что это репетиция за столом. Потом актеры говорили свои роли уже наизусть и разучивали мизансцены (как объяснял дядя Жорко), много раз прерывали игру, рабочие вносили на сцену все больше декораций, артисты надевали костюмы, режиссер следил за их игрой снизу, из зрительного зала, и оттуда делал им замечания, иногда выбегал на сцену, что-то показывал и снова возвращался на свое место. От репетиции к репетиции пьеса из отдельных слов и движений превращалась в очередную историю из жизни людей, веселую или грустную, но всегда волнующую до обморока. Пиком, вершиной всего бывала премьера. За несколько дней до нее всех в театре, начиная с вахтера и рабочих сцены и кончая режиссером, начинало трясти, репетировали уже по два раза в день, а отдельные сцены – и по три, режиссер носился из зала на сцену и обратно, переставлял декорации, менял костюмы, призывал соблюдать тишину. Иван, как и все, жил в предпремьерном напряжении, потому что он знал наизусть все роли и чувствовал себя участником спектакля.
И вот, наконец, премьера. Партер и балконы постепенно заполнялись людьми, и Иван, наблюдавший сквозь щелку в занавесе, видел, что здесь, в зале театра, они кажутся совсем другими, словно они оставили за порогом театра все свои будничные заботы; не только в их праздничных туалетах, но и в выражении их лиц читались торжественность и благородство, мягкость и вежливость, которых он обычно у них не замечал. Преображенные золотистым барокко театрального зала и светом люстры, они чинно сидели на мягких бархатных стульях, перешептывались и с нетерпением ждали, когда поднимется занавес. Иван знал по себе, что для них все, происходящее за занавесом, – тайна, в которую им никогда не проникнуть, и напрасно только они напрягают свое воображение, как и он до недавнего времени напрягал свое. Никто из сотен зрителей не мог, к примеру, догадаться, что по ту сторону загадочного занавеса не царит полный покой, как это кажется зрительному залу, а, наоборот, все в крайнем напряжении, доделываются всяческие недоделки, рабочие сцены носятся, стараясь не топать, режиссер дает последние советы, актеры ждут поднятия занавеса сосредоточенные и собранные, как будто им предстоит опасное для жизни испытание.
Но вот лампы в зале гаснут одна за другой, шум постепенно стихает, верхняя часть занавеса раздвигается и две его половины скользят к краям сцены. За рампой сгущается синеватый сумрак, и в нем, отражая сияние сцены, светлеют сотни пятен – человеческих лиц. Скоро эти лица застывают, а потом зрители начинают смеяться или плакать, словно то, что делается на сцене, происходит с ними самими. Действие за действием, и спектакль незаметно подходит к концу. Аплодисменты и возгласы одобрения сотрясают зал, на сцену, взявшись за руки, выходят актеры, улыбающиеся, еще не остывшие от возбуждения, они кланяются публике, скрываются за кулисами, а потом снова и снова выходят на вызовы. После этих минут восторженных аплодисментов, после того, как публика одаривала актеров славой, Иван думал о том, что кино, рисование, поэзия, гимназические науки – всего лишь мимолетные увлечения на его пути к сцене, и давал себе обет посвятить свою жизнь театру. И в то время как учителя, одноклассники и знакомые говорили ему о том, сколь щедро одарила его природа, и превозносили его как будущего знаменитого поэта и художника, его чувства и мысли уже были устремлены к одной лишь сцене. Предстояли одна за другой премьеры «Скупого», «Мастеров» и «Госпожи министерши», в которых должны были гастролировать Крыстю Сарафов, Елена Снежина, Владимир Трендафилов и другие столичные светила. В артистических кругах города едва ли можно было найти кого-то еще, кто с таким нетерпением ждал бы этих премьер, как ждали их дядя Жорко и Иван. Дядя Жорко сутками не вылезал из театра, спал по нескольку часов на продавленной кушетке, а остальное время работал, чтобы в будущих спектаклях все шло без сучка и задоринки. Иван ходил в театр каждый вечер, а частенько и днем, в качестве «своего человека» смотрел репетиции. Дядя Жорко успел к тому времени показать в театре публикации его стихов в «Болгарской речи» и местной газете «Литературни новини», кое-кто побывал в гимназии на его выставке, так что почти все актеры знали его и относились к нему благосклонно.
Подошел конец третьего учебного года. Иван мог кончить его на отлично, потому что все предметы давались ему одинаково легко, если б эти предметы не перестали его интересовать. Все, что говорили преподаватели, навевало на него скуку, особенно же неприятно было ему отвечать на уроках. Процедуру эту он воспринимал как какой-то допрос, терроризирующий его дух и превращающий его самого в марионетку. Он стал все чаще получать плохие отметки, и учителя с нескрываемым сожалением отмечали, что он учится все хуже и хуже и даже не пытается вернуть себе свои достижения. «Столько людей, – думал он, – не знают, какой высоты Монблан, каков химический состав воды, или не умеют пользоваться таблицей логарифмов, и что же? Разве они темные, пропащие люди, которые не приносят пользы ни себе, пи обществу, как нам проповедуют в школе? Интересно, могут ли Сарафов или Снежина вычислить объем цилиндра, а если не могут, как же они стали чародеями сцены?»
С помощью подобных софизмов он оправдывал свою капитуляцию перед наукой, как и свое очередное увлечение. Когда-нибудь музы могли преобразиться в эриний и отомстить ему за его духовное многоженство, превратив его дарования в тяжкое проклятье, но пока он был полон таких чистых вожделений, что и не думал о такой опасности – напротив, был уверен, что до конца своих дней будет служить им всем с одинаковой преданностью и любовью. Виноватым он чувствовал себя только перед матерью, неграмотной женщиной, которая и замуж-то во второй раз вышла для того, чтобы сохранить хозяйство и дать ему возможность учиться. Как и каждое лето, она перебралась теперь в их старый дом, чтобы провести несколько месяцев с ним, но он прожил дома два дня, а на третий вернулся в город. Матери он сказал, что его к этому обязали в гимназии, мать дала ему денег и проводила в дорогу.
В начале июля один местный режиссер, Янакиев, собрал труппу из десятка актеров и предпринял турне по селам области, показывая «Под игом» и «Боряну»[16]16
«Под игом» – в данном случае инсценировка одноименного романа классика болгарской литературы Ивана Вазова (1850—1921); «Боряна» – классическая пьеса Йордана Йовкова (1880—1937).
[Закрыть]. Кое-где уже начинали убирать ячмень, но люди, до тех пор не видавшие театра, по вечерам заполняли «залы». В большей части сел актеров кормили бесплатно, и вечно голодная актерская братия пила и ела до отвала, откладывая деньжата на летние отпуска. У Янакиева был приятель, полковник местного гарнизона и страстный любитель театра, который отдал в его распоряжение четырехтонный грузовик с брезентовым верхом, так что перевозка вещей и реквизита осуществлялась легко и быстро. Иван и дядя Жорко, исполнявший также обязанности квартирьера, приезжали в село на день раньше труппы, обеспечивали актерам квартиры и готовили сцену в клубе, в школе, а иной раз и в каком-нибудь сарае.
В одном таком принадлежавшем общине заброшенном амбаре Иван Шибилев впервые вышел на подмостки. Актер, игравший в «Боряне» роль Павла, на второй же день турне, напившись до бесчувствия, сломал ногу, и его пришлось отправить в город. Янакиев, не колеблясь, отдал роль Ивану, поскольку был уверен, что тот отлично с ней справится. Он уже знал, как этот юноша предан театру – недаром тот бесплатно трудился для труппы, – а постепенно обнаруживал и другие его дарования. У Ивана была исключительная память, он знал наизусть почти весь репертуар театра, отлично владел искусством имитации, писал стихи и прекрасно их читал, рисовал портреты актеров труппы, играл на скрипке и на всех народных инструментах, а кроме того, обладал и самым ценным для актера качеством – сценическим обаянием. Он был немного выше среднего роста, кареглазый, с мягким голосом и очень приятной, подвижной физиономией, отражавшей его веселый, общительный характер и чистоту чувств. После спектакля «Боряны» актеры поздравили его с удачным дебютом и пожелали новых успехов. Все были восхищены той свежестью и искренностью, с которой он воплощал образ сельского парня Павла, особенно в той сцене, когда тот бросает вызов всемогущему алфатарскому царю, готовый не на жизнь, а на смерть бороться за свою любовь: «Не пущу Боряну! Только если я умру, выйдет она отсюда!» После месячного турне труппа вернулась в город. Прощаясь, режиссер попросил Ивана прийти в театр перед первым сентября, чтобы поручить ему ту же роль в случае, если основной исполнитель не выздоровеет, или же попробовать его в другой молодежной роли.
Иван едва дотерпел до середины августа, приехал в город и в тот же день к вечеру отправился в театр. В это время там крутился только дядя Жорко с несколькими рабочими, которые кончали ремонт гримерных. У служебного входа стояла скамейка, на ней сидела женщина с темными, рассыпавшимися по плечам волосами. Она сидела спиной к улице и разговаривала с дядей Жорко. Увидев Ивана, дядя Жорко прервал разговор и пошел к нему навстречу, сияя своей заячьей улыбкой.
– Вот и наш юный артист! – заговорил он, обнимая Ивана за плечи. – И усики оставил! Идут они тебе, очень идут!
Они поговорили минуту-другую, и дядя Жорко предложил Ивану сесть на скамейку. Усаживаясь, Иван невольно взглянул на девушку, и сердце его пронзила та дрожь восторга и отчаяния, которая всякий раз настигала его при виде прекрасной и незнакомой женщины. «Как это может быть, чтоб на свете существовала такая красота, а я жил бы на этом самом свете и не видел ее, или видел всего миг, – думал он, сраженный этой красотой, и не слышал, что говорит ему дядя Жорко. – Нет, это вопиющая несправедливость, такого горя человеческое сердце не выдержит. Какой смысл жить дальше, когда эта красота меня покинет? Господи, сделай так, чтобы…» Но не успел он закончить, как господь внял его мольбе. Рабочие позвали дядю Жорко, и тогда девушка повернулась к Ивану и спросила его, давно ли он стал актером.
– Я не актер, – сказал он.
Ему казалось, что это сон, и, как во сне, он хотел еще раз взглянуть на ее лицо, но какая-то сила не позволяла ему повернуть к ней голову, и эта же сила неведомыми путями внушала ему, что если он взглянет на ее лицо еще раз, то увидит голову Горгоны и тут же окаменеет. «Почему, почему я боюсь на нее взглянуть?» – спрашивал он себя и продолжал рассказывать, как случайно целый месяц играл одну роль и как режиссер обещал дать ему еще одну в предстоящем сезоне.
– Какой вы счастливый! – простодушно сказала девушка.
– Счастливый? Наоборот! – отозвался Иван и меланхолически покачал головой.
Он говорил искренне, потому что счастливые его дни – а было их немало, – ухнули в какую-то темную пропасть в тот миг, когда он увидел девушку и почувствовал себя безнадежно одиноким. Беспредельная скорбь всколыхнулась в нем при одной лишь мысли о том, что незнакомка вот-вот исчезнет навсегда и мир без нее опустеет. В тот же вечер, измученный бессонницей и одиночеством, он напишет:
Белой пустыней стелется мир, где нету тебя,
В этой пустыне дни мои скоро угаснут…
– Режиссер Маловский обещал мне роль в этом сезоне, – сказала она. – Может, станем с вами партнерами? Меня зовут Геновева, но называют Вевой. А вас как зовут?
– Иван.
– А сейчас мне пора идти! – Вева тряхнула своими роскошными волосами, как гребнем провела по ним пальцами и встала. Иван вскочил, словно подброшенный пружиной, и пошел рядом с ней. – И вы идете?
– Да! – Иван осмелился взглянуть на нее в профиль и увидел, что губы ее тронула легкая улыбка. «Эта божественная улыбка предназначена мне – за то, что я пошел ее провожать», – подумал он, и вся его мировая скорбь исчезла так же внезапно, как и завладела было его душой. Теперь она уступила место бурной и смелой надежде. – Вы позволите проводить вас домой?
– О, не нужно! – сказала Вева. – Я встречаюсь с подругой.
– Жалко! Будь вы одна, я предложил бы вам свою компанию на этот вечер.
– С вашей стороны это очень мило, но вы можете проводить меня только до церкви на главной улице. Там меня ждет подруга.
– Я буду счастлив провести с вами хотя бы несколько минут!
Иван не мог освободиться от напряжения, у него перехватывало дыхание, и поскольку он считал Веву профессиональной актрисой, он говорил с ней приподнятым «актерским» тоном, какой он слышал в театре. Божественные улыбки, озарявшие время от времени ее лицо, действительно предназначались ему, но они выражали скорей ее насмешку над тем усердием, с каким он тщился выказать себя достойным ее кавалером. Она была старше его всего на два года, и внешне это не было заметно. Скорее наоборот – Иван Шибилев в своих модных брюках из белой чесучи и голубой рубашке, с усиками и зачесом, выше ее на голову, широкоплечий, хорошо сложенный, выглядел на несколько лет старше. Что же до житейского опыта, он был ребенком по сравнению с ней, так как она давно уже научилась безошибочно, словно легко написанную книгу, читать взгляды, выражения лиц и желания мужчин. Ей хватило не минут даже, а несколько секунд, чтобы понять, что юноша еще целомудрен, влюблен в нее «с первого взгляда» и готов поклясться ей в вечной любви. Она уже знала по опыту, что подобных младенцев надо отшивать немедля, и по понятным соображениям так всегда и поступала, но подруги на назначенном месте у церкви не оказалось, младенец пригласил ее поужинать в ресторан, и она согласилась. В нем было обаяние, которое заставило ее вознаградить его за неуклюжие попытки за ней поухаживать, к тому же она не привыкла вечерами бывать одна. Она успела заметить, что он не смеет смотреть ей в глаза и говорит неприсущим его возрасту тоном, стараясь выглядеть многоопытным мужчиной, и все это делало его еще симпатичнее.
В ресторане Иван успокоился и стал самим собой. Ему предстояло провести с Вевой несколько часов, а это позволяло надеяться и на будущее, к тому же кельнер обращался к нему как к настоящему господину («Что господину угодно? Как господин пожелает?..»), и это придавало ему уверенности. В зале ресторана было занято всего несколько столиков; они сидели вдвоем в неглубокой нише, где было тихо и уютно. Воодушевленный до экстаза ослепительной красотой девушки, Иван в порыве сладостного чистосердечия рассказал ей о себе все или почти все, как только может рассказывать юноша, лишь недавно простившийся с детством, когда его распирает самое чистое и нежное волнение, самые возвышенные чувства, когда на язык просятся самые красивые на свете слова, и он, говоря о себе, в сущности объяснялся ей в любви. Чтобы остановить пламенный поток его излияний, начинавший ей досаждать, а также чтобы удовлетворить в какой-то степени его любопытство, Вева коротко рассказала ему о себе. Она два года играла в Плевенском театре, но из-за сплетен, зависти и интриг в труппе вынуждена была его оставить. Ее приглашают и в другие театры, но она решила остановиться на здешнем, потому что здесь живет в большом собственном доме ее одинокая тетка, у которой она будет купаться в роскоши. В конце прошлого сезона она ходила к режиссеру Маловскому, и тот обещал занять ее в комедии некоего Бюрали «Жена взаймы», в которой она играла в Плевенском театре главную роль.
Всему этому едва ли стоило верить, правда же заключалась в том, что Вева знала цену своей красоте и давно превратила ее в средство пропитания. Не в конце последнего сезона, а около года назад она попыталась сунуться в городской театр и прежде всего попала, разумеется, в руки режиссера Маловского. Он держал ее при себе не больше месяца и передал кому-то из актеров, а те, поскольку не могли позволить себе роскоши поддерживать длительную связь с такой красавицей, сплавили ее своим друзьям и поклонникам. Иван Шибилев узнал об этом от кого-то из актеров, кто видел их с Вевой в ресторане или на улице, о том же сказал ему и дядя Жорко. Он объяснил, что подобного рода девицы постоянно кружат вокруг театра, как ночные бабочки вокруг света ламп, надеясь пробить себе дорогу на сцену не талантом или умением, а благодаря своим женским прелестям. Режиссер Янакиев, который решил занять Ивана в следующей своей постановке и был обеспокоен его неопытностью в обращении с женщинами, особенно такими, как Вева, тоже посоветовал ему больше с ней не встречаться и даже назвал ее шлюхой.
После первого вечера в ресторане Иван дал себе торжественную клятву, что последует за Вевой повсюду, в любое время и при любых обстоятельствах. Она не захотела принять от него эту жертву – более того, за полтора месяца назначала ему встречи лишь пять раз, а в остальное время он подлавливал ее на улице. Уверившись в этом, она рассердилась и пригрозила ему, что, если он будет ходить за ней по пятам, она вообще с ним раззнакомится. Иван перестал без спросу попадаться ей на глаза, но старался, когда мог, проследить, куда она идет и с кем встречается. Под вечер она чаще всего заходила в двухэтажный дом недалеко от пассажа и примерно через час выходила оттуда с молодой, своего возраста женщиной. Они направлялись по главной улице к ресторану «Морское око», сворачивали направо и спускались к Приморскому парку. Там гуляющие, растекаясь по аллеям, шли уже не сплошным потоком, и проследить за двумя молодыми женщинами было нетрудно. Не успевали они двинуться по какой-нибудь из аллей, перед ними словно бы случайно вырастали двое мужчин, заговаривали с ними и шли дальше вместе с дамами, сначала все вчетвером, а потом разбившись на пары. Насколько можно было судить по их одежде и манерам, мужчины были людьми с солидным положением, морские офицеры в белых мундирах с кортиками на блестящей цепочке или пехотные офицеры, которые при встрече с дамами прижимали к бедру длинные сабли, галантно кланялись и громко звякали шпорами. Сделав несколько кругов по парку, обе парочки шли в Казино. Там уже играл оркестр, в прохладном вечернем воздухе разносились отрывистые такты румбы или фокстрота, под обильным светом электрических ламп дансинг бурлил, как пестрый и живой водоворот. Спрятавшись в тени деревьев, Иван стоял там, пока Вева и ее подруга вместе с кавалерами не выходили из Казино и не сворачивали на городские улицы. Парочки шли метрах в десяти друг от друга, держась за руки, а в темных местах кавалеры обнимали и целовали дам. Вскоре они подходили к дому близ пассажа и скрывались в нем. В иные ночи Иван оставался стоять на ближайшем углу и совершенно бессмысленно дожидался там рассвета, когда кавалеры покидали дом.
Но бывали дни и вечера, когда он страдал еще более жестоко, и это случалось, когда Веве не с кем было провести время и она снисходила к нему. Он в любое время крутился возле ее квартиры, Вева видела его из окна и, если у нее не было другого свидания, выходила из парадного подъезда, уверенная в том, что он потащится за ней. Пройдясь разок-другой по главной улице, они шли в ресторан. Вева предпочитала «Морское око» или «Болгарию», потому что туда ходила более чистая публика. Среди этой чистой публики, как, впрочем, и в любом другом месте, она всеми способами давала ему понять, что ему нечего и думать о большей с ней близости и что если она время от времени с ним встречается, то только потому, что уступает его неотвязной настойчивости. Держалась она так, что мужчины недвусмысленно выражали восхищение ее яркой красотой, и она не только не скрывала своего удовольствия, как это делала бы любая порядочная девушка, а, наоборот, поощряла ухажеров взглядами и улыбками. На улице ее часто останавливали мужчины, и, разговаривая с ними, она поворачивалась к своему кавалеру спиной или приказывала, чтоб он ждал ее на известном расстоянии. В ресторане к их столику подсаживались непрошеные гости, а были и такие, кто вместо «здравствуй» поддразнивал Веву: «Вевик, ты, никак, сегодня прогораешь!» Они хотели сказать, что кавалер ее еще слишком юн и ей придется самой платить за ужин. Это заставляло Ивана всячески скрывать свою молодость. У самого модного в городе портного он сшил два костюма, ходил в белых брюках и белых ботинках, по вечерам надевал галстук, не сбривал усиков, так что вполне мог сойти за молодого человека из состоятельного семейства. В селе на восемнадцатилетних парней смотрят как на готовых женихов, поэтому мать и отчим считали его уже взрослым и посылали больше денег, чем только на обычные расходы. Деньги он отложил и после летнего турне, так что мог позволить себе хорошо питаться и одеваться и даже водить свою даму по самым дорогим ресторанам. Несмотря на это, она предпочитала компанию других мужчин, которые не только что не благоговели перед ее красотой, а держались с ней развязно и даже цинично: бросали на нее недвусмысленные взгляды, при нем назначали свидания, обменивались за ее спиной многозначительными улыбками.
Иван страдал оттого, что не может видеть ее в любой день и час, но ни на миг не усомнился в ее нравственной чистоте, не осудил ее поведения. В его глазах она была настоящим ангелом, который так высоко вознесся в ореоле своей красоты, что никто ничем не мог ее оскорбить, как никто не мог оценить ее прелесть и талант актрисы. Он испытывал к ней неутолимое влечение, и этому чувству, мучительному и сладостному, подчинял всего себя: ей были посвящены и стихи, которые он писал в минуты одиночества и восторга, и надежды его, и сны, и работа в театре. Актер, которого он замещал во время турне, все еще болел, и режиссер снова дал ему ту же роль. После нескольких репетиций, во время которых он должен был освоиться на большой сцене, спектакль был сыгран в конце сентября, сразу после открытия сезона. Иван исполнил роль молодого сельского парня намного лучше, чем от него ждали, он был так непритворно наивен и так восторженно нежен по отношению к своей любимой – Боряне, что публика вознаградила его аплодисментами и криками «Браво!». Режиссер дал ему роль, несмотря на возражения некоторых актеров, и теперь радовался, что его опыт оказался успешным и обнадеживающим. Ему было приятно думать, что он открыл и выпустил на сцену новое, свежее дарование, и после спектакля он направился к Ивану, чтобы поздравить его с успехом и поговорить о следующей роли. Однако Иван уже выскочил из гримерной и теперь лихорадочно кружил вокруг здания театра. Вева обещала его посмотреть, а после спектакля ждать у входа в театр, но, видимо, что-то непредвиденное ей помешало. Через два дня он, как всегда, «случайно» встретил ее около ее квартиры, и она сказала ему, что через день уезжает в свой родной город. Мать ее плохо себя чувствует и просит побыть с ней недельку-другую, а потом она приедет обратно и займется ролью, которую ей предлагает режиссер Маловский. Увидев, что лицо Ивана побледнело и исказилось от боли, Вева нежно поцеловала его в щеку, прижалась лицом к его лицу и постояла так целую минуту. Потом взяла его за руку и повела к ближайшему скверу. Город уже затих, лишь со стороны моря слышалось его ровное дыхание.