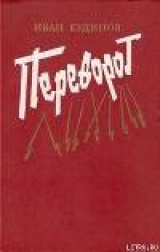
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
5
Март к полнолунию потеплел. Ночи стояли тихие, звездные. А днями все оживало, приходило в движение: рушился с крыш и карнизов подтаявший снег, пушечно громыхали в водосточных трубах обломившиеся глыбы сосулек, и гвалт одуревших от тепла и солнца воробьев сотрясал воздух.
Этой весной – весной 1915 года – открылась, наконец, в Томске долгожданная выставка Гуркина, картины которого казались Тане чудом. Ошеломленная, она целый час простояла у «Озера горных духов» забыв обо всем на свете. А когда опомнилась, увидела, что Вадим Круженин стоит рядом и смотрит не на картину, а на нее, и глаза его, как небо на гуркинских пейзажах, полны мартовской синевы.
– Ну что же ты! – сказала она обиженно. – Разве тебе неинтересно?
– Отчего же… – смутился Вадим, застигнутый врасплох этим вопросом. – Очень даже интересно!
– Хитрить надумал? А не получается: все написано у тебя на лице.
– Что написано? – спросил он удивленно. – Что у меня может быть написано на лице?
– Все, – усмехнулась Таня. – Жаль, конечно, что картины Гурки на тебя не тронули. И не спорь, пожалуйста, я вижу.
– Это неправда! – возразил он, слегка покраснев. – Гуркин замечательный художник, другого такого художника, может, и нет в Сибири… И не в его картинах причина.
– В чем же? Вадим помедлил.
– Будь на месте этих картин другие… даже сама «Джоконда» – я все равно бы смотрел на тебя! – признался он вдруг с такой отчаянной решимостью, что теперь смутилась и покраснела Таня.
– Ну, будет, будет выдумывать…
Вечером в доме Корчугановых собрались гости. Виновник этой встречи художник Гуркин был, разумеется, в центре внимания. Пришли Потанин и Вячеслав Шишков, которого Таня знала меньше других и больше других стеснялась; пришел отец Вадима профессор университета Круженин, чуть позже появился известный томский адвокат Вологодский, пышнобородый, плечистый и несколько самоуверенный человек, было несколько малознакомых или вовсе незнакомых Тане литераторов и художников… Кружок образовался веселый и остроумный. Таня ловила каждое слово сибирских корифеев – и все ей казалось в этот вечер важным, значительным и неповторимым. Потом ее попросили сыграть. И она охотно села за фортепиано и стала наигрывать что-то веселое, бравурное – то ли воспроизводя мелодию старой, полузабытой мазурки, то ли сочиняя что-то свое, импровизируя… Гости были в восторге от ее игры, вслух восхищались, наговорили ей комплиментов. Она и вправду была в тот вечер восхитительной. И Вадим Круженин вовсе голову потерял. Выбрав момент, он увлек ее в другую комнату, порывисто обнял и стал целовать. Таня попыталась высвободиться, ей стало жарко, неловко, она чуть не задохнулась в его объятиях – и вырвалась наконец, резко его оттолкнув:
– Это же грубо и бесчестно… Уходи! – Лицо ее было красным от стыда и возмущения. – Немедленно… Слышишь?
Вадим не двинулся с места, хотя и он смущен был не меньше.
– Таня, я хочу сказать тебе… Я прошу твоей руки! – выпалил.
– Перестань. Ты что кричишь? – опасливо покосилась она на дверь, за которой слышались голоса и смех.
– Разве я кричу? Я говорю шепотом. Будь моей женой, Таня.
– Боже мой, о чем ты? Перестань. Это в тебе хмель говорит.
– Какой хмель? Ты же знаешь, что я не пью. Я тебя люблю больше жизни. Скажи, что нужно сделать, чтобы ты мне поверила? Сделаю все, все, что ты захочешь. Скажи: что сделать?
– Во-первых, не говорить глупостей. А во-вторых, пойдем к гостям, а то неудобно… уединились.
– И это все? – вздохнул он разочарованно. Помолчал и признался: – Знаешь, Таня, я, наверное, скоро уеду.
– Уедешь? Куда?
– На фронт, в действующую армию…
– А университет?
– Университет подождет.
– Боже, час от часу не легче. Но это же глупость, Вадим.
– По-твоему, защищать Отечество – это глупость? Идет война, и я не хочу оставаться в стороне.
– Нет, нет, я не то хотела сказать. Конечно, ты прав… но все это так неожиданно.
Они постояли еще немного, успокаиваясь, и вернулись в гостиную. Шуму там поубавилось. Разговоры теперь, кажется, велись степенные, деловые. Таня прислушалась.
– Разумеется, повторение можно сделать лучше оригинала, – говорил Гуркин стоявшему рядом с ним Шишкову. – По каким бы удачным повторение ни было, все равно она останется лишь повторением. А в сущности, это уже другая картина.
– Да, да, – согласился Шишков, – ничто в жизни не повторяется. Есть похожие ситуации, но абсолютно схожих нет, есть похожие люди, но попробуйте найти двух одинаковых… А правда, что для британского консула копию с «Разлива Катуни» сделали вы лучше оригинала? – поинтересовался.
– Консулу Карауну я сделал хорошее повторение, это правда, Вячеслав Яковлевич, да только оригинал этой картины я ни за какие деньги ему не отдам.
– И правильно! Ваши труды принадлежат России, а не Британии.
Они стояли рядом, оба рослые, крепкоплечие, на этом, однако, и кончалось их сходство. Гуркин скуластый, смуглолицый, волосы ежиком, маленькие усики над чуть вздернутой губой – и одет просто: синяя косоворотка, пиджак… Зато Шишкова хоть сейчас под венец – все на нем с иголочки, новомодное. Впрочем, понять его можно: Вячеслав Яковлевич недавно женился на петербургской красавице и должен был держать форс.
– А все же отчего вы считаете, что лучше оригинала сделать нельзя? – спросил Вологодский, держа в руках и медленно перелистывая какую-то книгу.
– Напротив, – вступился за Гуркина профессор Кружении. – Григорий Иванович утверждает, что повторение можно сделать гораздо лучше, совершеннее оригинала, но…
– А мне кажется, слишком буквально поняли вы Григория Ивановича, – вмешался Николай Глебович, и Таня посмотрела на отца с ревнивой опаской – ей всегда хотелось, чтобы на людях, в обществе, отец выглядел не хуже других, по меньшей мере. Она перевела взгляд на Гуркина, точно проверяя, как он воспринял реплику отца.
– Николай Глебович прав, – как бы отвечая на ее молчаливый вопрос, сказал Гуркин, – я действительно имел в виду другое: повторение глубже и совершеннее оригинала может быть только по технике исполнения. Иначе говоря, повторение – это рука художника, а подлинник, оригинал – душа и сердце. Мой учитель Иван Иванович Шишкин однажды сказал: художник не тот, кто научился копировать и малевать, а тот, кто уяснил для себя – ради чего и во имя чего он это делает.
– Прекрасные слова, – согласился Шишков. – Они в полной мере относятся и к нам, литераторам. Вам же, Григорий Иванович, бояться нечего – ваши картины сами за себя говорят. А неубывающий интерес публики – разве не об этом говорит? Сегодня около тысячи человек побывало…
– Это я вас должен благодарить, – улыбнулся Гуркин. – Как организатора и распорядителя выставки.
– Моя тут заслуга незначительная, – возразил Шишков. – Смотреть идут не на меня, а на ваши картины. Такое событие в городе не часто случается.
– Что и говорить, событие для Томска замечательное, – поддержал Николай Глебович. – Открою вам в связи с этим один секрет: за эту неделю, которую томичи назвали гуркинской, в городе намного уменьшилось количество заболеваний… Да, да! Представьте себе. Не могу дать этому научного объяснения, но это факт.
Потанин, сидевший до того молча, повеселел и оживился:
– А я что говорил: все наши недуги проистекают от того, что недостаточно знаем и понимаем искусство, а главное – слишком далеко ушли от природы. Вот она и мстит нам.
Вроде и в шутку было сказано, а подхватили разговор и повернули к серьезному.
– А ведь и впрямь, Григорий Николаевич, все это непостижимо, – взволнованно отозвался профессор Круженин. – Есть, есть в искусстве некий врачующий, исцеляющий момент.
– Искусство спасет мир, – насмешливо сказал Вологодский, ставя книгу в шкаф и с грохотом закрывая дверцу. – Как все просто. Одно мне ясно: искусство, если оно истинное, разумеется, было и остается загадкой. Потому и является оно привилегией лишь избранного круга людей…
– Избранного? – перебил Потанин, и в старческом лице его проглянул молодой задор. – Простите, а как же тогда понимать слова Толстого? Это же он сказал: искусство есть выразитель чувств – и оно тем выше и понятнее, чем больше людей объединяет вокруг себя… Объединять людей – вот задача настоящего искусства.
– Граф Толстой тоже не был безупречен в своих суждениях.
– Может, и не был. Скорее, что не был, – сердито согласился Потанин. – Но к истине он стоял ближе, чем многие его современники. А как думает художник? – посмотрел на Гуркина.
– Художник думает лишь об одном, когда пишет: как лучше передать, выразить в красках настроение, чувства и мысли свои, – ответил Гуркин. – А когда напишет, думает о другом: поймут ли его? И станут ли его картины достоянием широкого круга людей? – Гуркин помедлил и признался: – Потому и мечтаю я поехать со своими карги нами по Сибири, побывать на Востоке, в Америке… Поедемте, Вячеслав Яковлевич, – повернулся к Шишкову, – устроим кругосветное путешествие. С вами я хоть на край света! А?
Потанин подвигался в кресле, не то пытаясь подняться не то усаживаясь поудобнее, и едко заметил:
– Куда ему, он и Сибирь-то решил оставить, собрался в Петербург, а вы его зовете путешествовать, в Америку тянете. Да его скоро к нам и калачом не заманишь.
– Это несправедливо, Григорий Николаевич, – обиженно свел густые брови Шишков.
– Ах, несправедливо! А уезжать из Сибири, по-вашему, справедливо? Да это, если хотите, бегство позорное.
– Вам же известны причины моего отъезда.
– Не знаю. Не знаю я ваших причин, – не на шутку разгневался Потанин. – Не знаю и знать не хочу. Причины всегда найдутся. А вам бы следовало помнить и не забывать, на какой почве взошел и произрастал писательский, ваш талант.
– Это я помню. И никогда не забуду. Сибирь была и| останется для меня второй родиной.
– То-то и есть, что второй, – буркнул Потанин. – Что же в таком случае вас, инженера и литератора сибирского, потянуло в столицу?
– Дела. И только – дела.
– Ах, дела… А в Сибири у вас и дел уже не стало?
– Сибирские дела и подвигнули меня на этот шаг, – пояснил Шишков, расстегивая пиджак и расслабляя галстук, – жарко стало. – Мне, Григорий Николаевич, не столица нужна, а Министерство путей сообщения… Надеюсь пробить, наконец, и осуществить проект Чуйского тракта. Иначе не одолеть нашу российскую косность.
– А! – махнул рукой Потанин. – Езжайте, коли решили Вас, как я погляжу, не переубедить. Езжайте, езжайте, коли находите нужным, – неуступчиво повторил, – коли угораздило вас жениться не на сибирячке… Вот вам и причина ваша!
– Да ведь и дело, затеянное Вячеславом Яковлевичем, действительно важное, – вступился за Шишкова с некоторым запозданием Гуркин. – Построить дорогу в горax…
– Кто с этим спорит – дорога нужна. И заслуг Вячеслава Яковлевича в этом деле никто не умаляет. Напротив. Потому и жалко отпускать из Сибири такого человека… Жалко! – признался Потанин. – Сибирь и без того со всех сторон обирается… А дорога нужна, – согласно покивал. – Дорога эта поможет алтайскому народу выйти из темноты…
– А не кажется вам, что по этой дороге хлынут в горы предприимчивые, оборотистые люди и еще больше закабалят алтайский народ? – спросил профессор Круженин.
– Может, и хлынут. Но дорога сделает свое дело, непременно сделает! – стоял на своем Потанин. – Хотя и в ваших опасениях есть резон. Оборотистых людей и впрямь нужно опасаться, ибо для них интересы народа ничего не стоят. Главное для них – собственные интересы. А между тем всякий народ, большой или малый, имеет свою самобытность, свой характер – и с этим нельзя не считаться. Иначе погубим, потеряем и то, что осталось, сохранилось к сегодняшнему дню 1915 года. Да, да, – горячо продолжал Потанин, – потеряем. Как потеряли в свое время коттов и асанов – были такие народы в Сибири. А хойданы, омоки, анюиты… Где эти племена? И не могло ли быть сегодня среди них своего Менделеева или Гуркина? А разве судьба нынешних сибирских племен намного улучшилась? Разве не находятся они, как и прежде, на грани вымирания, гибели? Да и не только сибирские, – прибавил с горечью. – Где, скажите, самобытное племя тасманийцев? Нет ни одного человека, всех уничтожили, обрекли на гибель английские колонизаторы. А где наши сибирские аринцы? Последнего из них путешественник Миллер встретил полтора века назад. Да, вот как: исчез бесследно целый народ, погибла нация! Помните печальную самоедскую сказку? – чуть помедлив, спросил. – Так вот, было у самоедов семьсот шатров, – неторопливо продолжал. – И жило в этих шатрах много народу. Детей же не было, дети рождались – и тут же умирали. Только у одного самоеда был маленький сын, чудом уцелевший. И вот однажды проснулся он и увидел, что все люди его племени умерли, а все олени пропали… Что делать? И решил он идти, куда глаза глядят, этот самоедский мальчик. Шел через глубокие снега, через леса дремучие, голодный и обессилевший, падал от усталости, грыз кости, уже обглоданные зверями… Встречались ему люди, но не понимали его и безжалостно гнали, били и несколько раз убивали. Однако всякий раз, когда это случалось, появлялся старик с железной палицей в руках, ударял ею об землю – и мальчик оживал. И шел дальше…
Потанин умолк, оборвал сказку. Тихо стало. И в этой тишине стук настенных часов, с плавно и мерно раскачивающимся маятником, напоминал чьи-то шаги…
– А дальше? – шепотом спросила Таня. – Что с этим мальчиком стало?
– Не знаю. Что с ним будет, не знаю, – вздохнул Потанин. – Время покажет.
– Вот вам сказка, а в ней намек! – усмехнулся Вадим.
– Всякая сказка с намеком.
– Увы! И с благополучным концом, – добавил Вадим и покраснел от волнения и неожиданной своей смелости. – Если бы и в жизни так.
– И в жизни, друг мой, многое можно исправить, переменить.
– Ждать волшебного старика с железной палицей?
– Зачем ждать, надо самим работать. Искать свой путь.
– А где он, этот путь? Где? – спросил Вадим. Таня тронула его за руку, опасаясь, что сгоряча он может и самому Потанину наговорить дерзостей. Вадим резко повернулся и отошел к окну. Сказал оттуда с усмешкой:
– Завтра должен народиться большой русский бог… Кажется, так купец Харлашка говорит в вашем рассказе, Вячеслав Яковлевич? Может, этот большой русский бог и укажет истинный путь?
– Бог-то бог, да будь и сам не плох! Каждый волен выбирать свой путь, лишь бы это было не во вред другим, – сказал Потанин. – И если отдельный человек имеет такое право, отчего же такого права не иметь народу? Права на самоопределение. И чтобы никто на это право не посягал. Ну, и образование, – добавил многозначительно и посмотрел на Гуркина. – Это, конечно, в первую очередь. Без этого никакой народ не выйдет из темноты. Скажу больше: с этого начинается всякая свобода… А разве люди не для этого рождаются, не для свободы?
Близилась уже полночь. А разговорам не было конца.
Таня зашла на выставку в день закрытия. Хотела еще раз увидеть «Хан-Алтай», постоять у своего любимого «Озера», но опоздала: залы были уже пусты, картины сняты, и стены зияли холодной белизной. Таню словно сквозняком прохватило в этой оглушающей пустоте… И только в углу, за колонной, заметила она небольшой этюд в массивной деревянной раме, то ли забытый, то ли оставленный здесь по какой-то другой причине. Таня долго разглядывала этюд, чувствуя дыхание весенней Катуни: взломанные льды громоздились у берега причудливыми торосами, которые, казалось, вот-вот двинутся и сомнут, раздавят на своем Пути все живое. Но светило солнце, полнилась и набирала сил река и такой теплой и ласковой синевой отливало небо, что верить в худшее не хотелось. «Все будет хорошо», – подумала Таня. И вдруг почувствовала, что кто-то подошел и остановился у нее за спиной. Она обернулась, увидела Гуркина и сильно смутилась:
– А я вот опоздала… Кончился праздник. Гуркин смотрел на нее с грустным вниманием.
– Это правда, что мои картины – для вас праздник?
– Да, – поспешно и твердо ответила она. – Правда.
– Спасибо. Для меня это очень важно… Очень! Может быть, важнее всех газетных дифирамбов. Спасибо! – голос у пего был густой и теплый, как небо и воздух на этюде, к которому хотелось прикоснуться.
– Это вам спасибо, Григорий Иванович, я так много поняла за эти дни… Эту весну я всегда буду помнить.
Гуркин улыбнулся:
– Весен, Танюша, у вас еще много впереди.
– Нет, нет, эта весна особенная, поверьте.
Таня стояла, сцепив руки, стараясь унять дрожь в пальцах, но не в силах унять волнения и внутренней дрожи. И даже мысль об отъезде Вадима Круженина в действующую армию, на фронт, мелькнувшая вдруг, показались до странного чужой, непонятной и не могла испортить настроения.
– Ну что ж, – тихо и мягко сказал Гуркин, – дай вам бог, чтобы праздник ваш как можно дольше был с вами. Знаете, я вас очень прошу: возьмите на память этот этюд. Очень вас прошу.
– Нет, нет, – словно испугавшись чего-то, быстро проговорила Таня и умоляюще посмотрела на художника. – Нет, нет, Григорий Иванович, это невозможно… Нет, нет!..
Вдруг она повернулась, закрыв лицо ладонями, и кинулась прочь, поскорее к выходу, не в силах сдержать слез и не желая их показывать… Потом наступило облегчение, она успокоилась. И медленно, как бы нехотя, шла по талому снегу в сторону Воскресенской горы, все время видя перед собой синюю кромку неба и синие, как небо, купола нагорной церкви.
«Все будет хорошо, – печально и успокоенно думала. – Все будет… как надо. А как надо?»
6
Работа с утра не заладилась и весь день пошел наперекосяк. Гуркин писал и не мог дописать, закончить новую картину, которую начал вскоре после приезда из Томска. Краски будто смеялись над ним, ложась на холст неровным, грязно-серым слоем. Выходило не то, совсем не то… Гуркин шлепал кистью, растирал некоторые места пальцем, чувствуя пружиняще-податливую упругость холста, но добиться нужного тона никак не мог – словно впервые он взял в руки палитру и кисть и словно стоял перед ним не мольберт, а стена возвышалась, преодолеть которую не было сил. Как же так? – думал он. – Теперь, когда были написаны и по всей Сибири известны такие его картины, как «Хан-Алтай» и «Озеро горных духов», десятки других пейзажей, когда друзья говорили и газеты писали о нем не иначе, как о мастере и певце Горного Алтая, когда и сам он в это поверил, краски и кисти вдруг вышли из повиновения… Неужто «Хан-Алтай» и «Озеро горных духов» – это его вершины? И выше ему уже не подняться, лучше не написать?
Гуркин положил палитру, отступил к окну и долго смотрел на мольберт, стоявший посреди мастерской, как распятие… Пахло сухим нагретым деревом, красками. Стены мастерской были сплошь увешаны этюдами, и Гуркин не, глядя мог сказать, где и какой из них висит, когда и где написаны – «Пруд» или «Цветы у пруда», «Юрта в саду художника»… Он повернулся и посмотрел в окно: юрта] стояла в глубине двора, окруженная молодыми березами, пихтами и лиственницами, посаженными лет семь назад.
Тогда ему пришло в голову – вот здесь, под окнами, вблизи мастерской, на берегу пруда, воссоздать во всей красе и во всем многообразии уголок алтайской природы. Кроме берез, пихт и лиственниц, он посадил еще несколько елок и три кедра, провел через сад ручей… Юрту же он построил тремя годами раньше, в то лето, когда переехали они из Улалы и, облюбовав на окраине села, у подножия горы Ит-Кая, поляну, срубили дом, а потом и мастерскую, просторную, светлую, окнами на восток и юг. Здесь и написал он все свои лучшие картины.
А юрта зимой пустовала. Снегом ее заносило – и она стояла, похожая на стог сена. Зато летом лучшего жилья не придумаешь – прохладно в жару и уютно в ненастье.
Сейчас вокруг юрты бегали ребятишки, громко смеялись. День был тихий, солнечный. Тонкая струйка дыма над конусообразной юртой едва была заметна в воздухе…
Прошла мимо окон Марья Агафоновна, держа в одной руке охапку дров, а в другой ведро с водой, прикрикнула на ребятишек – тех словно ветром сдуло.
Гуркин проводил взглядом жену. И расстроился окончательно. Теперь лучше и не подходить к мольберту. Все! Он постоял еще немного, поколебался и вышел из мастерской. Направился к пруду, но передумал, круто повернул, взял под навесом конюшни уздечку, подозвал младшего сынишку и велел ему привести Гнедка. Спутанный конь ходил неподалеку, за огородами. Мальчик охотно побежал, звеня удилами. А Гуркин стоял, ждал и поглядывал на жену, возвращавшуюся от юрты к дому.
– Поеду в Узнези, – как бы между прочим сказал он. Марья Агафоновна остановилась.
– Чего там забыл?
– Степана повидать надо.
– Степан сколько уж времени глаз не кажет. Брат называется.
– Ну, ладно, ладно, – обрывает он жену. И она уходит, широко, по-мужски размахивая руками. Гуркина раздражает и эта мужская походка, и грубость жены, и весь ее неряшливый вид – в сорок-то лет могла и не опускаться до такой степени. Он понимал, что в чем-то несправедлив к жене, безропотно тащившей свой крест: и дети на ее руках, четверо детей, обмыть, обшить и накормить надо, и хозяйство какое ни есть, а тоже требует рук и глаз, он понимал это сознанием, но душа оставалась холодной. Столько лет прожили, детей нарожали, а близости настоящей так и не обрели. И у него язык не поворачивается признаться жене в том, что удача, как видно, отвернулась от него, краски перестали повиноваться, и картина, над которой он бьется вот уже не один месяц, не получается. Разве она поймет? Всю жизнь видела она в нем только работника, мужика – и не замечала художника. А мужик и художник в нем неразделимы, как вот эти кроны деревьев неотделимы от корней.
Нет, нет, и он, конечно, в чем-то не прав и несправедлив к жене. Надо оторваться от привычных дел, успокоиться, тогда и мысли придут другие, и чувства обновятся…
Гуркин вдыхает запах трав, молодо зеленеющих по косогорам, в лесу. Тропа огибает каменистый склон, который словно залит розовой пеной – цветет маральник. Сколько раз Гуркин пытался передать на холсте вот это причудливое сочетание красок земли и неба, горных вершин и рек, но даже в лучших своих картинах не смог достичь желанного эффекта. А может, он слишком многого хочет, Чорос-Гуркин, ученик великого Шишкина, и взваливает на себя непосильную ношу? Вот и последняя картина… Столько надежд он на нее возлагал! «Нет, нет, – думает Гуркин, – сложность не в красках, а в душе человеческой».
Конь привычно ступает по тропе, хорошо ему знакомой, и вскоре выходит на ровное и довольно обширное плато. Свежестью потянуло из распадка. Гуркин подобрал и натянул поводья, поворачивая коня влево, на чуть приметный развилок. Гнедко, мотая головой и брезгливо обнюхивая на ходу верхушки низкорослого чернобыльника, пошел быстрее. Обогнули крутой лог. Лес подступил вплотную и снова расступился, дав глазу простор. И Гуркин увидел неподалеку, на поляне, знакомый аил. Он бывал здесь не раз, хорошо знал хозяина, Бодыйку Тудуева и его жену Алмын, добрую и неглупую, хотя и носила она такое унизительное имя.[2]2
Алмыв – дура (алт.).
[Закрыть] Занимался Бодыйка охотой, пушным промыслом, но сеял также и ячмень на кое-как взрытом и разровненном клочке земли. Осенью ячмень выдергивали с корнями, связывали в пучки и развешивали на жердях для просушки. Потом разводили костер, брали ячмень за верхушки и держали над огнем, сжигая солому… А сухие колосья обмолачивали палками.
Гуркин привез однажды серп с деревянной ручкой и показал, как легко и просто можно срезать им ячмень. Бодыйка взял серп, недоверчиво поцокал языком, трогая пальцем лезвие: таким запросто можно отхватить голову курану! И засмеялся.
Гуркин оставил ему серп, сказав, что у него такого добра хватает. А когда приехал недели через две, увидел, что ячмень, как и всегда, выдернут с корнем и развешен для просушки на жердях. Гуркин огорчился: что же так? Бодыйка виновато улыбнулся: «А ну его, этот серп, ходит в руках, как змея, того и гляди ужалит…» И показал порезанный палец. Алмын подала Гуркину чашку чая – чегеня. Терек, младший сын Тудуевых, мальчик лет семи, живой, смышленый и тоненький, как хворостинка, с восхищением смотрел на художника. Гуркин казался ему всесильным, делавшим такие чудеса, какие даже бешпельтирскому каму Савоку Балташову, дальнему родственнику Тудуевых, было не под силу… Иногда Терек увязывался с Гуркиным и целыми часами стоял за его спиной, удивляясь, как он, орудуя кисточкой и красками, переносит на холст то гору ближнюю, поляну, то аил… Чудно! Был один аил, а стало два и оба одинаковые, как пара глаз. Только в одном жить можно, а к другому пальцем боязно прикоснуться – любоваться со стороны.
Гуркин предложил как-то мальчику самому попробовать что-нибудь нарисовать, перенести на бумагу и протянул ему кисточку. Терек вспыхнул и спрятал руки за спину. Однако позже он все же насмелился, взял кисть, и Гуркин увидел, как загорелись у него при этом глаза.
Вечером Гуркин говорил Бодыйке: хватит вам жить вот так в одиночку, на отшибе, переезжайте поближе к людям – в Узнези или в Анос. Построите дом, отдадите детей в школу… Бодыйка соглашался, кивал головой: «Надо, Крикорий Ваныч, надо. – И спрашивал: – А что, Крикорий Ваныч, Терек наш и вправду может научиться рисовать, как ты рисуешь?» Гуркин отвечал твердо: «Сможет. Непременно сможет. Тяга к рисованию у него есть. Но для этого надо учиться. Да и вам с Алмын разве не надоело так жить?» Бодыйка виновато улыбался: «Надоело, надоело, Крикорий Ваныч…»
Гуркин подъехал к аилу, остановил коня. Никто его, однако, не встречал. Пусто было на поляне и непривычно тихо: ни собачьего лая, ни детских голосов… ни единой души. Гуркин почувствовал неладное, быстро спешился и подошел к юрте. Налетевший ветер взвинтил на тропинке пыль, зашелестел сухим корьем и берестою, отдирая их от жердяного остова… Дверь в юрту была распахнута, впрочем, двери как таковой здесь и не было, завешивался вход большой тяжелой кочмой, а теперь черная дыра провально зияла. Гуркин осторожно вошел, пусто было и внутри. Только сухая кучка пепла на месте очага, клочья сухой травы да обрывок волосяного пута валялись в углу…
Гуркин обошел вокруг юрты, ничего не понимая. Что случилось? Куда исчезли Тудуевы? Может, решились, наконец, и переехали в Узнези? Давно собирались… Конечно, как это ему сразу не пришло в голову!
Гуркин сел на Гнедка и заспешил в Узнези.
Дом брата стоял четвертый с краю. Хороший дом, с крыльцом и сенками, под тесовой крышей. Жердяная ограда вокруг. Жердяные ворота. Степан был дома, наводил порядок во дворе. Увидев брата, обрадовался, прислонил метлу к поленнице и пошел навстречу:
– Здорово, Григорий! То-то у меня сегодня правая ладонь чесалась, – протянул руку. – Как надумал?
– Надумал вот… Ты же сколько времени глаз не кажешь.
– Дел много. Что у вас, как живете?
– Живем, – уклончиво ответил Гуркин. И, помедлив сказал: – Заезжал к Бодыйке – никого не застал. Пустой аил. Может, думаю, в Узнези переехали…
– Бодыйка-то? Нет, – помотал головой Степан, – он откочевал с неделю назад.
– Куда откочевал?
– Место оказалось тут несчастливым, проклятым… Савок Балташов заезжал вчера, говорил, что сын у Бодыйки помер.
– Какой сын? – побледнел Гуркин. – Не Терек?
– Не знаю, может, и Терек. Савок ездил камлать, хотел спасти мальчика, да горные духи не пожелали… А ты что так расстроился? – тронул брата за локоть. Они присели на березовый комель, закурили. – Что нового? – опять спросил Степан. Гуркин, попыхивая папироской, задумчиво молчал. И Степан, вздохнув, тоже посидел молча.
Из пригона с кудахтаньем вылетела курица, пронеслась через двор, бестолково и суматошно мотая крыльями – перья летели в разные стороны. Степан усмехнулся:
– Во раскудахталась. Яйцо снесла – и весь мир оповестила.
– Яйцо снести тоже дело, – сказал Гуркин. – А бывает, что иное дело и выеденного яйца не стоит.
– Бывает. – согласился Степан. – Случилось что-нибудь? Не в духе ты сегодня.
– Случилось, – кивнул Гуркин, медленно выпустив изо рта дым, и еще раз кивнул. – Случилось. Ослеп я окончательно.
– Как ослеп? – недоверчиво глянул Степан. Брат сидел к нему боком, и один его глаз, бельмом затянутый, казалось, побелел еще больше. – Как ослеп?
– Так и ослеп: ничего не вижу. Работа совсем разладилась.
– Ну-у, а я-то думал, после томской выставки все у тебя горит в руках. Может, устал? Съездил бы в горы, на Каракол, в верховья Катуни… Пройдет хандра. Впервые, что ли?
– Не в хандре дело.
– А в чем же тогда?
Гуркин опять замолчал, задумчиво глядя перед собой.
– Меня называют певцом Алтая, – сказал, наконец, – и сам я поверил в это. А сейчас понял: народу нашему не до картин. Знаешь, что сказал доктор Корчуганов? С открытием выставки, говорит, заболеваний в городе намного убавилось… Искусство, оказывается, может исцелять.
– Вот видишь! – воскликнул Степан. Гуркин внимательно посмотрел на него:
– Отчего же мои картины не исцелили сына Бодыйки?
– Так он же не видел твоих картин.
– Об этом я и говорю: народу нашему не до живописи пока… не до моих картин. Народу нашему дорога нужна…
– Какая дорога? – удивленно посмотрел на него Степан.
– Большая, широкая… по которой народ наш выйдет из темноты.
– Разве одно другому мешает?
– Может, и не мешает. Но заниматься сегодня только картинами – нельзя. Вон Шишков хороший писатель, а занят другим: повез в Петербург проект Чуйского тракта, которому столько лет посвятил. Обещал написать, как только проект будет утвержден. Надо строить дорогу, – сказал задумчиво и твердо. – А картины мои подождут.
– И что же ты… вместо кисти лопату в руки возьмешь?
– Надо будет – и лопату возьму.
Возвращаясь домой, Гуркин опять сделал крюк и завернул к аилу Бодыйки Тудуева, хотел еще раз убедиться – не поблазнилось ему, не померещилось?
Вершины дальних гор были освещены солнцем, огнем горели лесистые склоны, а здесь, в логах и низинах, в узких межскальных расщелинах, копились густые синие сумерки, и холодом тянуло оттуда, как из каменных погребов. Конь всхрапывал громко, сторожко ступая по тропе. Гуркин подъехал к аилу, постоял, не слезая с коня. Длинные тени пересекали поляну, и трава на ней казалась черной. Какая-то птица бесшумно и стремительно вылетела из юрты, чуть не задев его крылом. Гуркин вздрогнул. И долго не сводил взгляда с темневшего входа, ожидал, что кто-то еще должен появиться. Но никто больше не появился. Тихо было. Пустынно-кладбищенская тишина давила, заполняя собою все вокруг. «Проклятое место, – вспомнил Гуркин слова брата. И подумал еще, решая про себя – художник в нем все-таки брал верх. – Надо приехать сюда завтра и написать эту поляну и этот заброшенный аил… ак и назвать картину. «Проклятое место». И вдруг пришло в голову: а сколько таких мест по Алтаю? Весь Горный Алтай – проклятое место.







