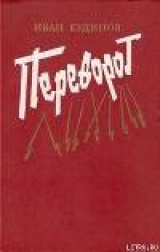
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
– Коргонцы вернулись. Помните, две недели назад семнадцать человек ушло из отряда?
– А-а, это те, которые поддались на провокацию, – вспомнил Третьяк. – Кононыхин, Трусов…
– Кононыхин и привел их в отряд.
– Всех семнадцать?
– Нет, Иван Яковлевич, пришло тридцать человек. Но из тех, кто уходил, вернулись не все… Семерых повесили. Трусова в том числе… Хмелевский, говорят, самолично приказал.
– А мы им что говорили! Разве их не предупреждали? – сильно огорчился Третьяк. И, подумав немного, сказал: – Надо, чтобы Кононыхин выступил перед бойцами и рассказал обо всем, что случилось… Пусть знают, чего стоят колчаковские обещания.
Вскоре после того, как ушел Акимов, явился фельдшер, быстрым взглядом окинул Третьяка, осматривать и выслушивать не стал – и так все ясно:
– Вам надо лечь. И немедленно. Третьяк обиженно отвернулся:
– А что это вы раскомандовались?
– Малярия у вас, товарищ комиссар. Вам надо лечь.
– А если не лягу?
– Тогда я вынужден буду пойти на крайние меры…
– Это что еще за меры такие крайние?
– Попрошу товарища Огородникова и товарища Акимова уложить вас силой, если слово фельдшера для вас ничего не значит.
– Силой меня не так просто… – буркнул Третьяк поеживаясь. – Ладно, пусть будет по-вашему, – тут же и согласился. – Меня и в самом деле что-то трясет.
В тот же день Третьяка перевезли в один из монастырских домов и поместили в небольшой чистенькой келье. Игуменья Серафима сама об этом позаботилась, сказав, что здесь ему будет лучше и выздоровеет он скорее. Его укрыли двумя одеялами, но он никак не мог согреться. Дрожь колотила, корежила тело. Потом унялась постепенно, и к вечеру поднялся жар…
Только на третий день Третьяк пришел в себя. Открыл глаза, обвел комнату не прояснившимся еще, мутным взглядом, пытаясь понять, где он и что с ним, увидел рядом сидевшую женщину, лицо которой тоже было неясно, точно в тумане, белый платок на голове сливался с белизною щек… Третьяк догадался: он болен, должно быть, а рядом сестра-сиделка…
– Вы кто? – И вдруг увидел, что женщина совсем еще молода, почти девочка и до того похожа на его родную сестру Соню, до того похожа, что в какой-то миг ему показалось, что это и есть сестра. – Соня? – спросил он, едва шевеля спекшимися губами, не слыша собственного голоса. Женщина вздрогнула и посмотрела на него удивленно и чуть растерянно. Он понял свою ошибку, притих. И долго потом ни о чем не спрашивал, а только следил за каждым ее движением и жестом, ловил взгляд и чувствовал – когда она рядом и смотрит на него, ему как-то теплее, уютнее и легче. Иногда она вставала и бесшумно выходила, неслышно прикрывая за собой дверь. И тогда он долго и неотрывно смотрел на эту дверь, испытывая непонятное и тревожное беспокойство: а вдруг она больше не вернется? Но она возвращалась, держа в руке чашку с водой. Разворачивала бумажный пакетик и высыпала ему на язык мучнисто-белый и обжигающе горький порошок. Он догадывался: хина. Сестра, все такая же молчаливая и строгая, поила его из маленькой фаянсовой чашки, питье казалось густым и теплым…
– Каким это зельем вы меня опаиваете? – устало и затаенно улыбнулся Третьяк. Она подняла на него большие синие глаза:
– Это бадановый настой.
Потом он уснул – крепко и без сновидений. А когда проснулся, ощутил необычную легкость, нигде и ничто не болело, даже горечь во рту исчезла. «Здоров», – радостно отозвалось в нем. Он попытался приподняться, и в тот же миг, чуть повернув голову, увидел сидевшую подле кровати, на табуретке, сестру, в белом платочке, со сложенными на коленях маленькими ладонями; у него шевельнулось в душе нежное и благодарное чувство к ней.
– Ты, наверное, устала? Постоянно около меня…
– Нет, нет, я уже отдохнула, – поспешно она возразила. – А вам еще нельзя вставать. Доктор не велел.
– Ах, этот доктор… – вздохнул Третьяк и помолчал. – Скажи, а как тебя зовут?
Она посмотрела на него, как бы испугавшись чего-то, и тихо ответила:
– Мавра.
Что-то знакомое послышалось в этом имени: «Мавра… Неужто это та самая Мавра? – удивленно подумал Третьяк. И вспомнил слова игуменьи: «А над сестрой Маврой надругались и те, и другие…» Так вот она какая, Мавра! – растерялся Третьяк. – Она же совсем еще дитя. Как же они могли ее тронуть? И как сумела она все это перенести? – смотрел на нее с горестным сочувствием. Хотелось как-то поддержать ее, помочь – но чем он мог ей помочь?
– Спасибо тебе, Мавра! – сказал Третьяк. – За все, что ты сделала для меня. – И, улыбнувшись, добавил: – А ведь ты и вправду похожа на мою сестру… – Потом долго молчал, и она молча сидела около него. – Скажи, Мавра, а давно ты здесь… при монастыре?
– Девятый год.
– Девятый? – удивился он. – Сколько же тебе лет?
– Восемнадцать… исполнится на покров.
– Выходит, полжизни своей ты здесь… И что же ты… так всегда здесь и жила? И не училась?
– Почему не училась? Окончила монастырское училище.
– Вон как, у вас училище есть? Понятно. А теперь… Вас больше ста человек, чем же вы занимаетесь? – поинтересовался.
– Работы много. Кто исполняет клиросное послушание, кто состоит при выделке свеч, а кто шьет, прядет, за скотом ухаживает, за пчелами…
– У вас и пасека есть?
– Все у нас есть, – как бы с вызовом ответила она. – Если б не эта смута… – живи да радуйся… А теперь вот все перевернулось. Люди веру теряют, друг друга топчут и убивают…
– Не все, Мавра, потеряли веру. Многие, очень многие несут свою веру в душе, борются за нее…
Мавра внимательно посмотрела на него:
– И вы тоже… верите?
– Верю, – сказал Третьяк. – Только верю я не в бога, а в человека.
Она с сомнением покачала головой:
– Люди злые, жестокие… они друг друга никогда не поймут. Вот господь и наказывает их за неверие…
– Но где же тогда великодушие и сила бога, если он не хочет помочь людям наладить жизнь?
– Не надо так, – вздохнула и попросила Мавра. – Грешно так думать, а не только говорить.
– Хорошо, – согласился Третьяк, – не будем об этом. – Однако немного погодя спросил: – А тебе, Мавра, никогда не хотелось уехать отсюда?
– Здесь мой дом, обитель моя… Куда мне ехать?
– Но это же добровольное заточение.
– Тело человеческое бренно, а душа вечна.
– Ах, Мавра, Мавра, откуда в тебе такая покорность? Откуда? Бросай все, пойдем с нами, – предложил вдруг. – Добрая ты, и руки у тебя вон какие добрые… В лазарете будешь работать. Пойдем к людям.
– Нет, – печально покачала она головой. – Ничего, кроме зла и обмана, в миру нет.
– Вот против этого мы и боремся… Пойдем.
– Нет, Иван Яковлевич, об этом и думать грешно.
– Что же ты будешь делать?
– Дел у нас много… Матушка игуменья сказала, что к рождеству меня облачат в рясофор.
– А сейчас ты кто… по вашим монастырским уставам?
– Послушница.
– Послушница… – задумчиво повторил Третьяк, с жалостью и состраданием глядя на нее и в то же время чувствуя бессилие свое перед ее фанатически твердой верой. – А мне, Мавра, хочется, чтобы свободной ты стала и счастье свое нашла не в затворничестве, а в жизни, среди людей… Понимаешь? Нельзя быть послушницей всю жизнь. Нельзя! Прости меня за этот разговор, но я добра тебе желаю. По тому что – в тебе добро вижу.
Мавра слушала, опустив глаза, будто отгородившись глухой стеной. И слова его – как горох об эту стену…
Днем зашел Бергман. Осмотрел Третьяка, выслушал и простукал тщательно:
– О, да вы уже молодцом смотритесь!
– Вашими стараниями, – польстил ему Третьяк. И на Мавру поглядел ласково. – И сестра у меня вон какая добрая и внимательная… Так что завтра надеюсь быть не только на ногах, но и на коне.
– Спешить не надо, – сказал фельдшер. – Дня три еще полежите.
– Нет, нет, товарищ Бергман, надо спешить.
И как ни пытались убедить его сначала фельдшер, а потом и Огородников с Акимовым, но ничего не вышло – Третьяк был тверд:
– Все! Належался. Хватит! Доложи-ка лучше обстановку, товарищ комполка.
– Обстановка, Иван Яковлевич, прежняя, – ответил Огородников.
– Будем выступать на Черный Ануй, или у вас другие планы за это время родились?
– Других планов у нас нет. Надо выступать. Только вот одна закавыка: слишком мало боезапасов. Четыре патрона на винтовку… Много с этим не навоюешь.
– И что же вы предлагаете? – спросил. Третьяк. – Сидеть и ждать? Так под лежачий камень, как известно, вода не течет. Будем добывать боезапасы в походе.
Утром семнадцатого сентября полк снялся со своего бивуака, в ущелье Загрехи, и двинулся на Лбу. Остался позади монастырский двор, блеснув напоследок соборными куполами. И Третьяку отчего-то стало грустно. Словно оставил он там, за бревенчатой стеной, потерял что-то дорогое и невосполнимое. «Мавра, – мелькнуло в памяти печальное и строгое лицо молоденькой послушницы, находившейся подле него несколько дней неотлучно. – Как она, что с ней будет?»
Обидно было Третьяку, что не сумел он убедить Мавру оставить свое затворничество и уйти к людям, среди людей искать свою судьбу, дорогу свою…
Ах, как это непросто, оказывается, найти свою дорогу!..
Полк двигался медленно, со всеми предосторожностями, и к вечеру достиг заимки, от которой оставалось до Абы верст пять. Однако решили переночевать здесь. Расставили посты, дорогу со стороны Абы – единственный удобный подход к заимке блокировал конный разъезд…
Третьяк не сомкнул глаз в эту ночь. Тревожно было. Густой туман висел над горами, звезд не было видно. И знобило его опять, пальто совсем не грело, да и болезнь, как видно, не отпустила еще окончательно. Третьяк держался изо всех сил, преодолевая слабость и недомогание. Утешал себя: «Ничего, окрепну в дороге».
Наутро, чуть свет, выступили – и с ходу, переполошив сонное село, заняли Абу.
Позже абинцы рассказывали о зверствах карателей, побывавших тут раньше, – Сатунина и Кайгородова со своим «туземным дивизионом»… Поведали и о том, что человек пятьдесят абинских мужиков и парней скрываются неподалеку, в малодоступных горных распадках. И Третьяк загорелся – во что бы то ни стало разыскать этих людей. Командир первой роты Афанасий Пимушин, тоже абинский житель, вызвался сопровождать комиссара, сказав, что места здешние ему хорошо знакомы.
Ехали вдоль Чарыша, по крутому берегу, обрывисто черневшему слева. Песок и мелкий камешник сыпался вниз из-под копыт лошадей и глухо, коротко всплескивал где-то под обрывом в едва различимой реке… Пахло сырой древесиной. Холодом тянуло снизу. Когда же свернули и отъехали в сторону от реки, углубляясь в лес, воздух потеплел и сделался ощутимее.
Вскоре остановились. И Пимушин тихо сказал:
– Ждите меня здесь, товарищ комиссар.
– Не заблудишься? – спросил Третьяк, удивляясь тому, как уверенно и безошибочно ориентируется он в ночном лесу.
– Ну, что вы! Тут я и с завязанными глазами куда хошь выйду…
Пимушин уехал. А Третьяк, не слезая с коня, остался ждать. Конь похрустывал травой, медленно жевал и время от времени всхрапывал, позвякивая удилами. Третьяк вглядывался в темноту, прислушивался. И опять вспомнил Мавру – второй день не выходила она из головы; жаль было эту молоденькую послушницу, как сестру, жаль. Хотел помочь ей, но она решительно отвергла его помощь, а может, и не нуждалась в ней, а счастье свое видела и находила в другом… Вот ведь и он. Иван Третьяк, если посмотреть на него со стороны, тоже не сладкой судьбы человек: рано познал нужду, тяжкий труд, гнул спину за кусок хлеба, а потом долгие годы скитался на чужбине. Тридцать пять лет стукнуло мужику, а у него – ни жены, ни детей… ни кола ни двора! Выходит, не задалась жизнь? «Ну, нет, – подумал Третьяк, не соглашаясь и как бы споря с самим собой. – Мое счастье – в борьбе. И пока не добьемся полной победы над врагами революции – нет и не будет для меня другого счастья».
Последние слова он, кажется, произнес вслух. Конь вскинул голову и насторожился. Тотчас где-то неподалеку, справа, раздался шорох, послышались тихие, приглушенные голоса… И вскоре подъехали два всадника.
– Парламентера вам привез, товарищ комиссар, – весело сказал Пимушин. – Они тут, между прочим, неплохо устроились. Вот Егор Жуков за командира у них…
– Понятно. И долго они собираются отсиживаться в горах?
– Обстановка подскажет, – подал голос Жуков.
– Неужто обстановка ничего другого вам не подсказывает?
Жуков покашлял сдержанно и промолчал, должно быть, не понял вопроса.
– Сколько человек в отряде? – спросил Третьяк.
– Да какой там отряд… пятьдесят человек.
– Какой ни есть, а все же отряд. А у нас в полку – четыреста тридцать. Вот и посчитай, сколько будет, если и вы присоединитесь. Грамотный?
– Считать умею. Но, думаю, все это пустое…
– Как это – пустое?
– А так, – простуженно-низким голосом говорил Жуков, – у них под ружьем тысячи, у беляков-то, и вооружение – не чета нашему…
– И что же теперь? Могилу себе заживо копать? Хоро-ош парламентер! – насмешливо сказал Третьяк, жалея, что не может в темноте как следует разглядеть лицо Жукова. – Нет, паря, – вклинил поглянувшееся сибирское словечко и повторил, будто вслушиваясь в него, – нет, паря, с таким настроением далеко не уедешь. Остальные так же думают?
– За остальных не ручаюсь.
– Хм… не ручаешься? – удивился Третьяк. – Тогда чего же мы воду в ступе толчем? Вот что, – чуть поразмыслив, предложил, – поедемте-ка в отряд, там и решим сообща. Поедем, поедем, паря, погляжу, как вы там устроились…
А где-то ближе к полночи абинский отряд вернулся в село.
Здесь, в Абе, полк пополнился не только людьми, но и запасами продовольствия. Жители Абы и окрестных деревень делились с повстанцами всем, чем могли. Многие партизаны разжились тут и теплой одеждой – шапками, полушубками, сапогами… Не забыли и о своем комиссаре.
Утром, перед выступлением полка из Абы на Пономареве, в избу, где размещался штаб, заглянул командир первой роты Пимушин и поманил глазами Акимова; тот, вопросительно глянув, кивнул и вышел. А через минуту вернулся, держа в руках огромную собачью доху и меховую ушанку.
– Вот, Иван Яковлевич…
– Что это? – недоумевающе смотрел Третьяк.
– Подарок абинцев. Берите, берите, они ведь от всей души… обидятся, если откажетесь. Они, как узнали, что вы недавно малярию перенесли, так сразу и порешили: одеть вас потеплее. Так что позвольте вручить вам, товарищ Третьяк, от имени абинского населения…
– Ах, язви тебя! – воскликнул растроганный Третьяк и, помедлив, принял подарок. – Дак в этой дохе мне теперь никакой холод не страшен… Ну, паря, удружили!..
Все находившиеся тут засмеялись сибирскому «говору» Третьяка, однако, не только этому, но и тому, что крестьяне многих деревень все больше и больше поддерживают Советскую власть, примыкают к большевикам, а это поднимало дух и обнадеживало.
Не доходя верст семь до Пономарева, на крутой седловине, столкнулись с небольшим отрядом местных повстанцев – те заметили приближение полка, поняли, что это партизаны, и сами вышли навстречу. Командиром отряда был молодой коренастый человек, с лихо закрученными рыжеватыми усами. Он подъехал и коротко представился:
– Буньков.
– И кого ж вы тут представляете? – поинтересовался Огородников. Буньков несколько даже обиделся:
– Советскую власть. Нас тут шестьдесят семь человек. Имеем двадцать винтовок, один неисправный «шош», остальные кто с чем – вилы, пики, дробовики… А вы, как видно, идете на Пономарево?
– Другого пути у нас нет.
– Смотрите, – предупредил Буньков. – Пономарево занято казаками – больше двухсот человек. Три пулемета у них – и патронов за глаза. Идти на них в лобовую опасно – посекут, как капусту.
– Ну головы у нас не кочаны, – вмешался в разговор Третьяк. – И подставлять их просто так, сдуру, мы не собираемся. А вы что советуете?
Буньков посмотрел на Третьяка и понял, чутьем угадал, что этот человек в лохматой меховой шапке, с красной лентой наискось, и есть тут главное лицо – такой уверенностью, твердой и властной силой веяло от всей его могучей фигуры. Буньков подумал немного:
– Есть тут один проход… через ущелье.
– А что ж вы сами им не воспользовались? – усмехнулся Огородников, как бы тем самым ставя его слова под сомнение. Буньков обиженно дернул плечами и выпрямился в седле:
– Если б мы располагали достаточными силами… Хорошо, – сказал Третьяк, оставляя без внимания эту короткую перепалку. – Покажите нам этот проход.
Вечером партизаны прямо-таки, как снег на голову, свалились на казаков, и те, яростно и беспорядочно отстреливаясь, вынуждены были оставить село, побросав много оружия и боеприпасов. Победа (пусть небольшая, но все же победа) приободрила партизан, и все разговоры в этот вечер сводились неизменно к одному – какого перцу подсыпали они казачкам, небось и до сих пор бегут они и не могут остановиться!.. Третьяк радовался вместе со всеми. И бодрым, уверенным голосом говорил собравшимся в штабе командирам:
– Главное, товарищи, поверить в то, что и мы умеем побеждать. А теперь – вот я о чем хотел с вами посоветоваться: известно, что в Черно-Ануйском районе действует много разрозненных повстанческих групп и мелких отрядов, каких мы немало встретили и на своем пути… Действуют они каждый сам по себе, на свой страх и риск, подчас не сообразуя свои действия с общей обстановкой. Это плохо. И наша первейшая задача – объединить эти отряды, сформировать из них боевую единицу.
***
А вечером того же дня случилось вот что. Местные жители рассказали о том, что на горе Фуфалка, верстах в пяти от Пономарева, скрывается небольшой отряд не то коргонских, не то бащелакских мужиков. И Третьяк, узнав об этом, опять загорелся: надо разыскать. Взял с собой проводника и немедля отправился на Фуфалку, скалистые склоны которой густо темнели и щетинились пихтачом.
Вернулся на этот раз не скоро. Огородников начал уже беспокоиться, хотел было послать разведчиков на поиски Третьяка, когда наконец и он появился, веселый и возбужденный больше обычного – во главе отряда в семнадцать человек…
– Принимайте пополнение!
Огородников промолчал. А когда остался наедине с комиссаром, хмуро и недовольно сказал:
– Должен вам заметить, Иван Яковлевич, что рискуете вы зачастую напрасно. Стоило ли вам самому лезть в горы… из-за каких-то семнадцати человек?
– Стоило. Стоило, товарищ Огородников! И потом, не забывай, язви тебя, – засмеялся тихонько и тронул Огородникова за плечо, – не забывай, что я комиссар по формированию повстанческой армии… Это мой долг.
Ранние холода беспокоили партизан, мало готовых к этому. Кто же мог предположить, что кампания затянется до зимы? Надеялись управиться по теплу, а выходило, что и зиму придется прихватить. А воевать зимой да еще в седле – дело непростое, а для многих и вовсе непривычное И самим нужно хорошо одеться, провиантом запастись, и лошадей накормить – фуража потребуется немало.
Третьяк понимал, что в создавшейся обстановке, когда повстанческие силы каждодневно растут и пополняются, а в то же время при первой неблагоприятности могут они, эти силы, и рассыпаться, выйти из-под контроля, – в такой обстановке важно сохранять боевой дух армии. Вот почему и возлагал он большие надежды на соединение с черноануйскими повстанцами. Выход на Черный Ануй, как он думал, позволит решать задачи уже в более широких масштабах… И теперь многое зависело от успешной операции партизанских полпредов Чеботарева и Пимушина, от которых не было пока никаких известий. В полку беспокоились: а вдруг не дошли? Прошло еще несколько дней. И вот наконец на исходе недели короткое и радостное донесение: «В урочище Тукуш сформирован второй партизанский полк. Командиром избран товарищ Какорин. Ждем поддержки».
В тот же день огородниковский полк вышел из Пономарева и к вечеру был в Тележихе. Год назад через это село, удобно разместившееся в глубокой горной впадине, проходил отряд Петра Сухова, пытаясь вырваться из вражеского кольца, достичь Уймонского, а затем и Чуйского тракта… Однако дошли только до Тюнгура. И здесь приняли неравный бой с отборными частями полковника Волкова[6]6
Полковник Волков вскоре после тех событий окажется в Омске, где примет активное участие в «перевороте» 18 ноября, осуществив лично, вместе с другими офицерами, арест главы Директории Авксентьева.
[Закрыть] – и полегли почти все, до конца исполнив свой долг. Рассказывали, что сам Петр Сухов, израненный весь, исколотый штыками – живого места на нем не было, – держался твердо и мужественно до конца: «Меня вы убьете, но революцию вам не убить!» – были его последние слова.
Здесь, в Тележихе, полк принял в свои ряды еще сорок добровольцев. И наутро двинулся дальше.
Когда миновали хутор Колбиновский и свернули на Топольное, впереди произошло какое-то замешательство. Колонна остановилась. И задние не знали, что там делается впереди, в головной части.
Третьяк, ехавший в штабной повозке, тотчас пересел на своего коня и, пришпорив, поскакал обочь дороги, запруженной всадниками и повозками, туда, где происходило что-то непонятное. Огородников и Акимов гарцевали там перед сбившимся в кучу авангардом и что-то говорили, размахивая руками, пытаясь, наверное, кого-то и в чем-то убедить…
– Почему остановились? – подъехал Третьяк.
– Да вот, – срывающимся от возмущения голосом объяснил Огородников. – Отказываются дальше идти.
– Как отказываются? Кто?…
– Да мы не то чтобы отказываемся… – выдвинулся вперед, отделившись от группы всадников, рыжеусый широкоплечий человек, и Третьяк тотчас узнал Бунькова. – Воевать за Советскую власть мы не отказываемся, – быстро и горячо проговорил Буньков, поглаживая гриву коня. – Если понадобится, головы за нее сложим… Только уходить далеко от своей деревни мы не хотим. Кто ее защитит?
– Старую песню поешь, Буньков, – перебил его Огородников. – Много ты защищал свою деревню, когда отсиживался в горах? А каратели тем временем грабили, пороли и убивали твоих односельчан…
– Товарищи! – поднял руку и привстал на стременах Третьяк, обращаясь к встревоженно гудевшему, поломавшему ряды авангарду. – Товарищи, сегодня, как никогда, ваша ошибка может оказаться роковой. Поймите: нам сейчас нельзя порознь. Чтобы защитить Советскую власть, нужны крупные силы, необходимо единство. Сегодня, как вы знаете, мы идем на соединение с черноануйским партизанским полком, только что, три дня назад, сформированным. Завтра наши силы удвоятся. А послезавтра они возрастут втрое, вчетверо, удесятерятся… если сегодня вы не вернетесь с полпути! – говорил он взволнованно, страстно и с такой убежденностью, с такой верой в правоту своих слов, что настроение его невольно передавалось и другим. И партизаны притихли, слушая Третьяка, постепенно остывая, успокаиваясь и выравнивая ряды. Буньков тоже спятил коня и пристроился на правом фланге, заметно смущенный и недовольный собой.
– Ладно, дойдем до Топольного, а там поглядим…
Полк тронулся наконец. Горы придвинулись вплотную, нависая тяжелыми серыми глыбами, местами сжимая дорогу с обеих сторон каменными тисками, так что приходилось на ходу перестраиваться, растягиваясь еще больше, и ехать в этих теснинах с удвоенной осторожностью.
Оставалось несколько верст до Топольного, когда вернулась разведка и доложила: противника в селе нет. Акимов, однако, предупредил: есть противник или нет его в данный момент, а с топольнинцами ухо держать надо востро – народ там сплошь старообрядческий, кержаки, живут зажиточно, каждый себе на уме…
Бурливый Ануй, вдоль которого двигался полк, и привел вскоре в Топольное.
Большое кержацкое, село насчитывало без малого полтысячи дворов – и почти все они, эти дворы, что пасхальное яичко, крепенькие и обихоженные. Война как будто стороной обходила Топольное. А вернее сказать, топольнинцы сами изощрялись обходить войну, держались особняком, не вмешиваясь ни во что и как бы не замечая происходящих вокруг событий, чем и заслужили доверие колчаковцев. Топольное считалось одним из самых «благонадежных» сел. Сюда если и заходили белогвардейцы, так только затем, чтобы отдохнуть, погулять, пополнить продовольственные запасы – и, не уронив ни единого волоска с топольнинцев. уйти дальше. А рядом, поблизости, каратели жгли и убивали – и не далее, как три дня назад, спалили дотла соседние деревни Барагаш и Белый Ануй. Ветром доносило оттуда запах паленины, человеческие стоны и крики, но топольнинцы оставались глухи…
Как только полк вошел в Топольное и расположился на отдых, Третьяк тотчас, не откладывая на завтра, приказал созвать на сход все взрослое население. Оказалось это не просто. Народ собирался медленно и неохотно. Разыскали старосту. Плотный бородатый мужик средних лет, по фамилии Закурдаев, угрюмо смотрел исподлобья. Третьяк спросил у него, сколько в селе мужиков и парней, способных держать в руках оружие.
– А хто ж его знает, – вильнул глазами Закурдаев. – Пошшитать надо.
– Придется посчитать, – сказал Третьяк. – А то вы тут как будто и не слыхали о существовании Советской власти.
– Супротив Советской власти мы ничего не имеем…
– Однако ж и Советская власть ничего от вас не имеет. Чем вы ей помогли? А колчаковцев, как нам известно, снабжаете щедро. Или не так?
Закурдаев пожал плечами, угрюмо глядя в сторону:
– То дело принудительное. Ежели такое дело, дак мы и вас снабдим…
– Спасибо, – усмехнулся Третьяк. – Но сегодня вопрос стоит иначе. Сегодня вы должны решить вопрос не двояко, – продолжал он, обращаясь уже ко всем собравшимся на площади топольнинцам. – Сегодня так: либо вы примыкаете к нам и оказываете полную поддержку, либо завтра колчаковцы повернут вас против Советской власти… если еще не повернули. Вот и решайте: с кем пойдете?
Топольнинские мужики мялись, переглядывались, оживленно и горячо переговаривались между собой – и вытолкнули наконец вперед того же Закурдаева: говори, мол, за всех, на то ты и староста… И Закурдаев, надвинув шапку на лоб, огляделся по сторонам, будто кого отыскивая, и глуховато, но все же достаточно громко объявил, что топольнинцы, которые могут держать в руках оружие, примкнут к партизанам и внесут свою лепту в общее дело… Было в этих словах – «внесут свою лепту» – что-то неискреннее, половинчатое, как показалось Третьяку, сказанное не от души, а как бы вынутое из-за пазухи…
– Сколько человек вы можете выделить? – спросил Третьяк. – И сколько у вас оружия?
– Сотни полторы мужиков, полагаю, наберется, – прикинув в уме, ответил Закурдаев. – Найдется и оружие.
Договорились: на сборы – одна ночь. А утром, ровно в девять, добровольцы являются на площадь – верхами и с полной выкладкой, откуда вместе с полком и уже в его рядах отправятся дальше.
Утром, однако, ни к девяти, ни к десяти топольнинцы не пришли. Разыскали опять Закурдаева.
– Где же ваше ополчение? – глянул на него Третьяк.
– Не поспели, якорь их задери… – притворно вздыхал, почесывая затылок, староста. – Делов по горло – хозяйство ж так не бросишь. Отсрочки мужики просят до завтрева…
– Жаль, гражданин Закурдаев, что дела ваши расходятся со словами… Очень жаль!..
Закурдаев почуял в тоне Третьяка жесткость и даже угрозу, вильнул глазами и поспешно заверил:
– Завтра – как штык. Сам займусь этим делом…
– Полк уходит сегодня.
– Догоним… непременно догоним, – вильнул опять глазами. – Кони у нас добрые.
– Кони-то добрые, только нас больше интересуют люди.
Часу в одиннадцатом полк оставил Топольное и двинулся по тракту – на Черный Ануй. Настроение у многих было мрачное и подавленное. Случай с топольнинскими «добровольцами» подействовал удручающе и на Третьяка В первый момент он даже растерялся, не зная, что пред принять и как поступить в этом случае… Теперь немного успокоился, обдумал все и решил, что где-то он, комиссар Третьяк, допустил просчет, проявил слабость и не довел дело до конца.
А тут еще Буньков подлил масла в огонь:
– Вот видите, как оно получается, товарищ комиссар? Не захотели – и не пошли. И никто им не указ…
Третьяк посмотрел на него строго и ничего не сказал Проехали еще немного. Вдруг Третьяк повернул коня, съехал на обочину и приказал остановить полк.
– Зачем? – не понял Огородников, негодуя в душе, хотя и не показывая виду на то, что он числится командиром полка, а командует Третьяк – последнее слово за ним. «Если и дальше так пойдет – пользы от этого будет мало», – подумал Огородников. И переспросил: – Зачем останавливаться?
– Есть соображение, – сказал Третьяк. – Надо выделить один взвод и немедля вернуться в Топольное.
– Только что из Топольного… Что мы там забыли? Третьяк озабоченно помолчал.
– Забыли кое-что. Ушли оттуда, как говорится, не солоно хлебавши.
– И что же теперь?
– Теперь надо вернуться, – твердо сказал Третьяк. – И провести поголовную мобилизацию.
– Это как мобилизацию?
– Как и положено: по приказу штаба полка. Призовем всех способных держать в руках оружие… в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет. Теперь, когда начинаются решающие схватки с врагами революции, полагаться только на добровольцев недостаточно, – пояснил. – Защита Советской власти – дело всеобщее.
– Но и полк засорять такими людьми, как топольнинцы, нежелательно, – возразил Огородников. – Да и небезопасно.
– Опаснее будет другое, – настаивал Третьяк, – если топольнинцы соберутся завтра и ударят нам в спину. Допускать этого нельзя. А с мобилизованными будем вести разъяснительную работу. Найдутся и среди топольнинцев люди с пониманием…
***
Отрядили взвод под командованием Акимова. И тот блестяще выполнил приказ. Около трехсот топольнинских мужиков и молодых парней были в тот день мобилизованы.
Правда, когда Акимов догнал полк, выяснилось, что среди мобилизованных – немало старше, а иные младше «призывного» возраста… В спешке Акимов перестарался. Пришлось исправлять ошибку – и человек семьдесят отпустили домой. Остальные же были рассеяны по взводам и эскадронам.
Поздно ночью, 23 сентября, полк Степана Огородникова подошел к Черному Аную, остановился верстах в трех и стал ждать донесений разведки. А часа через полтора стало известно: Черный Ануй еще вчера был занят частями Второго партизанского полка. Разведчики предупредили ануйцев о приближении огородниковского полка. И вскоре навстречу ему выехали Какорин, Чеботарев и Пимушин…
Радость, которую испытывали в этот момент бойцы обоих полков, была неописуемой. Еще бы, такие силы собрались вместе! Казалось, ничто их теперь не сможет остановить, никакие другие силы… Чуточку опьяненные первыми успехами, многие и не предполагали, что главные бои, самые тяжелые испытания еще впереди и что белогвардейцы, хорошо осведомленные о продвижении и формировании партизанских полков, тоже не дремали, а спешно стягивали основные силы и закреплялись на самых важных участках Горного Алтая, преимущественно по Чуйскому тракту,[7]7
Чуйский тракт в то время представлял из себя колесную дорогу, начинался в Бийске и проходил черен селения Катунское, Смоленское, Старая Белокуриха, Алтайское, Сарасы, Черга, Мыюта, Шебалино, Тонуча, Теньга, Туэкта, Онгудай, Хабаровка, Малый Яломан, Усть-Иня, Чибит, Курай, Кош-Агач и пограничный Юстыд. Позже будет осуществлен проект Шишкова – и новый тракт пройдет несколько иным путем.
[Закрыть] который они держали под особым контролем… Черный Ануй, по существу, находился в кольце. Казачья линия опоясывала его, и эта петля в любой момент могла захлестнуться намертво – казаки яростно и безоглядно поддерживали в те дни колчаковскую диктатуру. Кроме регулярных белогвардейских частей, действовавших по всему Горному Алтаю, немалую силу представляли добровольческие дружины, сформированные из кулаков и других контрреволюционных элементов, в том числе и алтайцев, обманутых и спровоцированных наглой пропагандой всевозможных военспецов и политических авантюристов, вроде Сатунина, Анучина, Кайгородова… Последний в те дни как раз вернулся из Омска. Вернулся, можно сказать, на белом коне и с «благодарностью» Колчака за формирование, так называемого, «туземного дивизиона». Случай же, заставивший Кайгородова искать защиту у самого верховного правителя, сам по себе заурядный, каких в то время было немало: однажды, будучи в Бийске «по делам службы», подъесаул сильно подгулял, столкнулся на ночной улице с комендантским патрулем, вступил в «пререкания», оскорбил чешского офицера, был задержан и вскоре… разжалован «военными властями» в рядовые. Протрезвевший Кайгородов был возмущен: как, его, полного георгиевского кавалера, защитника туземного населения – в рядовые? И кинулся за поддержкой в Омск. Адмирал принял «разжалованного» карателя приветливо, обещал дело уладить, советовал не придавать этому пустяку большого значения, а главное – направить и употребить свои силы на то, чтобы поднять на борьбу с большевизмом весь Горный Алтай, все туземное население… И Кайгородов помня «отеческий» наказ адмирала, особенно старался в эти дни – уймонским повстанцам все труднее и труднее становилось сдерживать натиск хорошо вооруженного «туземного дивизиона».







