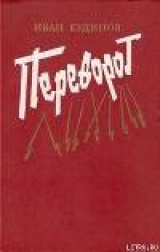
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Семенов проследил взглядом за этой немой сценой и усмехнулся. Маруся, так же неслышно и мягко ступая по ковру, с достоинством удалилась.
– Как долго намерены вы, генерал, задержаться в Чите? – поинтересовался Семенов, когда Маруся закрыла за собою дверь.
– Мне сейчас трудно сказать, – отпив чаю из стакана, ответил Катанаев. – Все будет зависеть от обстоятельств, выяснение которых, прежде всего, важно для комиссии…
Семенов опять усмехнулся, на этот раз усмешка была иронически-недоброй, губы слегка покривились:
– Не боитесь, генерал… зря время потратить?
– Постараюсь провести его с пользой для дела. В мои годы разбрасываться временем грешно…
Молчаливо сидевший до этого у дальнего окна есаул кашлянул, как бы напомнив о себе. Генерал глянул на него, роль есаула оставалась загадкой… Впрочем, он тут же и забыл о нем, повернулся к атаману:
– Скажите, полковник, вы получили мое письмо?
– Да, – кивнул Семенов после некоторого колебания, словно раздумывая – сказать правду или утаить. – Получил.
– И решили не отвечать. Почему? Семенов изобразил на лице удивление:
– Как, разве я не ответил? Письмо послано было с курьером, – врал теперь откровенно, почти не скрывая этого. – Видимо, вы разминулись…
Катанаев откинулся на спинку кресла, как бы отодвигаясь и разглядывая атамана издалека. Они помолчали. На дворе, под окнами, кто-то весело и взахлеб рассказывал: «Атаман, значица, и приказал: всех, грит, краснюков под корень, штоб духу их не осталось! Ну, поставил я энтих граждан к стенке и сымаю, значица, последний и решительный допрос: признавайтесь, красные шкуры, где находятся главные ваши силы? А они мне: красными были, красными и останемся, а штобы своих выдавать – извините! А я им: нет, грю, шиш, красными вы у меня не останетесь, я вас мигом сделаю беленькими, как снег, а все красное выпущу подчистую…» Другой голос поинтересовался: «Побелели?»
Под окнами дружно засмеялись.
«А в другой раз атаман приказал…» – продолжал первый рассказчик. Есаул постучал согнутыми пальцами по стеклу и погрозил кому-то кулаком. Голоса смолкли.
Катанаев спросил:
– Насколько я понимаю, полковник, позиция ваша остается прежней? И вы не хотите сближаться с людьми, которые стремятся водворить в России спокойствие и порядок? – Имени адмирала он почему-то не называл, полагая, видимо, что это само собою разумеется. – Мне эта позиция не совсем ясна.
– А что же тут неясного? – пожал плечами Семенов. – Да, я действительно не хочу, не желаю сближаться с людьми, которые сами же и отдалили меня своими действиями. И до тех нор позиция моя будет неизменной, пока эти люди, – продолжал зло и обиженно, – не отменят приказ под номером шестьдесят… Кого я имею в виду, надеюсь, пояснять не надо? Что касается порядка, могу заверить вас, генерал: порядок в Забайкалье, как нигде, установлен железный.
– Речь идет о единстве, – уточнил Катанаев. – И адмирал именно этого добивается.
– Откуда вам знать, генерал, чего он добивается? Лично мне это неизвестно. А посему я предпочитаю держаться от него подальше…
– Но это невозможно! Адмирал – верховный правитель России.
– Нас это не касается.
– Разве Забайкалье – не часть России?
– Забайкалье, генерал, это Забайкалье. Кстати, с адмиралом мы уже встречались…
– Весной прошлого года? Кажется, в мае…
– Да. Как раз на Николу. Праздновали мои казачки, а тут и он явился, адмирал… Задаток привез.
– Какой задаток? Известно, что адмирал по поручению управления Восточно-Китайской железной дороги привез для вас триста тысяч рублей. А вы их не взяли.
– А зачем они мне? И потом, Колчак приезжал не по поручению железной дороги, а по поручению генерала Хорвата, возглавлявшего в то время в Харбине… какое-то российское правительство. И я сказал адмиралу прямо: в подачках Хорвата не нуждаюсь. Вот с тех пор адмирал и затаил обиду…
– Насколько мне известно, лично к вам адмирал не питает никаких антипатий.
– Зачем же он оклеветал, оплевал меня публично, назвал изменником? – голос его дрогнул, сорвался. – Кому я изменил? Казачеству? Нет. Отечеству? А может, адмиралу? Так адмирал – это еще не Отечество. И я не намерен идти на поклон к адмиралу… До тех пор, пока он не отменит свой приказ. Вот моя сатисфакция. Скажите, генерал, а вы на моем месте поступили бы иначе?
– Да. Иначе.
– Вот как! – несколько смешался Семенов и удивленно посмотрел на Катанаева. – И как бы вы поступили?
– Поступил бы, как должно поступить человеку военному. Как это сделал в свое время генерал Корнилов…
– А как он сделал?
– Лавр Георгиевич, как вам известно, тоже наш сибирский казак. И уж он-то, поверьте, располагал гораздо большими возможностями, чем вы, полковник, чтобы летом семнадцатого, будучи главковерхом, не исполнить приказ Керенского о передаче командования генералу Алексееву. Но Корнилов, уважая закон, совестью не поступился…
– Однако ж и не сидел сложа руки, – усмехнулся Семенов, задетый словами Катанаева. – И приказа Керенского, насколько мне известно, исполнять не собирался, а двинул войска на Петроград, чтобы установить там свою диктатуру. Не удалось? Это другой разговор. Простите за резкость. Лично вас, генерал, я глубоко уважаю. А потому удивляюсь: зачем вы, заслуженный и честный казак, согласились заниматься этим скользким делом? Адмирал заварил кашу, пусть он ее и расхлебывает.
– Потому и согласился, что считаю своим долгом во всем объективно разобраться.
Семенов задумался. Последние слова генерала чем-то тронули его, и он после паузы неожиданно мягко сказал:
– А я вас ждал, Георгий Ефремович. Хотя время не терпит. Я еще три дня назад собирался уезжать. Хочу побывать в Харбине у более сведущих врачей… Нашим читинским эскулапам лошадей только лечить.
– Вы больны, полковник? – удивился Катанаев, глянув на пышущее здоровьем лицо атамана.
Семенов не ответил. Есаул, сидевший подле окна, скрипнул стулом, поднялся, напомнив о себе еще раз. Катанаев тоже встал, считая разговор оконченным.
– Благодарю за беседу, полковник. Рад был с вами познакомиться.
Семенов усмехнулся:
– Ну, радость, я думаю, не большая. Но что поделаешь…
– Встретимся на ужине у генерала Оаба. Надеюсь, вы будете?
– Нет, к сожалению, на ужине я не буду. Сегодня вечером я уезжаю. Так что встретимся теперь не скоро, генерал…
– В таком случае прошу пожаловать к шести в наш вагон. Нужно уточнить еще кое-какие детали. Очень важные, – добавил, видя, что Семенов колеблется. – И для вас, полковник, и для меня.
– Хорошо, – кивнул Семенов. – Зайду.
Правда, зашел он не к шести, как условились, а в половине седьмого. И пробыл не более десяти минут. До отправления поезда оставалось полчаса, и атаман спешил.
Не успели тремя словами обмолвиться, как явился полковник Куросава – сама вежливость, улыбка во все лицо. Семенов мельком глянул на него, едва кивнув, и отвернулся.
– Ну что ж, генерал, мне пора. Извините, если что не так…
Атаман попрощался и вышел.
Куросава торопливо заговорил: если генералу необходимо, чтобы Семенов находился сейчас в Чите, пусть генерал скажет. Еще не поздно. И генерал Оаба попросит атамана остаться… – Слово «попросит» полковник произнес с подчеркнутой интонацией и чуть приметной усмешкой. – Генерал Оаба попросит – и атаман останется.
Катанаев сухо ответил:
– Благодарю. Но такой необходимости нет.
***
Теперь было ясно: Забайкалье – вне сферы влияния адмирала. Здесь, в Чите, отношение к верховному правителю было совсем иным, чем в Омске или даже в Иркутске. Хотя положение Колчака в начале девятнадцатого года казалось прочным, особенно в Западной Сибири и на Урале. И особенно после того, как войска адмирала, совершив накануне рождества победоносный рейд, захватили Пермь. Правда, освободить Вятку не удалось, но это, как считал адмирал, неудача временная… Он верил, что Сибирская армия иод командованием генерала Гайды и Западная – под командованием Ханжина к весне очистят Поволжье и выйдут на соединение с войсками Деникина… А дальше? Дальше – на Москву! Час вожделенной победы казался столь близким, а мысль о полном освобождении России от большевизма была столь горячей и неотступной, что порой заслоняла собою все остальное.
Подогревалось это еще и союзниками, войска которых размещались на всем… жизненном пространстве – от Архангельска до Владивостока. Англия, Франция и Америка были не меньше Колчака заинтересованы в искоренении большевизма в России, зараза которого грозила распространиться и за ее пределы… А это ни к чему! Япония, хотя и держалась несколько особняком, но портить общего вида тоже не хотела. Потому и конфликт между верховным правителем и атаманом, двумя «патриотами России», японцы приняли близко к сердцу, как будто речь шла не о судьбе Сибири а о судьбе острова Хоккайдо.
Особенно старался генерал Оаба. При каждой встрече с Катанаевым он твердил:
– Не время сейчас для сведения личных счетов. Не время!
Все сводится к одному: кто первым должен сделать шаг к примирению – Колчак или Семенов?
– Полагаете, что шаг этот должен сделать адмирал? – спросил Катанаев. – Но разве самоуправные действия атамана дают повод к этому шагу?
Оаба не отрицал этих действий и атамана как будто не оправдывал.
– Да, да, генерал, вы правы. Но всякий шаг милостивого внимания со стороны адмирала, – говорил витиевато и длинно, словно в лабиринте запутанных коридоров искал выход, – всякое снисхождение человека, облеченного всероссийской властью, к невольным проступкам и упрямству атамана принудили бы последнего изменить свое поведение…
Катанаев спросил:
– Считаете, что адмирал должен отменить свой приказ?
Оаба улыбнулся:
– Адмиралу виднее.
***
Омск выглядел благополучно. Как и прежде, верховный правитель устраивал ежедневные приемы иностранных миссий, представителей военно-промышленного, торгово-промышленного, биржевого комитетов, национальных меньшинств и других всевозможных делегаций… По улицам Омска сновали автомобили с английскими, французскими, американскими эмиссарами. Всех волнует судьба России. Все хотят ей помочь…
Даже тибетский Далай-лама счел нужным нанести визит адмиралу: «Можем ли мы быть полезными России?»
Россия многим не дает покоя.
Лишился сна военный министр Англии. Антивоенные настроения в английских войсках беспокоили и вынуждали предпринимать новые шаги. Забраться в глубь России заманчиво, конечно, но и опасно. «Нет, нет, – решает Черчилль, – дальше Мурманска и Архангельска не пойдем!»
Однако позже отменяет это решение. Аппетит приходит во время еды.
«Водная, неустроенная Россия! – вздыхает стареющий американский президент, сидя в роскошном кабинете своего White House.[5]5
Белого дома.
[Закрыть] – Как ей помочь?»
Президента осеняет мысль: обратиться к правительствам России с призывом о перемирии… Но сколько там сегодня этих «правительств», никто толком не знает. Не то десять, не то пятнадцать… «Многовато для одной страны», – думает президент… и призывает российские правительства к перемирию, к созыву мирной конференции. Главное, – диктует он свои условия, – главное, всем оставаться на своих местах. Иными словами, на той территории, которую занимают они к моменту этого обращения и на которую распространяется влияние того или иного правительства… В любом случае, рассуждает президент, если удастся инспирировать (а попросту говоря, протащить) эту идею, американцы, верные союзническому долгу, внакладе не останутся и долю свою получат…
Колчак недоволен «зигзагами» американского президента. Как же так? Прошло всего несколько дней, как он, верховный правитель, подписал приказ о назначении Жанена главнокомандующим, а сегодня… сегодня он, адмирал русского флота и единственный законный правитель России, должен сесть за общий стол… с кем? Может, с атаманом Семеновым? Или, хуже того, с большевиками, которые, как стало известно, предложение Вильсона приняли. Еще бы не принять! Впрочем, все это надо еще уточнить… Адмирал горячился и не слишком выбирал выражения:
– Да он что там, Вильсон, белены объелся? Или не нашел ничего другого, как о себе заявить? Глупость. Уловка. И я не пойду на это никогда! – говорил он Вологодскому. – Особенно сейчас, когда на всех главных направлениях мы наступаем, нам это пи к чему.
Вошел адъютант. Доложил, что прибыл и ждет аудиенции представитель американской миссии сэр…
– Скажите сэру, что я занят сейчас и принять его не могу, – резко перебил его адмирал. Потом он молча, упрямо ходил по кабинету, от стола к двери и обратно, постепенно успокаиваясь и обретая равновесие. Успокоился. Вызвал адъютанта. И уже совсем другим тоном спросил:
– Американец все еще здесь? Пусть войдет. Адмирал горячий человек. Но и отходчивый.
***
Между тем генерал Катанаев доносил из Читы: «Законные требования комиссии открыто игнорируются людьми Семенова. Свидетели по делу (даже из лиц, занимающих высокое служебное положение) настолько запуганы карательными мерами семеновских чинов и самого атамана, что давать какие-либо показания решительно отказываются, ограничиваясь лишь общими словами. Забайкалье объявлено на военном положении. Атаман Семенов пользуется здесь неограниченной властью. Ослушаться атамана – значит, потерять голову. Газеты «Забайкальская новь», «Русский Восток» и «Наш путь» также находятся в руках атамана, печатают только то, что выгодно ему. Имя верховного правителя здесь предано молчаливой анафеме. Ни слова не было сказано в газетах и о прибытии комиссии… В виду столь конфузного положения просим принять срочные меры».
Колчак ответил коротко: «Действия комиссии временно прекратить. Благодарю за отлично выполненную работу».
Генерал Оаба устроил прощальный обед в честь отъезжающей из Читы комиссии. Стол на этот раз был сервирован исключительно по-русски. Военный оркестр исполнял русские марши. Довольный, сияющий Оаба, в парадном мундире, с орденом св. Владимира на шее, провозгласил тост за здоровье русских гостей… Катанаев с горькой усмешкой подумал: «Выходит, мы у себя дома гости, а они здесь – хозяева?»
Оаба дружески тронул его за локоть:
– Почему грустит генерал? Могу я задать вам один очень важный вопрос? – Оаба помедлил. – Скажите генерал, как вы отнесетесь к тому, если главнокомандующим русских войск на Дальнем Востоке будет назначен Иванов-Ринов, а помощником его атаман Семенов?
Катанаеву почудилась в голосе Оабы насмешка.
– Простите, я не ослышался?
– Могу повторить, генерал.
– В таком случае позвольте на этот вопрос не отвечать. Мое отношение к Семенову вам известно.
Оаба учтиво улыбнулся:
– Но я полагал, что ваше отношение изменилось…
– Нет. Оно остается неизменным.
– Очень жаль! – вздохнул Оаба. – Не думаю, что адмирал будет этому рад. Не думаю…
Катанаев развел руками.
Это был последний их разговор. Теперь одна мысль не давала покоя: что предпримет адмирал, каким будет следующий его шаг?
С этой мыслью генерал Катанаев и вернулся в Омск.
И в тот же день, считая дело безотлагательным, отправился к министру юстиции. Старынкевич встретил дружелюбно. Сказал, что работой комиссии в Омске остались довольны… Катанаев отнесся к похвале сдержанно:
– Благодарю. Но комиссия в силу объективных причин не смогла до конца выполнить свою задачу.
– Нет, нет, Георгий Ефремович, все хорошо, – заверил министр. – И очень правильно, что, обвиняя Семенова по статье сто уголовного кодекса в противогосударственных действиях, комиссия не находит достаточного повода обвинять его в измене…
Катанаева странный этот вывод смутил:
– Как? Разве «измена» и «противогосударственные действия» – это не одно и то же? А я полагал…
– Нет, нет, Георгий Ефремович, – подтвердил министр, – не одно и то же. Имейте это в виду…
Назавтра Катанаеву предстояло явиться с, докладом к верховному правителю. Генерал готовился тщательно и прибыл минута в минуту к назначенному часу. Адъютант в форме морского офицера встретил его и проводил в приемный зал, или в кают-компанию, как тут его называли, где уже находился военный министр Степанов и прибывший из Владивостока генерал-лейтенант Романовский… Тотчас вошел адмирал. Быстро со всеми поздоровался, пожав руки, и пригласил садиться. И сам сел рядом с Катанаевым, заметно возбужденный и более, чем всегда, бледный.
– Ну-с, ваше превосходительство, – внимательно посмотрел на Катанаева, – что в Забайкалье? Какие ваши впечатления, выводы? Мы вас слушаем.
Катанаев изложил суть дела. Колчак слушал не перебивая. Потом вздохнул и наклонил голову, глухо проговорив:
– Другого я и не ожидал. Действия Семенова недопустимы, согласен с вами. Более того, невозможны в сколько-нибудь благоустроенном государстве… Подтвердились самые худшие мои опасения.
– Полностью подтвердились, – кивнул Катанаев.
Преступность действий Семенова и приближенных к нему лиц не вызывает никаких сомнений. Это опасный человек.
– Совершенно с вами согласен. Семенов заслуживает самых строгих репрессивных мер. Но обстоятельства, ныне сложившиеся в Сибири, не позволяют этого делать…
Катанаев с изумлением смотрел на Колчака. Что с ним? Его как будто подменили: два месяца назад, когда он уговаривал Катанаева возглавить следственную комиссию, от каждого его слова веяло твердостью и непримиримостью, сейчас же во всем чувствовалась неуверенность и даже растерянность. «Не думаю, что адмирал будет этому рад», – вспомнились слова японского генерала. Многое, как видно, за этими словами скрывалось, в них и только в них надо было искать разгадку этой странной метаморфозы адмирала…
– Простите, но речь идет об интересах государственных, – сказал Катанаев. – В данном случае…
Колчак не дослушал его и резко встал, вышел из-за стола:
– В данном случае вопрос уже предрешен. И мне остается только поблагодарить вас, генерал, за отлично выполненную миссию. Не смею больше задерживать.
Встреча продолжалась ровно двадцать минут. А комиссия, созданная под эгидой верховного правителя, работала больше двух месяцев. Для чего? Какой смысл во всем этом?
У Катанаева было такое чувство, словно его, старого генерала, обвели вокруг пальца, обманули и вовлекли в какую-то непотребную игру, заставив исполнить глупейшую роль в этом откровенном фарсе.
Спустя три дня после возвращения комиссии последовал приказ адмирала о «единстве всех сил», по существу обращавший в ничто прежний его приказ – под номером 60, из-за которого и разгорелся весь этот сыр-бор.
А еще через день пришла телеграмма из Читы: атаман Семенов изъявил готовность служить интересам «всероссийской власти» и ждал указаний верховного правителя относительно совместных действий…
30
Весна 1919 года, сделав реверанс, поспешно отступила. После короткой оттепели резко похолодало. Утрами солнце всходило студено-красное, жгучее, рассеивая по снегу мириады колючих сверкающих блесток. Мглисто синело небо.
Казалось, нет и не будет конца зиме.
И бесконечно тянулось судебное разбирательство:
Гуркин пал духом. Допросы опять возобновились. И следствие пошло как бы по второму кругу. Чего от него хотят – он не знал. И пугал его не сам приговор, ничего доброго не суливший (Гуркин обвинялся, как и атаман Семенов, по статье 100 уголовного уложения), пугала несправедливость и необоснованность выдвинутых против него обвиненний.
Гуркин упорно твердил:
– Виновным себя не считаю – и не признаю.
– А как вы объясните попытку выделить Горный Алтай в так называемую республику Ойрат? – не менее упорен был и следователь.
Я уже объяснял: суть не в названии.
– В чем же?
Гуркин устало вздохнул и посидел молча. Следователь терпеливо ждал. Выдержка у него была завидная.
– Сотни лет алтайский народ жил в темноте, терпел нужду и беззаконие, – сказал Гуркин. – Его обманывали, притесняли, истребляли физически и нравственно, и он, как и многие сибирские племена, был обречен на вымирание… Только самостоятельное и независимое развитие могло спасти его от гибели.
– Независимое – это надо понимать как автономное? – спросил следователь, перебирая на столе какие-то бумаги и не отрывая от них взгляда. – Стало быть, предъявленное вам обвинение в насильственном отделении Алтая от России вы не отрицаете?
– Отрицаю. А слово «насильственно» считаю для себя оскорбительным.
Следователь оторвался от бумаг и посмотрел на Гуркина:
– Хорошо. Допустим, что его нет… этого слова. Что меняется?
– Суть. А это очень важно.
Следователь не придал значения этим словам и пошел дальше:
– Скажите: когда и как возникла идея о выселении русских с Алтая?
– Это чушь! Никогда и ни у кого такой идеи не возникало.
– А как же лозунг: «Алтай – для алтайцев!»
– Этот лозунг вовсе не означает, что алтайцы и русские не могут или не должны жить рядом.
– Что же он означает?
– Только одно, – помедлив, сказал Гуркин. – Земля эта и все, что есть на этой земле, принадлежит народу, коренному населению Горного Алтая, и народ имеет право жить на своей земле свободно. Об этом я уже говорил. Что касается лозунга… есть и другие лозунги, другие факты.
– Например?
Гуркин опять помедлил.
– Например, прошлогодний съезд в Улале. Четверть делегатов этого съезда составляли русские. Разве это ни о чем не говорит?
– Что еще?
– Съезд принял решение, но которому все бывшие кабинетские леса и земли должны отойти в неотъемлемое пользование туземного населения Алтая.
– Туземного? – уточнил следователь. – А русского?
– Русское население остается на землях, полученных при землеустройстве. Никто их не гонит. Об этом тоже сказано в постановлении съезда.
– Так. Что еще? – выпытывал следователь. Гуркин пожал плечами:
– Еще? – И поднял взгляд на следователя. – А еще – полагаю, вам это будет небезынтересно знать – жена моя Марья Агафоновна, до замужества Лузина, тоже ведь русская… и у нас с ней пятеро детей. Этот факт о чем-нибудь говорит? А еще, – излишне волнуясь и горячась, продолжал Гуркин. – Тридцать лет назад окончил я школу, открытую в Улале русским миссионером. Потом работал в иконописной мастерской бийского купца Борзенкова. Потом познакомился с хорошим русским человеком, ныне известным композитором и этнографом, Андреем Викторовичем Анохиным. Он и посоветовал мне, уговорил поехать в Петербург и поступить в Академию художеств… Вся моя жизнь, господин судебный следователь, – многозначительно посмотрел на того, – так или иначе связана с русскими. Разве это ни о чем не говорит?
Следователь как будто и не слышал последней фразы, ему были важны ответы, а не вопросы. Вопросы он сам задавал:
– Итак, вы поехали в Петербург вместе с Анохиным… Вам удалось поступить в Академию?
– Нет, в Академию поступить мне тогда не удалось.
В то время такое заведение инородцу было недоступно. К тому же я не имел необходимой для поступления в Академию рисовальной подготовки. Впрочем, все это не имеет отношения к сегодняшнему делу.
– Почему же не имеет? – возразил следователь. – Все, что связано с вашей жизнью, имеет отношение к делу… И меня прошлое, например, интересует не меньше настоящего.
Гуркин вздохнул и устало усмехнулся:
– А меня, господин следователь, больше интересует будущее.
Следователь опять не обратил внимания на его последние слова.
– Итак, – пошелестев бумагами на столе, сказал он и внимательно посмотрел на Гуркина, – поступить в Академию вам не удалось и вы вернулись на Алтай?
– Нет, на Алтай вернулся я только в следующем году.
– Чем же вы занимались в Петербурге?
– Мне повезло. Когда я не был принят в Академию, один из профессоров, наверное, пожалел меня, а может, увидел в моих этюдах нечто такое, что и заставило его передать их Ивану Ивановичу Шишкину…
– Фамилию профессора, который передал ваши этюды Шишкину, помните?
– Да, конечно, профессор этот – Александр Александрович Киселев.
– Итак, профессор Киселев передал ваши этюды Шишкину… Что дальше?
– Мне было велено зайти к Шишкину. И я отправился на другой день на Пятую линию Васильевского острова, в дом под номером тридцать, в котором жил Иван Иванович. И он сам открыл мне дверь. Позже для меня это приобрело символический смысл: Шишкин открыл дверь мне в искусство, принял меня как сына – и оставил у себя. Мог ли я мечтать о большем! Да, в Академию меня не приняли, по я был принят Шишкиным. Жил в его доме, работал с ним. Никакая Академия не могла бы заменить уроков этого великого мастера! – Гуркин помолчал, просветленно и мягко улыбаясь. – Более русского человека, чем Шишкин, я никогда не встречал. И мое отношение к нему… это я отвечаю на ваш вопрос о моем отношении к русским. Так вот представьте: Горному Алтаю обязан я своей жизнью, всем остальным в жизни обязан я Шишкину, своему учителю, великому русскому пейзажисту.
– Вы долго жили и учились у Шишкина?
– Учился и учусь у него всю жизнь, – просто, без всякой позы ответил Гуркин. – А жить вместе с ним довелось всего лишь полгода. Весной Шишкин внезапно скончался. Смерть его потрясла меня, выбила из колеи. Оставаться в Петербурге я не смог и вскоре уехал на Алтай.
– И больше уже не возвращались?
– Вернулся через год.
– И чем занялись?
– Занятие у меня было одно. Поступил вольнослушателем в Академию художеств.
– Вас приняли?
– Да. Меня знали как ученика Шишкина, а это было отличной рекомендацией. Ну и сам я к тому времени уже кое-что мог – уроки Шишкина даром не прошли. Моими пейзажами заинтересовались, и я стал даже получать заказы…
– И вы к тому времени уже считали себя вполне законченным, профессиональным художником?
– Нет, – слабо усмехнувшись, покачал головой Гуркин. – Пожалуй, нет. Законченным художником я и сейчас не считаю себя. Но поверил в себя именно тогда… скорее, после одного случая.
– Что это был за случай? – спросил следователь. Скрупулезность его допроса вызывала у Гуркина двойственное чувство: с одной стороны льстило внимание к его творчеству, а с другой – возникало невольное душевное сопротивление: все-таки следователь проявлял излишнее любопытство, касаясь вопросов, далеких от нынешнего дела. Однако, подумав и оцепив свое теперешнее положение, Гуркин решил, что делу это не повредит, и продолжал отвечать на все вопросы, ловя себя на том, что говорить о творческой своей деятельности гораздо легче и проще, нежели о каракорумской. – Случай был необычный, – сказал он после паузы. – Однажды зашел я в антикварную лавку на Литейном и увидел свой этюд. Откуда он взялся тут, я не мог понять и спросил об этом хозяина. А тот понял по-своему: «Нравится? Еще бы! Этому этюду, – говорит, – нет цены: это одна из последних работ Шишкина». А я стою и не знаю, как быть: то ли радоваться (мой этюд выдан за шишкинский), то ли возмущаться и требовать восстановления истины, доказывать свое авторство…
– Вам удалось это доказать?
– Это было нетрудно. Важнее для меня было другое: именно тогда, в тот момент, когда я увидел свой этюд в антикварной лавке, я почувствовал себя художником.
– А раньше вы этого не чувствовали?
– Чувствовал, конечно. Но это было другое… Совсем другое.
– Ну что ж, – сказал следователь, – такое чувство помогает, наверное, человеку идти своим путем, а не окольным… Это же прекрасно, когда человек знает, чего он хочет!..
Гуркин удивленно посмотрел на следователя и вдруг как-то подобрался весь, построжел:
– Возможно. Только нынче я испытываю иные чувства… Да и вас, как мне кажется, интересуют не мои чувства, а моя деятельность в Каракоруме.
Следователь не стал возражать:
– Да. Это главным образом, И я хочу вам задать еще один вопрос: какую цель ставили вы перед собой, будучи председателем Каракорум-Алтайской управы, чего добивались?
– Свободного развития нации. Это была и есть моя главная цель, – ответил Гуркин. Следователь покивал и некоторое время сидел молча, перелистывая аккуратно подшитые и пронумерованные листы гуркинского «дела» – около трехсот машинописных и написанных от руки разными почерками страниц. Иногда взгляд его задерживался на какой-нибудь отдельной странице, он внимательно перечитывал ее, коротко взглядывая на Гуркина, точно сопоставляя впечатления – от только что прочитанного о нем и личного, непосредственного общения… «Любовь его к Алтаю доходила до болезненности, – свидетельствовал брат художника С. И. Гуркин. – Революция зажгла у Григория надежду сравнять алтайцев с русскими в смысле культурного развития, и он считал, что достигнуть этого можно лишь тогда, когда алтайцы будут более независимы, чем они были до сих пор… Это была его идея фикс».
Следователь закрыл папку, отодвинул на край стола и внимательно посмотрел на Гуркина:
– Скажите: путь, избранный вами для достижения цели, вы считаете верным?
– Нет, не считаю.
– В чем же вы видите свои просчеты? Гуркин подумал немного:
– Доверял и доверился людям, чуждым по духу…
– Что это за люди? – спросил следователь. Но Гуркин уклонился от прямого ответа:
– Таких людей было много, и я не хотел бы кого-то из них выделять…
Следователь не настаивал. И на этом допрос был прерван.
Гуркин вернулся в камеру, увидел своих соседей, двух бийских рабочих-совдеповцев, Тихона Мурзина и Федора Бурыкина, арестованных неделю назад и ждавших, как и он, окончательного решения, и снова подумал о том, что вся его жизнь так или иначе связана с русскими… Вот и здесь он оказался рядом с ними. Были они совершенно разными, эти двое, – и по возрасту, и по характеру. И к нему тоже относились по-разному: тот, что помоложе, невысокий коренастый Тихон Мурзин, не скрывал своей неприязни, был резок и категоричен в суждениях; Федор Бурыкин, вдвое старше своего товарища, густобровый, седеющий человек, отличался спокойствием и выдержкой был немногословен, рассудителен… Гуркину казалось иногда, что Бурыкин относится к нему с сочувствием, мягко и ненавязчиво старается поддержать, наставить на путь истинный… А где он, этот истинный путь? Если бы знать!
Мурзин выжидательно молчит, прищурившись, и Гуркину тоже не хочется ни о чем говорить. Он проходит к низкому топчану в углу камеры, но не садится, а долго и грустно смотрит в подслеповато-грязное, зарешеченное окно, за которым смутно белеет снег и едва угадывается гаснущий свет закатного солнца… Ветрено. Старый тополь под окном устало кряхтит и вздыхает, царапая ветками по степе.
– Ну, как ваши успехи? – не выдержав, спрашивает Мурзин, и в голосе его слышится ирония. – Скоро домой небось отпустят?
Гуркин пожимает плечами.
– Странно, конечно… – продолжает Мурзин. – Странно, что мы с вами оказались в одной камере.
– Что же в этом странного?
– А то, что понять не могу: как это они упекли вас в тюрьму, если вся ваша каракорумская шатия-братия заодно с ними?
– Значит, не заодно, коли упекли, – возражает Бурыкин, как бы отводя от Гуркина или пытаясь смягчить удар.
– Заодно-о, чего там! – стоит на своем Тихон Мурзин. – Вот, помяни мое слово, разберутся, что к чему, и освободят со всеми почестями.







