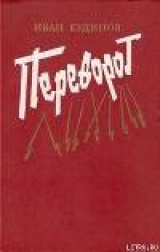
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
Однако он не сказал, что именно следует поправлять, и Николай Глебович, подождав немного, не то спросил, не то возразил:
– Мне трудно спорить, я не политик. Но разве причина всех бедствий, происходящих в России, только в большевиках или эсерах? И потом, я не понимаю, Григорий Николаевич, почему вы так яростно против большевиков? А ведь за ними идут очень многие, массы идут… Чем это можно объяснить?
– Массы можно повернуть куда угодно, и они пойдут.
– Не знаю, – покачал головой Николай Глебович. – Не знаю. Отчего же другие не повернули, а они сумели это сделать? Не знаю, – в третий раз он сказал и вздохнул, прислушиваясь к шуму и свисту не на шутку разгулявшейся метели. – Может, я не понимаю чего-то, но мне вот что ясно: когда люди гибнут защищая Отечество от иноземных врагов – это одно, а когда вместе с иноземцами топчут свое Отечество – это другое. Россия корчится в муках, агонизирует, гибнет на глазах…
Россия не погибнет, – задумчиво и твердо сказал Потанин. – Россия, как птица-феникс, возродится, поднимется из пепла. И станет еще сильнее и чище. – И кто же, по-вашему, ее возродит?
– Найдутся такие силы. Найдутся! – уклончиво и не сразу ответил Потанин. – Каких только нашествий за многие века не претерпела она, великая наша Россия, а не сломилась, выдержала – и шла своим путем. И сейчас выдержит, не сломится. Жаль только, что мне уж не доведется увидеть ее обновленной… Жаль, – повторил с грустью и помолчал, зябко кутаясь в плед. – Слыхали новость? – Вдруг спросил. – Гуркина арестовали.
– Да, читал в «Народной газете». Хотя верить этой газете боюсь. Давно ли она извещала о том, что Шаляпин расстрелян большевиками? Помните, даже стихи этому событию посвятила: «Как великих избранников божьих истребляла косматая лапа…» А Шаляпин был жив, здоров – и его как раз в эти дни чествовали в Большом театре…
– Нет, газета на этот раз не наврала, – вздохнул Потанин. – Гуркин арестован и находится в бийской тюрьме.
– Кто же его арестовал, большевики?
– Нет, не большевики. Да это сейчас никакого значения не имеет. Сейчас важно добиться его освобождения. Пока Сибирь не потеряла лучшего своего художника. Как потеряла уже писателя Новоселова…
– Сибирь многих потеряла. И потеряет, наверное, немало еще лучших своих людей, – горестно сказал Николай Глебович, думая сейчас не столько о Гуркине, сколько о дочери, о Тане… «Боже, да ведь ее тоже могут арестовать! – встревожился. – Это сейчас так просто делается, так просто… После всего, что с нею случилось… Но не должно же это повториться, не должно. Это было бы несправедливо. Нет, нет и нет! – твердил он мысленно, точно заклиная, точно в самом этом слове заложена была некая сила, заговор, способный уберечь, оградить дочь от всяких бед и несчастий. Только бы не случилось с нею ничего, только бы она осталась живой и невредимой среди этого хаоса… – думал он взволнованно. – Иначе я не переживу. Иначе…»
Николай Глебович вдруг заспешил, засобирался – надо идти. И сколько его ни уговаривали, ни убеждали остаться, не ходить по такому бурану, он и слушать не хотел: нет, нет, надо идти!
– Да вы хоть чаю попейте, – попросила Наталья Петровна. – Самовар сейчас будет готов.
Он и от чаю отказался, сославшись на то, что надо еще зайти в больницу – сегодня как раз его дежурство… Быстро оделся, подхватил саквояж и поспешно вышел – в темноту, на ветер, ударивший с такою силой, что он едва устоял на ногах. И долго шел наугад, оглохнув, ничего не видя, чувствуя лишь резкие удары ветра… Вдруг показалось, что он не туда идет. Николай Глебович остановился. Ветер дул с прежней силой и даже сильнее, чем прежде, яростно набрасывался то с одного бока, то с другого, толкая в спину, наотмашь бил по лицу… Какое-то злое, нескончаемое кружение, дьявольская пляска! И ничего вокруг, кроме сырой и вьюжной мглы – ни домов, ни улиц, ни единого огонька… «Что же это такое?» – с тревогой подумал Николай Глебович, не зная совершенно, в какую сторону, куда идти. Ничего не видать. Горело исхлестанное ветром лицо, глаза и рот забивало снегом, и знобящий, едучий страх медленно, по-змеиному вползал в душу.
– Да ведь так и заблудиться можно, – вслух он сказал. И не услышал собственного голоса.
***
Год восемнадцатый, завершая свой круг, подходил к концу. Только память могла вернуть к его началу – как возвращаются к истоку большой реки, чтобы увидеть, понять и во всей полноте представить величие и силу могучего течения…
3
Было начало марта одна тысяча девятьсот восемнадцатого года – первого месяца весны.
Возвращался на родину, в прикатунское село Безменово, балтийский матрос Степан Огородников. Пять лет без малого не был он дома. Позади, как в тумане, остались Либава, Кронштадт, Питер… Позади – война, Февральская, а затем Октябрьская революция. «Вся власть Советам, а земля – крестьянам!» – вот с чем возвращался домой Степан Огородников.
Эшелон, под завязку набитый фронтовиками, пересек пол-России, отсчитав не одну тысячу верст, и прибыл, наконец, в Новониколаевск. Здесь надо было менять курс: эшелон уходил дальше, на восток, а Степану предстояло двигаться на юг, до Бийска, а уж оттуда… оттуда рукой подать и до Безменова. Нетерпение овладело Степаном – такой желанной и близкой была встреча с родными. Остаток пути он готов был отшагать пешком. Ничто, казалось, не могло теперь остановить его, задержать, никакие препятствия.
Едва поезд остановился, приткнувшись к дощатой платформе, Степан спрыгнул с подножки и невольно зажмурился. Мартовское солнце светило вовсю, хотя утренний морозец еще держался. Свежий воздух покалывал и холодил в горле. Степан застегнул бушлат на все пуговицы, поправил вещмешок за спиной и улыбнулся: «Стоп, машина! Отвоевались. Баста!»
А из вагонов хлынул и разом захлестнул перрон буйный прибой серошинельной братвы – шум, гам, смех, веселая перебранка… Кто-то громко выкрикивал:
– Эй, братцы, кому на Бийск – подходи! Бийские есть?
Около этого крикуна, маленького, коренастого солдата в обмотках и с котелком на боку, собралось уже человек двадцать, когда подошел и присоединился к ним Степан Огородников. Лицо солдата было веснушчатое, улыбчивое, солдат подмигнул Степану как давно знакомому.
– Во! Теперя полный ажур: пехота здесь, пушкари имеются, флотские прибыли… Смирна-а! – гаркнул с дурашливой веселостью. – На первый – второй рассчитайсь… Отставить! Сам рядовой.
Подошло еще несколько человек. И веснушчатый солдат, добровольно взявший на себя командование, деловито распоряжался:
– Перво-наперво надо разведать: когда на Бийск будет поезд.
– На Бийск? – удивился Степан. – Какой поезд?
– Железный, с трубой, а из трубы дым в небо… – сказал солдат.
– Когда я уезжал – никаких вроде поездов не было.
– А когда ты уезжал?
– В тринадцатом.
– Ха, в тринадцатом… А сейчас какой? – подмигнул солдат и засмеялся, показав частокол желтоватых, прокуренных зубов. – То-то и есть, что восемнадцатый! Или ты и вправду не знаешь, что железку до Бийска провели? Во, флотский, довоевался!
Пошли узнавать насчет поезда. Оказалось, поезд на Бийск отправляется через полчаса, стоит уже на первом пути, и чумазый и длиннотрубый паровозик вовсю разводит нары. Однако вагоны были переполнены – не только что яблоку, зернышку негде упасть. Попытались фронтовики штурмом взять товарные вагоны, прицепленные в хвосте но и те были забиты грузами до отказа. Что делать? Кинулись к дежурному: подавай вагоны! Но тот и слушать не хотел: «Где ж я их возьму? Нет вагонов». Кто-то вознамерился взять его за грудки, припугнуть – не поимело действия.
– Да вы хоть в доску разбейтесь, хоть на кресте меня распните, – выстанывал дежурный, – а толку не будет. Нету вагонов. Русским языком говорю: не-ту! Через два дня уедете.
– Да ты что, дядя, в своем уме? Два дня сидеть!.. Дежурный тоже вскинулся:
– А ты не суй, не суй мне под нос кулаки. А то я и сам могу… Много вас нынче развелось таких нетерпеливых.
– Как это… развелось? – спросил Степан. Дежурный взглянул на него и сбавил на полтона:
– Нету вагонов – и точка. Освободите помещение.
– Работнички… туды вашу мать! Да у вас тут и не пахнет Советской властью. Ишь, спаситель нашелся… на кресте его распните. Пошли, братцы! Чего тут с ним канителиться…
Вышли. А следом какой-то парень, железнодорожник, с фанерным сундучком, тронул Степана за руку:
– Слышь, матрос, могу дельный совет дать.
– Давай, коли дельный.
– Во-он там, – махнул рукой парень, – в тупике стоит вагон. Теплушечка. Колеса целы, дверь на месте… Остальное, ежели с мозгами, сами докумекаете.
Сказал и пошел вдоль состава. А тут и кумекать нечего – все ясно. Степан облегченно засмеялся и крикнул вдогонку парню:
– Спасибо, браток! Докумекаем. – И обернулся к оторопевшим солдатам. – За мной, окопники! На абордаж!..
И первым заспешил, побежал мимо пыхтевшего паровичка, мимо водокачки, вытянувшей свой хобот, через рельсы, по шпалам, увлекая за собой остальных.
– Живее, товарищи, живее! Надо успеть, пока поезд не ушел.
И как-то так вышло, что с этой минуты командование перешло к Степану, чему веснушчатый солдат не препятствовал, а даже напротив – охотно уступил первенство.
Потом дружно, всем гамузом навалились, столкнули вагон и покатили в сторону вокзала… Дежурный подоспел, когда теплушка уже была прицеплена к составу.
– Назад! Назад! – размахивал руками дежурный. Кто вам дозволил самовольством заниматься?
– Революционная необходимость, – ответил Степан.
– Анархисты вы, а не революционеры. А ну отцепляй!
Степан не шелохнулся. Остальные плотно стояли за ним. Дежурный побледнел и тихо, со сдержанной яростью, повторил:
– Кому говорят – отцепляй! Или я вызову наряд…
– А вот этого не хочешь? – повертел Степан перед носом дежурного увесистым кулаком. – Кого решил пугать… фронтовиков, окопников? – Голос его накалялся, накалялся, как металл в горне, и вспыхнул, зазвенел угрожающе. – А ну табань отсюда! И на носу себе заруби: мы кровью заплатили за это право… и за этот вагон. Да поезд, смотри, не задерживай! – крикнул вдогонку. – Революция должна двигаться вперед, а не стоять по тупикам…
Так и отстояли вагон. И вздохнули облегченно, когда прозвенел станционный колокол и поезд тронулся наконец. Мелькнуло и отодвинулось, точно растаяло, сердитое лицо дежурного, проплыл и откатился назад вокзал, понеслись, все ускоряя и ускоряя бег, станционные, городские строения, оглушающе, как весенний гром, прогрохотал железный мост через Иню. и густой сумрачный лес, как бы рассеченный надвое, рванулся навстречу, наполняясь протяжным и низким гулом.
Степану повезло в Бийске: едва он вышел на привокзальную площадь, как увидел подводу, которая уже разворачивалась, еще минута – и он бы ее упустил. Степан окликнул ездового, рыжебородого мужика в огромном тулупе:
– Эй, земляк, далеко курс держишь?
Мужик, стоя в санях на коленях, неловко повернул голову:
– Чего-о?
– Едешь, говорю, далеко?
– А тебе куда?
– В Безменово.
Мужик натянул вожжи, придержав лошадь:
– А я в Шубинку. Попутно, стало быть. Садись, подвезу. – Оглядел Степана с веселым любопытством, поинтересовался, когда отъехали немного: – Отвоевался ка-быть… домой?
– Если с одной стороны, – подмигнул Степан, – считай, что отвоевался. А с другой… Поглядим.
– А чего глядеть? Хватит, поди, – сказал мужик. – Царь затевал войну, дак его и самого теперь нету – скинули. И с немцами, сказывают, замиренье вышло… Или ненадолго?
– Поглядим, – повторил Степан. – Царя скинули – это верно. Да много еще царских прихвостней осталось. Революция для них костью поперек горла. Ты-то сам как? – вдруг спросил, в упор поглядев на мужика. – Тоже, поди, нашим и вашим. Или не нашим и не вашим?
Мужик сердито крякнул, отводя глаза:
– А мне все одно – што поп, што батька… Кому охота, нехай грызутся… Но-о, пошевеливайся! – прикрикнул на коня, дергая вожжами.
Степан усмехнулся:
– Стало быть, не нашим и не вашим.
– Как хошь, так и понимай, – сказал мужик. – Когда двое дерутся, третий не встревай… а то ж ему, третьему, и перепадет.
– Осторожный ты, как я погляжу. Ну, ну…
– Вот тебе и ну, каральки гну! – рассердился мужик и хлестнул вожжами коня, тот рванул от неожиданности, сани занесло на крутом раскате, и Степан, ухватившись за отводину, едва удержался.
– Ну, земляк, и горяч же ты, – засмеялся. – Обиделся? А я правду говорю: нынче такое время, когда третьего быть не должно: либо ты за революцию, за новую жизнь, либо ты против, а значит – за возврат к старому… Тогда разговор другой.
– Рассудил, как по усам развел, – хмыкнул мужик, немного успокоившись. – Сам-то ты чего ж бежишь?
– Как это бегу?
– А так: многие уже поприбегали да и живут себе, в ус не дуют. Какая тут у нас революция – одни разговоры… Живем и живем.
– Поглядим, как вы тут живете, – сказал Степан. – В Бийск-то, поди, на базар ездил, излишки возил?
– Возил. А што? – глянул с вызовом. – Коноплю вот на шпагат поменял. Вот тебе и революция… – презрительно усмехнулся. – Раньше шпагат был, хошь волами тяни – не порвется. А нынче такого понакрутили – не шпагат, а слезы. Захошь удавиться, дак и то не выдержит… Н-но, уснул! – понужнул коня, искоса глянув на Степана. Вдруг начал стаскивать с себя тулуп. – На-ка, паря, погрейся, а то ж ехать еще далеко. Бери, бери. Сам-то чей будешь? Безменовских я многих знаю.
– Огородников. Петра Огородникова сын.
– Знаю, знаю Петра… А я, стало быть, Корней Лубянкин. Коли будешь в Шубинке, заходи: третий дом с краю… Милости прошу.
Так, в разговорах, и пролетело время – и ближе к полудню, в ростепельный час, когда солнышко поднялось высоко и пригрело, поравнялись с развилкой. Отсюда рукой подать и до Безменова – полчаса ходу. Степан соскочил с саней:
– Будь здоров!
– Прощевай, стало быть. А то, ежели што, – подмигнул Корней Лубянкин, – надумаешь жениться, дуй прямо в Шубинку. Лучших невест, как у нас, нигде не сыщешь. Истинно говорю. У меня вон у самого дочка…
– Красивая?
– Баская. Кровь с молоком!..
– Ну, тогда жди сватов, – пообещал Степан.
– Давай! – мотнул вожжами над головой Лубянкин. – Даст бог – породнимся.
Степан постоял у развилки, провожая глазами подводу, осмотрелся вокруг – неужто он дома? Темнел неподалеку березняк, безлюдно и безмолвно выглядели заснеженные поля… Степан узнавал и не узнавал эти места. И снова подумал: «Неужто я дома?» Вздохнул глубоко, ступил на свороток – и пошел к деревне, все прибавляя да прибавляя шагу. Скоро ему жарко стало. Степан расстегнул бушлат. Синевой отливали уже осевшие заметно снега, схваченные поверху ломкой ноздреватой корочкой. Однако дорога, утрамбованная и накатанная до маслянистого блеска, бугристо выпирала и держалась еще прочно, не поддаваясь обманчивым первым оттепелям… Обогнув березняк, дорога круто забрала вправо, и Степан узнал, вспомнил этот поворот, потом нырнула в ложок – и ложок этот был тоже знаком… Дорога поднялась на крутяк, выпрямилась и пошла гривой. И тут Степан увидел недалеко от дороги, в стороне, упряжку и удивленно приостановился, не успев еще понять, что его так поразило. Заметил человека, который копошился подле саней, укладывая воз, но работал вяло, как показалось, с ленцой; и пегая лошадь нехотя, тоже с ленцой, жевала брошенное под ноги сено… Степану почудился густой пряный запах этого сена. Лошадь обеспокоенно подняла голову и внимательно посмотрела в его сторону. И Степан вдруг понял, что его так поразило в первый миг, понял и заволновался, узнав пегого мерина. Пеган, Пегашка! – екнуло сердце. В это время из-за остожья вывернулась и широкими пружинистыми скачками, с громким лаем кинулась к дороге большая черная собака. Степан и собаку узнал:
– Черныш… Черныш! – Радостно окликнул. Собака остановилась шагах в десяти и, поперхнувшись, умолкла. Но как только Степан шагнул к ней, шерсть на загривке у нее вздыбилась, и собака злобно зарычала, показав желтые клыки и слегка припав на передние лапы, готовая к прыжку…
– Черныш! – крикнул человек от подводы. Голос у него ломко-грубоватый и незнакомый. – Назад, Черныш!
Собака повиновалась и, обежав Степана стороной, нехотя удалилась. А Степан все внимание теперь сосредоточил на человеке у подводы: «Кто же это?» Сбивали с толку Пеган и Черныш – откуда и почему они здесь? Степан подошел ближе. Парень в распахнутом полушубке, шапка набекрень, воткнул вилы в сено и, опираясь на них, встревожен но и растерянно смотрел на Степана. Что-то давнее, полузабытое мелькнуло в его взгляде. А может, и не было ничего, почудилось, поблазнилось Степану? И чувствуя терпкий запах лежалого, пересохшего сена и как бы желая ослабить, снять напряжение, он медленно, с мягкой усмешкой заговорил:
– А я гляжу и глазам не верю: Пегаш! Вот это встреча! А тут и Черныш налетел, страху нагнал на бывшего хозяина… – И вдруг прямо, без обиняков спросил: – А ты-то чей будешь? Никак не припомню.
И тогда с, парнем что-то случилось – губы его дрогнули, покривились, вилы выпали из рук, и он, всхлипнув совсем по-ребячьи, резко выпрямился, шагнул к Степану и опалил его горячим отчаянным шепотом:
– Братка! Да, братка же… почему не узнаешь?
Домой Степан явился вместе с братом. Мать смотрела на них с крыльца, смотрела во все глаза – то ли узнавала, то ли поверить не могла… Потом ойкнула, прижав руку к груди, и кинулась было навстречу, да ноги отказали, подкосились – и упала бы, не подоспей Степан. Подхватил он ее, удержал, а мать слова сказать не может, лицо мокрое от слез. Прижалась к нему, всхлипывая, заговорила, наконец:
– Степушка… сынок! А я как знала, чуяло мое сердце. Вчера вижу: будто Черныш кинулся на меня и ну кусать… Реву я белугой, а кровь так и хлещет… Ну, говорю, утром отцу, быть кому-то кровному, родне близкой. А куда ж еще ближе! Сон в руку. Степушка, сыночек… – оглаживала его рукой, касаясь пальцами жесткого, словно задубевшего бушлата. Испугалась вдруг. – Ой, да как же ты сыночка, в этакой хворобной одежке? Промерз, поди? А я держу тебя на холоду, безголовая… Пойдем в хату. Пашка! – отыскала взглядом младшего сына. – Чего стоишь? Шумни отца, у Барышевых он с мужиками… Говорила, не ходи, дак разве его отговоришь. Надумали правду искать – у кого? Ох, беда, беда… Совсем одурел от богатства своего, гоголем ходит по деревне Барышев-то. А чего ему не ходить? Другие-то вон головы на войне поскладали, а он мошну набивал… Вот и бесится с жиру, – гневно говорила мать, ступая но скрипучим промерзлым половицам сеней. Остановилась, не все еще высказав. – Теперь, вишь ли, маслоделку решил к рукам прибрать. Вот и пошли мужики упредить его, чтоб не самоуправничал… Да ну его к лешакам! – спохватилась. – Нашла об чем говорить… Не бери в голову. Ну, вот-ка и дома! – распахнула дверь, вошла первой, остановилась, пристально глядя на сына: как он? Отвык, должно, столько лет не был…
Степан шагнул вперед, чуть не задев головой полати, и встал рядом с матерью, заглядывая ей в лицо; омытое слезами, оно светилось как бы из глубины каждой морщинкой, и он заметил, что морщинок поприбавилось у матери, седые пряди торчат из-под платка. Мать перехватила его взгляд, спросила печально-застенчиво:
– Постарела я, сыночка? Сама знаю, что постарела. Годы никого не красят.
– Ну что ты, что ты, мама! – возразил Степан, обнимая ее за плечи. – Ты ж еще совсем, совсем не старая. Красивше тебя и нет никого. Слышишь?
– Слышу, сынок, слышу… – радовалась мать, готовая от радости снова разреветься, да краем глаза увидела прошедших мимо окна Пашку с отцом, подобралась вся и мягко высвободилась, взволнованно проговорив:
– Отец идет.
И оба замерли в ожидании, прислушиваясь к негромким, приглушенным голосам во дворе; наконец, брякнула щеколда, скрипнула сеночная дверь, промерзло взвизгнули половицы и отец, покашливая и покрякивая, долго возился там, отыскивая, должно быть, голик, потом старательно колотил и шоркал голиком, обметая пимы… тянулось это бесконечно. И Степан догадался: отец умышленно медлит, собирается, наверное, с духом. А матери уж и духу не хватало, терпенье кончилось.
– Да ты чего там копаешься? – крикнула она высоким напряженным голосом. – Заблудился, дверь не можешь найти?
И тогда дверь отворилась, и отец не спеша переступил порог, сердито буркнув:
– Голик никогда на месте не лежит…
Но слова эти как бы и не касались никого, и сказаны были скорее затем, чтобы соединить нечто разъятое и раздвинутое временем, хоть какой-то мостик перекинуть от одного берега к другому… И словно по шаткому мосточку шагнул к сыну. Степану почудилось, что время и впрямь сдвинулось – и прошлое, соединившись с настоящим, шагнуло навстречу и обняло его крепкими отцовскими руками…
Позже он еще не раз ловил себя на этом – прошлое как бы возвращалось и входило в него. И это чувство усиливалось еще тем, что само Безменово, как он успел заметить, осталось как бы в прошлом: те же дома и та же кривая длинная улица, выходившая одним концом к высокому катунскому берегу, та же церквушка на бугре, видная со всех сторон, и та же сборня, крытая по-амбарному изба, в которой безменовское «обчество» собиралось время от времени и решало неотложные свои дела, даже пустырь за сборной избой оставался неизменным, как пять и десять лет назад… Бугрились вокруг многоступенчатые суметы, длинно тянувшиеся вдоль деревни. Один из них лежал за баней Огородниковых.
Под вечер, когда баню истопили да выстояли хорошенько, чтобы угарного духу не осталось, отправились мужики в первый жар – и намылся, напарился Степан за все годы, дал волюшку душе и телу. Отец плеснул на каменку один за другим два ковша кипятку – нар с шипением рванулся к потолку, растекаясь по всей бане густым обжигающим жаром. Степан только постанывал да охал, охаживая себя веником, а когда становилось уже совсем невмоготу и веник жег нестерпимо, окунал его в холодную воду… Пашка скатился вниз, распластавшись на мокром щелястом полу, и похохатывал:
– Давай, братка, давай!..
Отец, сидя на корточках, мыл щелоком голову и тоже посмеивался:
– Не забыл, как веник-то держать? Гляди, не сварись, – предупреждал, однако. – Передохни малость.
– Хоро-ош… – плыл сверху из белого жгучего тумана размягченно-горячий голос. И после, вернувшись из бани и сидя за столом, Степан облегченно вздыхал и радовался. – Уф! Кажись, гора с плеч… Как будто заново родился.
Отец сидел рядом, спокойный, как и всегда, немножко расслабленный. Степан глядел на него, глядел, наклонился вдруг и, как давным-давно когда-то, уперся лбом в отцовский лоб, беззвучно смеясь:
– А ну, батя, кто кого… Попробуем?
Отец не принял, однако, давней этой игры, сказал серьезно:
– Это вон с Пашкой лучше, у него лоб покрепше будет Степан улыбнулся:
– Да уж это верно вымахал братан. Встретились так и не узнали друг друга.
– Это ты не узнал, а я тебя за версту…
Мать, раскрасневшаяся и счастливая, присела с краю.
– Стынет же, ешьте. Чего сидите, как гости? – глянула на отца. Отец открыл бутылку домашней «наливки».
– Ну, за встречу… Такое событие не каждый день. Давно Степану не приходилось так вот среди родных, близких людей посидеть, поговорить от души – столько накопилось, что всего за один вечер и не перескажешь, не переговоришь.
– Ну, а чем же кончились ваши переговоры с Барышевым? – спросил Степан. – Небось принял он вас, Илья-то Лукьяныч, с распростертыми объятиями, насулил всем по семь, а кому и восемь… Или чуток иначе?
– Насулил – держи карман шире! – хмуро сказал отец. – Посулы-то его не раз уж боком выходили мужикам.
– Да ну-у? – притворно Степан удивился. – Неужто он сам, Илья-то Лукьяныч, не мужик? И не желает с вами в мире да согласии жить? А я думал, он руками и ногами в нашу артель…
– Артель нашу он давно уж с руками, ногами и со всеми потрохами готов проглотить.
– Не подавится?
– Глотка у него широкая, – сказал отец. Подумал и добавил: – Если б не война, может, и удалось бы нам своего добиться…
И отец рассказал ту давнюю историю.
Четыре года назад решили безменовские мужики, тогда их было еще немало, открыть маслодельный завод, а со временем и потребительскую лавку – чтобы не зависеть от барышевских прихотей да своевольств. Много тогда разговоров об этом велось, немало было споров. Вечерами сборня гудела ульем, дым коромыслом стоял… А заводилой всему был Михей Кулагин, он-то и подбил безменовских мужиков на это дело, больше всех горячился и надрывал глотку, убеждая их в том, какое это выгодное предприятие, если взяться за него сообща и с умом. Говорил, что, будучи в гостях у родственников в деревне Шмаковка Залесовской волости, самолично видел ихний завод, открытый артельно, на паях.
– Главное, мужики, – обрисовывал Михей обстановку, не жалея красок, – главное, кредит получить. Рублей пятьсот для начала нам бы хватило. Прикиньте: двести рублей на постройку, остальные на разные другие нужды… Мастеру положить надо? Надо.
– А мастера где взять?
– Будут деньги – найдется и мастер. Решайтесь, мужики, не прогадаем.
– А как прогадаем?
– Ничего, на миру и смерть красна! – ораторствовал Михей. – Главное, что Барышеву хвост прижмем… Выбьем у него из-под ног почву.
– Гляди, кабы он нас не прижал.
– Волков бояться – в лес не ходить, – сыпал Михей в ответ, за словом в карман не лез. И мужики заколебались, начали склоняться на его сторону. Рассуждали: оно, конешно, каждому в отдельности не под силу с Барышевым тягаться, а вот сообща, артельно…
Барышев, как-то встретив Михея Кулагина, с усмешкой сказал:
– А-а, супротивник мой, конкурент… Говорят, яму копаешь под меня, хвост собираешься мне прижать?
– Собираюсь. Коли говорят, зря не скажут.
– Гляди-ко! – несколько даже растерялся Барышев от такой прямоты. – И каким же образом, интересно, собираетесь вы артельный завод устроить?
– Да уж как-нибудь устроим…
– На какие шиши?
– Найдем. Кредиты получим. Сепараторы и другое-прочее возьмем в кредит. Как вон шмаковцы…
– Ну, а дальше?
– Что дальше?
– Дальше-то, говорю, как будете хозяевать?
– Не хуже твоего, – с вызовом ответил Михей. Барышев иронически усмехался:
– Да ведь я-то один всему голова, а у вас и не поймешь, кто будет хозяином.
– Артель будет хозяином. Мужики, – сказал Михей, как, точку поставил. Барышев опять усмехнулся:
– У семи нянек – дитя без глазу. Полагаю, запурхается ваша артель, запутается – и концов не найдет.
Барышев как в воду глядел, концов и вправду найти нe удалось. Концы-то запутались еще в самом начале и хотя Михей духом не падал и сил на это дело не жалел – прошибить стенку лбом так и не удалось. Да к тому ж и батюшка безменовский, отец Алексей, взял сторону Барышева. Явился однажды на сход и новел речь издалека:
– Хочу вам, дети мои, притчу одну поведать: как сеятель бросил зерно при дороге, а птицы и поклевали его… Слыхали про то? – допытывался батюшка. Мужики молчали, выжидательно поглядывая на него, и он продолжал, С трудом продираясь сквозь витиеватую вязь слов, липучую, как паутина. – Ну так слушайте и разумейте, ибо пророк изрекал слова сокровенные, и я вам скажу реченное пророком: когда сеятель бросил зерно в почву каменистую, солнце пожгло его, ибо земля была неплодоносна…
– А к чему это, батюшка, притча такая? – не выдержал Михей.
– А к тому, сын мой, – заключил отец Алексей уже без всяких витиеватостей, – что дело, затеянное вами, не обернется ли против вас самих? Больно почва нехороша…
– Не обернется, – отвечал Михей, упираясь кулаками и колени и глядя прямо в глаза священника. – И почва в самый раз. И продумано все, как должно быть. Не обернется.
– Глядите. Только мой вам совет: повременить.
– Да зачем же временить?
– А коли у других получится, тогда и у себя можно завести… А с бухты-барахты такое не делается.
– Что-то не пойму я тебя, батюшка, – поднялся Михей, – то ли ты добра нам желаешь, то ли от добра отвратить норовишь?
– Добра, дети мои, добра, – сдержанно отвечал отец Алексей. – Токмо добра.
– А коли добра, так и не отговаривай нас от задуманного, – стоял на своем Михей. – Разве не богоугодно затеянное нами дело? – спросил прямо. Батюшка вильнул глазами:
– Потому и хочу предостеречь, дабы не оказались вы в положении того сеятеля…
– Да не о нас, не о нас вы мечетесь, святой отец! вспыхнул Михей. – А за свою мошну боитесь.
И когда расходились, злые и взвинченные, так ни до чего толком и не договорившись, сбитые с толку «проповедью» отца Алексея, Михей догнал его в проулке, за сборней, и тот, словно вторым зрением угадав Михея в темноте, сбавил шаг и сказал, шумно и сердито дыша:
– Ну, анафема… ядом пропитан твой язык! Чего тебе еще?
– А ничего, батюшка. Предупредить хочу: не встревай в наше артельное дело, палки в колеса не ставь.
– Изыди! И слышать тебя не желаю, не токмо видеть. А коли прыткий такой – добивайся. Поглядим, чего ты добьешься, – с усмешкой сказал. И хотя лица его в темноте не было видно, чувствовалось это по голосу. Михей остановился, считая дальнейший разговор ненужным, и, помедлив, крикнул вдогонку:
– Слышь-ка, святой отец, а это не про тебя ли сказано? Берегись лжепророков, которые рядятся в овечью шкуру, а нутро имеют волчье… Вот-вот, как раз про тебя!
– Анафема… голь перекатная! – донеслось из тьмы, и Михею показалось, что батюшка даже всхлипнул от злобы. И добавил с угрозой: – Всякое бесплодное дерево срубают и бросают в огонь… И тебе, сатана зубастая, не минуть огненной геенны. Гад ползучий! Прокляну тебя… эпитимью наложу!..
– Смотри, не наложи куда-нибудь в другое место… – ответил Михей и засмеялся. Смех его покатился, словно телега с горы, настигая отца Алексея. А над головою чернело небо, усеянное звездами, каждая из них мерцала и светилась по-своему – и было в их далеком, запредельном свете что-то непостижимое, загадочное и жуткое. Михей, глядя на звезды, вдруг сник и разом оборвал смех. И до самого дома не проронил больше ни слова – да и с кем говорить?
А наутро спешно собрался и поехал в волость. Надеялся, что там добьется своего непременно, к тому ж и бумагой заручился… Чего еще? Однако в волостном правлении бумагу от него не приняли: «Не пригодна».
– Как это не пригодна? – изумился Михей.
– А так: печать вверх ногами… И вообще, братец, повременил бы ты с этим делом.
И сколько Михей ни пытался доказывать, что бумага как есть настоящая, подписана и заверена сельским старостой, а временить им нет резона, его и слушать не хотели, твердили одно: «Не пригодна. Печать неясно проставлена…»
Трижды потом эту треклятую печать так и этак пришлепывали, трижды Михей Кулагин смотался до волости, а результат один: бумага не пригодна. Тут и камень может не выдержать, лопнуть, а не только терпенье человеческое. Но Михей держался стойко. Понимал: не обошлось тут без вмешательства Барышева и отца Алексея, не обошлось. И решил он тогда хоть на край света, хоть до самой губернии дойти, но своего добиться. Может, и дошел бы, добился и отстоял бы Михей Кулагин артельный интерес, да события повернули все иначе – летом, в самый разгар сенокоса, началась война. И вскорости Михей Кулагин вместе с другими мужиками, что помоложе да поздоровее, был призван в армию.







