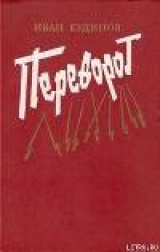
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Тогда и вправду верилось: уезжают они ненадолго. Лето как-нибудь переживут, перебедуют на чужбине, а к осени – домой. Кто мог знать, что путь окажется долгим и домой они вернутся только через шесть лет…
32
Еще недавно мало кому известный дом Батюшкина – особняк на берегу Иртыша, сегодня стал центром притяжения, и к нему слетаются, как осы на мед, вьются около него сотни людей – военных и штатских, с полномочиями и без таковых, русские, чехи, англичане, французы… Иногда – в минуты ипохондрических приступов – Колчаку все они, эти люди, кажутся пауками, опутывающими его паутиной видимых и невидимых интриг и заговоров, скрытого и открытого предательства, как минными заграждениями, которые он, адмирал русского флота, изобрел и расставлял и в Рижском заливе, и в Босфоре… А теперь вот и сам, подобно флагману, окруженному хитроумной сетью, пробивается к намеченной цели, идет вперед, невзирая ни на какие опасности… «Жаль, что попутчики не всегда надежные», – думает адмирал. Иногда им овладевает отчаяние, и он жалуется Анне Васильевне Тимиревой, самому близкому и надежному человеку:
– Кому верить? Сколько вокруг мерзостного пресмыкания и полнейшей глухоты и равнодушия к делам неотложным и важным в борьбе за Россию… – говорит адмирал. За какую Россию, он не договаривает, но это и само собою разумеется. И добавляет со вздохом: – Слишком она затянулась, эта борьба… и выйдем мы из нее победителями только в том случае, если народ нас поддержит.
Адмирал понимает: можно отстранить, заменить одного генерала другим – Болдырева, скажем, Войцеховским или Ханжиным, Сахарова Степановым или Гайдой, но кем заменить народ?
– Нужна армия, боеспособная, сильная русская армия, – откровенничает адмирал, – Без такой армии нам не сломить большевиков. Но для того, чтобы создать такую армию, необходимо время. Время, время… Где его взять?
Адмиралу всегда не хватало времени – и в этом он видел причину многих своих просчетов, неудач и… поражений. Ему и в голову не приходило, что времени у пего просто-напросто уже не осталось – время его ушло.
Утром министр внутренних дел Пепеляев, направляясь к верховному, столкнулся в дверях с Тимиревой, выходившей из кабинета адмирала. Пепеляев чуть посторонился, пропуская ее, и она прошла с выражением холодного равнодушия на лице, даже не ответив на его приветственный поклон. «Загадочная женщина, – подумал Пепеляев, провожая ее взглядом. – Погубит она адмирала. Погубит», – с этой мыслью он и вошел в кабинет.
Колчак стоял у окна, заложив за спину руки, и не сразу обернулся, хотя, наверное, слышал, не мог не слышать стук двери и шаги вошедшего. Пепеляев остановился в позе выжидательной готовности, но адмирал стоял неподвижно, не расцепляя рук за спиной. Вдруг резко повернулся, паркет скрипнул под каблуками, и прямо, в упор посмотрел:
– Слыхали, о новых событиях в Канске?
– Да, разумеется.
Адмирал подошел ближе, не приглашая министра сесть и не подавая руки.
– Может, у вас подробности имеются?
– Да, имеются, – кивнул Пепеляев. – Вот телеграмма управляющего Енисейской губернией Троицкого.
Адмирал взял телеграмму и пошел к столу, читая на ходу.
Троицкий сообщал, что за последнее время опасно участились вылазки крестьянских повстанцев. Совсем недавно они напали на следовавший в Степной Баджей отряд правительственных войск и нанесли ему тяжелый урон: убито несколько офицеров, до десятка солдат, захвачены два пулемета… Войскам генерала Шильникова удалось оттеснить повстанцев в горы, но вскоре произошло восстание в самом Канске, где на сторону красных перешла рота из местного гарнизона…
Колчак поморщился, сел в кресло и положил телеграмму перед собой. Троицкий сообщал далее: отряд полковника Красильникова подвергся нападению повстанцев, вооруженных дробовиками и охотничьими ружьями, и вынужден был отступить на шестьдесят верст; потери составили около двухсот человек…
– Невероятно! – глухо и зло проговорил Колчак и отодвинул телеграмму. – Надо прекратить этот разбой.
Но каким образом прекратить, как это сделать – пока было неясно. Поездка Пепеляева по сибирским губерниям и, главным образом, по Енисейской – утешения не принесла; повлиять на ход событий, а тем более изменить положение в лучшую сторону министру внутренних дел не удалось. И едва он вернулся в Омск, как последовала очередная телеграмма из Красноярска. Троицкий сообщал: «Город объявлен на осадном положении. Охрану его взяли на себя итальянцы и чехословаки. Собственный русский гарнизон малочислен и ненадежен, в частях его ведется большевистская агитация, уже раскрыт один заговор…»
Похожие доклады поступали и из других городов. Управляющий Алтайской губернией Строльман жаловался, что «большевики расширяют свою деятельность, придавая движению социально-политический характер».
Вот этого-то как раз и не хотела признавать колчаковская ставка.
– Хватит! – бушевал адмирал. – Пора на всем жизненном пространстве… от Омска до Владивостока – навести порядок! Надо раз и навсегда покончить с бандитизмом! Да, да, Виктор Николаевич, – говорил он Пепеляеву, – именно с бандитизмом. А это как раз по вашей части, а не по ведомству военного министерства… Соизвольте в самое ближайшее время предпринять радикальные меры. Надеюсь, причины столь вольготного поведения этих… а-ля пугачевцев вам известны?
– Причин много, – сказал Пепеляев, держась обеими руками за спинку стула и слегка наклонив его на себя. – И главная из них: малочисленность нашей милиции. – Он выдвинул стул и сел наконец, вытянув перед собой ноги. – Затем: разбросанность и случайный состав так называемых правительственных отрядов… Мобилизация идет иногда без разбора, – пояснил. – Попадают бывшие фронтовики, рабочие – а это безнадежный элемент.
– Мобилизацию надо регламентировать, – согласился адмирал. – Об этом я уже говорил военному министру. Что еще?
– А еще – бездорожье. И, наконец, отсутствие надежных проводников…
– Каких еще проводников? – удивленно посмотрел Колчак и саркастически усмехнулся. – Сусанин вам нужен? – но тут же и погасил усмешку. – Не в проводниках дело. И вы это знаете.
– Знаю.
– Тогда вам и карты в руки! Действуйте.
И вскоре особый отдел министерства внутренних дел, по личному указанию Пепеляева, выработал и разослал по всем областям и губерниям Сибири и Урала постановление: «Ввиду появления в Енисейской (здесь стоял прочерк – и вместо Енисейской можно было указать: Иркутской, Алтайской, Томской и т. д.) губернии разбойничьих банд, которые под видом большевистских властей нападают на селения, разгромляют и разграбляют правительственные и общественные учреждения и отдельных жителей, находим необходимым организацию дружин самообороны».
Колчаковское министерство пыталось одним махом убить двух, а то и трех зайцев: затушевать, прежде всего, и принизить социально-политический характер повстанческого движения в тылу – дескать, не с большевиками борьба, а с бандитами, действующими под видом большевиков; во-вторых, организация дружин самообороны, по замыслу особого отдела, позволит создать свое партизанское движение, подняв против «бандитов» лояльную часть населения (иначе: кулацкую и прочую колеблющуюся часть), тем самым упрочив тыл; и в-третьих: поскольку банды в ту пору действительно орудовали по всем сибирским городам и весям, решение это выглядело вполне логичным и своевременным.
Колчак, прочитав постановление, остался доволен и подписал, не задумываясь.
– Правильно! Хватит надеяться на проводников.
***
Однако уже вскоре стало ясно: исправить положение одними только этими мерами – невозможно.
Теперь еженедельно, каждую субботу, на стол министра внутренних дел ложилась сводка, оценивающая положение в областях и губерниях Сибири и Урала по пятибалльной системе. Такая «классификация» была заведена особым отделом. «5» – значит, в губернии спокойно; «4» – наблюдаются отдельные агитационные выступления; «3» – вооруженные выступления; «2» – идет образование фронтов; «1» – положение безнадежное; «0» – отсутствие каких-либо донесений.
Справедливости ради, надо заметить, что цифра «1» ни разу не появлялась в сводках. И это понятно: кто же решится взять на себя смелость назвать даже и самое тяжкое положение – безнадежным? Зато «0» фигурировал часто. Тут тоже понятно: «ноль» – значит, никаких сведений, а коли их нет, стало быть, и взятки гладки… Под «нолем» ведь могут скрываться и «единицы» и «двойка», и даже «пятерка»… Думай что хочешь и как хочешь.
Пепеляев тем не менее требовал исчерпывающих сведений. И не раз выговаривал сотрудникам особого отдела:
– Ноль – это пустое место, дыра, отсутствие какой бы то ни было оценки. А мне нужны оценки. Оценки!..
Положение, однако, не менялось. И «ноль» оставался в сводках самой популярной цифрой. Куда как просто! Вот, скажем, Уфимская губерния: девять сводок – от февраля до апреля – получил министр – и девять раз видел в Уфимской графе один и тот же «0», что означало отсутствие сведений, неясность положения… А положение на Уфимском направлении давно было ясным, и Пепеляев не раз порывался исправить этот злополучный «0» на «1», но рука не поднималась… «Бог с ним, с этим нолем, – решил министр. – С ним как-то и поспокойнее…»
И перестал, в конце концов, требовать исчерпывающих сведений. Так и шло. Цифры, цифры… А что за цифрами?
Вот Алтайская губерния: в сводке за 17 февраля 1919 года крупный и аккуратный «0»; за 24 февраля– «3»; через неделю – снова «0»; а дальше: «4», «0», «4», «0»… Енисейская губерния – сплошные «двойки». А в Уральской области, как и в Уфимской, круглые «0».
Попробуй себе составить ясное представление об истинном положении дел! В конце концов, министерство внутренних дел вынуждено было отказаться от этой затеи с пятибалльной системой.
Все-таки Пепеляев больше доверял очевидным фактам, личным впечатлениям, встречам и беседам с людьми, знающими положение на местах не понаслышке, чем этим еженедельным цифровым сводкам, составлявшимся нередко наобум, с потолка.
Особенно запомнилась министру встреча со своим давним знакомым поручиком Любимцевым, начальником милиции Бийского уезда, где в пору еще довоенную Пепеляев жил и работал преподавателем женской гимназии… Потому и встреча со старым приятелем была желанной, дружеской, и разговор получился непринужденным и доверительным.
Пепеляев интересовался нуждами и возможностями уездной милиции. Нужды, как и следовало ожидать, превышали возможности. И главное, на что сетовал поручик Любимцев – это малочисленность милиции.
– Да, да, – поддержал его Пепеляев. – Об этом я уже говорил адмиралу, и он согласен… Скажите, – не преминул министр поинтересоваться и «детищем» своим, – а как у вас с формированием дружин самообороны?
Любимцев повел плечами и протяжно вздохнул.
– Откровенно, Виктор Николаевич?
– Конечно. Меня интересует правда. Любимцев опять вздохнул.
– Правда, Виктор Николаевич, такая: плетью обуха не перешибешь.
– Вон как! – удивился Пепеляев. И после паузы спросил: – А скажи мне, Василий Лукич, только откровенно: как сельское население относится нынче к существующему строю?
Любимцев помедлил с ответом:
– По-разному, конечно. Некоторые одобряют, поддерживают…
– А некоторые? Любимцев опять помедлил:
– А некоторые… в большинстве своем относятся враждебно. Это я вам как на духу. Больше того скажу, – понизив голос и слегка подавшись вперед, продолжал: – больше того скажу вам, Виктор Николаевич: массы не заслуживают никакого доверия.
– Так-таки и никакого?
– То есть – абсолютно никакого! Как на духу…
Пепеляев несколько даже растерялся от столь напористой и демонстративно-обнаженной откровенности поручика.
– И что же вы предпринимаете?
– А что предпримешь? – вздохнул поручик. – Арестовываем, конечно. Наказываем. Вплоть до расстрела. Но… арестуешь одного, а там, глядишь на его место несколько новых врагов: сват, брат, кум, сосед и прочие.
Пепеляев слушал, мрачно глядя в одну точку.
– Значит, и прочих следует арестовать! Свата, брата, соседа…
Любимцев покачал головой и горестно усмехнулся:
– Всех, Виктор Николаевич, не арестуешь.
Признание поручика Любимцева не то чтобы открыло глаза министру на «внутренние» дела Сибири (Пепеляев и до этого знал о сложностях сибирского тыла), но как бы напомнило еще раз об этом и подтвердило мысль о явной недостаточности предпринимаемых мер. Однако другими возможностями министерство внутренних дел не располагало А военному ведомству было не до того…
Летом девятнадцатого года приказом верховного правителя генерал Гайда был «уволен в отпуск по болезни». Формулировка звучала более чем странно и даже издевательски. Двадцатисемилетний Рудольф Гайда отличался отменным здоровьем, и на дюжей широкоплечей фигуре его любой мундир казался тесным. Никто и не поверил в его болезнь. Да и сам Гайда отнюдь не намерен был скрывать истинных причин своего увольнения.
– О! – театрально вскидывая руки, восклицал он в кругу близких ему и сочувствующих людей. – Такой близорукости и слепоты не ожидал я от адмирала. Хотя, про правде сказать, январский случай меня поразил. Помните? Если бы не тот, январский, приказ адмирала, сегодня мы не торчали бы здесь, а находились в Москве… Да, да, в Москве! Разве это не ясно? О! – скрипел зубами Гайда, и крупное удлиненное лицо его, с набрякшими скулами багровело, яростной чернотой наливались глаза. – Помните, как он сорвал тогда наступление на Вятку? Снял мою армию и приказал отвести в тыл… Какой момент был упущен! О!.. – стонал Гайда, тот самый Гайда, который недавно еще рьяно поддерживал адмирала и вместе с хитроумным «финансистом» Михайловым был одним из вдохновителей и подстрекателей ноябрьского переворота, а теперь костерил и поносил верховного на чем свет стоит. – Нет, господа, вы помните, как это было? Левое крыло большевистского фронта предельно ослаблено переброской основных сил на другой фронт, самое время ударить но этому флангу, прорвать его и двигаться на Вятку, а потом на Котлас и Вологду, чтобы соединиться с войсками архангельского направления… Самое время! А он вдруг снимает мою армию, приостанавливает наступление… Помните?
Обиженный Гайда преувеличивал, конечно, вину и просчеты верховного в январских событиях – скорее это были не просчеты, а глубоко продуманные и далеко идущие расчеты: Колчак решил использовать этот момент для того, чтобы пополнить, укрепить и всесторонне подготовить к решающим боям свою армию – и потеря времени, как он считал, должна в итоге обернуться выигрышем. К этому все шло. И Гайда помнит, конечно, апрельское наступление и своей армии, отдохнувшей и реорганизованной, и сорокатысячной Западной армии генерала Ханжи на, которая, нанося «тактические» удары, преследовала по пятам и без того обескровленную, измотанную в уфимских боях 5-ю Красную Армию. А с юга двигались войска Деникина… Казалось, ничто не могло их остановить! И вдруг все непонятно и трагически повернулось: тысячи и тысячи солдат колчаковской армии, спешно мобилизованных, стали переходить на сторону большевиков. Так случилось близ реки Салмыш, где корпус, генерала Бакича потерпел чувствительное поражение, так случилось в районе Белебея, а потом на симбирском направлении, когда на сторону Красной Армии перешли вся Ижевская бригада, а еще раньше, в феврале, башкирский корпус; так случилось, когда в начале мая верховный приказал атаману Дутову прикрыть левый фланг Ханжина и с ходу овладеть Оренбургом, однако дутовские казаки не выполнили приказа…
Теперь получивший отставку Гайда искал причины весеннего провала в январских приказах верховного правителя. Но Гайда, как большинство колчаковских генералов, увлеченных стратегическими задачами, видел лишь военную сторону дела и не видел, не понимал стратегию большевиков, социально-политическую, классовую, сыгравшую в этом тяжелом, смертельном противоборстве двух сил решающую роль. Не знал Гайда, как видно, и слов Ленина, сказанных около года назад, когда не было еще ни авксентьевской Директории, ни колчаковской диктатуры, но когда мятеж чехословацкого корпуса, одним из вдохновителей которого являлся Рудольф Гайда, поставил советскую республику в тяжелейшее положение…
«Пусть не торжествуют белогвардейские банды – их успех кратковременен, в их среде уже растет брожение, – говорил Ленин на митинге красноармейцев 2 августа 1918 года. – Красная Армия, пополняемая революционным пролетариатом, поможет нам высоко поднять знамя мировой социальной революции».
Слова Ленина оказались пророческими: брожение в белогвардейской среде к лету девятнадцатого года достигло небывалого размаха – не только в среде солдатской И нижних чинов, но и в среде высокопоставленной, офицерской и генеральской, в самой Ставке.
Теперь Гайда ни перед чем не останавливался. Обида затмила ему глаза. Особенно после того, как столь же молодой и не менее «блистательный» генерал Анатолий Пепеляев, брат министра, при встрече не подал ему руки. Это было уже слишком!
И «герой разгрома 3-й Красной Армии», как именовали Гайду, явившись во Владивосток, тотчас дал интервью корреспонденту английского телеграфного агентства Рейтер, в котором обвинял Колчака и его сторонников во всех смертных грехах; и дал понять, что он, генерал Гайда, готов по первому зову Антанты снова организовать и возглавить мятеж, как это было в мае прошлого года, но теперь уже – против реакционной диктатуры адмирала…
Колчак, узнав об этом, зло усмехнулся:
– Это меня нисколько не удивляет: эсеры и чехословаки имеют давний альянс. Жаль, что я не разглядел сразу этого выскочку Гайду. По лучше поздно, чем никогда!
Удивило и возмутило адмирала другое: американцы, как сообщила контрразведка, вошли в контакт с чехословаками. пообещав последним отпускать ежемесячно по тридцать тысяч долларов на контрразведывательные расходы. Французы тоже пообещали оказывать помощь… Во Владивосток съезжались видные эсеры. Вели переговоры с Гайдой. А жили на американском корабле, дабы не подвергать себя излишнему риску. Сомнений не оставалось: это был заговор, цель которого – очередной переворот, низложение колчаковской диктатуры, как не оправдавшей себя. Генерал Жанен в разговоре с Ноксом не без иронии заметил: «Адмирал хороший человек, но сейчас, чтобы поправить дела, нужен человек еще лучше…»
Колчак, читая донесения контрразведки, в гневе праведном кромсал спинку кресла перочинным ножом, разбил чернильный прибор в форме двуглавого орла – и головы орлиные с глухим костяным стуком покатились по ковру, оставляя на нем чернильные пятна…
– Это предательство! – кричал адмирал. – Союзники позабыли, что мы им платим золотом! А они чем нам платят? – Адмирал то вскакивал и стремительно ходил, почти бегал по кабинету, пересекая его в разных направлениях, будто сбившийся с курса и «рыскающий» корабль, то снова садился, но не мог усидеть, опять вскакивал, хватал со стола что под руку попадало и расшвыривал… Наконец приступ бешенства прошел, адмирал несколько успокоился, сидел бледный, опустошенно-вялый. И вялым голосом продолжал: – Они обвиняют меня в реакционности. Рассуждают о демократии. Но понимают демократию слишком по-своему, по-европейски, забывая о том, что находятся в России… А в чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят. Пардон! Нас это не устраивает.
Адмирал приказал арестовать Гайду и других «заговорщиков». Пепеляев посоветовал: во избежание осложнений с союзниками – повременить немного.
– Слов нет, союзники ведут себя некорректно, – говорил Пепеляев. – Но ведь надо отдать им и должное – они действительно помогают…
– Помогают? – саркастически усмехался Колчак. – Да, да, помогают! Они помогли топить русский флот. Они помогли разъединить Россию. Они везут через моря целые горы обмундирования, боеприпасов… Знаете, сколько патронов союзники доставили во Владивосток? Полмиллиарда! Да этими патронами можно перестрелять все население России… Помогают! Но чем оборачивается их помощь? Пардон!..
И хотя попытка захвата «всероссийской» власти во Владивостоке окончилась провалом – генерал Розанов, узнав о готовящемся «перевороте», ввел в город свою армию, – тем не менее акции верховного правителя резко упали… Вскоре представители иностранных миссий обратились к нему с требованием вывести русские войска из Владивостока. Адмирал побушевал, побушевал – и примирился. Ради интересов России чего только не сделаешь!..
33
Летом, в середине августа, вернулась в Томск Таня Корчуганова. Николай Глебович, увидев дочь, был поражен. Таня вернулась не просто исхудавшей, изменившейся – она была опустошена и раздавлена. И Николай Глебович сам несколько дней после ее приезда чувствовал себя раздавленным и опустошенным.
Ночами Таня почти не спала, металась и вскрикивала. Она боялась темноты, боялась яркого света… Николай Глебович понимал: никакие лекарства в этом случае не помогут, надежда только на время – оно исцелит. И прежде предупредительно-мягкий и деликатный с дочерью, выросшей без матери на его руках, теперь он особенно был внимателен, всем своим видом и каждым жестом стараясь внушить ей, что жизнь продолжается и надо жить, не теряя себя, при любых обстоятельствах… Надо жить!..
И Таня медленно, тяжело и медленно приходила в себя, возвращаясь к жизни, – время делало свое дело. Да и молодость брала свое. Постепенно исчезла с лица, как бы застывшего и окаменевшего, пугающая бледность, стерлась под глазами чернильная синева, и слабый румянец пробился на щеках, оживив лицо…
Однажды Николай Глебович увидел Таню с книгой в руках. Но подойти и поинтересоваться, что она читает, не решился, словно боясь потревожить, спугнуть в ней это хрупкое и слабое пока, точно первый росток, состояние. Пусть привыкнет к нему, поверит в него.
А в другой раз Таня подошла к пианино и постояла в глубокой задумчивости, трогая отзывчиво-податливые и как бы ускользающие из-под пальцев клавиши, осторожно и неуверенно присела и попыталась что-то сыграть… Но вдруг уронила голову на руки и тихо, беззвучно заплакала, вздрагивая плечами. «Пусть поплачет…» – подумал Николай Глебович. Потом, спустя минуту, проговорил со строгой печалью в голосе:
– Трудно сегодня многим, Танюша. Время такое. Посмотрела бы ты, что творится сейчас в нашей больнице. Палаты переполнены. Не хватает врачей, сестер, нянечек-сиделок, нет медикаментов… – Он глубоко вздохнул и тронул Таню за плечо, задержав на нем руку. – Но жить и работать надо. А знаешь, чем я живу и что меня поддерживает и дает силы в этот тяжелый час? – вдруг спросил. Таня подняла голову и вопросительно посмотрела на него влажно блестевшими глазами, – Сознание того, что кому-то сегодня труднее, чем мне, и надо ему помочь. Это главное. И это, конечно, истина старая, – все с той же печальной строгостью продолжал, – но она никогда не устареет. Понимаешь?
Таня смотрела на отца снизу вверх, чуть откинувшись назад, и глаза ее были уже сухи:
– Спасибо. Он удивился:
– За что ты меня благодаришь?
– За все, – поспешно и горячо она сказала, чего-то не договаривая, и всхлипнула запоздало, шумно и как-то по-детски втягивая в себя воздух. – За то, что ты был для меня отцом и матерью, за то, что ты был и есть… Спасибо тебе!..
– Ну, ну, это ни к чему… – буркнул он, смешавшись и смутившись слегка от этого неожиданного ее признания. – И ты для меня многое значишь, очень многое!..
– Спасибо, – повторила она, успокоилась, перевела дух и, помедлив, сказала твердо и даже с какой-то злой и отчаянной решимостью: – И я хочу помогать тем, кому сегодня труднее… Да, да! Хочу помогать тебе. Ты же сам сказал: не хватает в больнице сестер, нянек-сиделок… А я сижу без дела. Это безнравственно.
Николай Глебович, не ожидавший столь резкого поворота, несколько растерялся:
– Но… ты же учительница, а не сиделка.
– Разве это имеет какое-то значение сегодня?
– И все-таки человек должен заниматься тем…
– Папа! – перебила она его. – Прошу тебя, не отговаривай.
– Хорошо, – кивнул он. – Хорошо, Таня. Давай вернемся к этому разговору чуть позже…
И Николай Глебович не стал отговаривать. В конце концов он даже рад был столь неожиданному и твердому решению дочери, понимая, как важно для нее сейчас, именно сейчас заняться каким-нибудь полезным делом, поверить в себя. Разве не в этом ее спасение?…
Теперь по утрам Таня просыпалась с одной и той же мыслью: не опоздать бы в больницу! Иногда они шли вместе с отцом. Иногда за Николаем Глебовичем, когда он требовался срочно, присылали больничную «карету», и они с ветерком ехали с Воскресенской горы на Юрточную, мимо женской гимназии, через мост, под которым весело поблескивала и журчала Ушайка… Таней овладевало в такие минуты глубокое волнение, близкое к радости – не от самодовольства или переизбытка чувств, а скорее от мысли, что она, Таня Корчуганова, кому-то нужна, ее ждут, от сознания ответственности и нужности своей. Страдания и боли других как бы притупили и отодвинули в сторону собственную душевную боль, и Таня теперь меньше всего думала о себе.
Больница размещалась в двухэтажном кирпичном доме на берегу Ушайки, хотя и не в центре города, но и до центра – подать рукой. И Таня сколько помнит, отец всегда работал в этой больнице. Она гордилась отцом – его известностью в городе, тем, что в городе его уважают и ценят, и еще тем, что отец был первым выпускником первого в Сибири университета… Он часто вспоминал и рассказывал о том, что, когда тридцать лет назад томский университет открылся, в нем был всего лишь один факультет – медицинский. Правильно! Сибирь в то время больше всего нуждалась в своих врачах. Как, впрочем, и сегодня она нуждается в них – истерзанная, измученная, больная Сибирь…
Таня работала в инфекционном отделении, размещавшемся не в основном больничном корпусе, а чуть поодаль, в глубине двора, в небольшом деревянном флигеле-бараке.
Особенно трудно было поначалу. Тяжелый дух инфекционного отделения действовал удручающе. Потом он, этот специфический запах, как будто исчез, и Таня перестала его замечать. Человек привыкает ко всему, даже к страданиям и болям. Но нет большей радости видеть больного, преодолевшего свой недуг, особенно в тот миг, когда он, будто впервые, встает на ноги и заново учится ходить. И Тане иногда казалось, что и она тоже, преодолев свой душевный недуг, заново учится ходить.
В то солнечное и тихое утро, как и всегда, она занималась обычными делами, бесшумно и быстро ходила по узкому сумрачному коридору, заглядывала в палаты, кому-то поправляя подушку, кому-то поднося воды или «утку», кому-то мимоходом и молча улыбаясь. И все это время она испытывала какое-то новое и странное чувство, скорее даже не чувство, а предчувствие чего-то невероятного, необычного, что должно было с нею случиться в этот день… И предчувствие не обмануло.
Когда Таня вошла в третью палату, самую тяжелую из всех шести палат инфекционного отделения, она тотчас обратила внимание на угловую кровать слева, у окна, где только вчера умер старик… Теперь на этой кровати лежал новый больной, совсем, как показалось, молодой, остриженный наголо, неровной лесенкой, крупноголовый парень. Лицо его, налитое густой нездоровой багровостью, пылало в жару. И Таня, взглянув, вздрогнула и остановилась, еще не понимая, чем поразило ее это лицо. Неожиданная мысль остро кольнула: это угловая кровать была несчастливой и даже роковой – вот уже четвертый больной за полторы недели, и трое из них один за другим – словно связанные незримой нитью, скончались… «Неужто и этот?» – подумала Таня с каким-то суеверным страхом. И, приблизившись, чуть наклонилась и заглянула в лицо больного. Вдруг отшатнулась, испуганно подумав или прошептав: «Господи, это же Павел!»
Но откуда, как он мог здесь оказаться?
Невозможно было поверить. И Таня, посмотрев на него еще раз, решила, что все-таки это не Павел, а кто-то очень похожий на него… Но когда присмотрелась – Павел. Невероятно!..
Она кинулась выяснять: откуда и что это за больной? Однако в регистрационном журнале значилось: неизвестный. Оказывается, больной был доставлен без сознания, документов при нем не было никаких…
Таня вернулась в палату и долго стояла, вглядываясь в лицо больного, метавшегося в жару. И чувствовала, как этот жар и ей передается… Сомнений больше не осталось: это был Павел Огородников. По откуда и как он оказался в Томске? – терялась она в догадках.
Потом рассказала об этом отцу. Николай Глебович, выслушав торопливый и сбивчивый ее рассказ, долго молчал.
– Хорошо, – сказал наконец. – Хорошо, что ты мне об этом рассказала. Кому-нибудь еще говорила?
– Нет. Больше никому.
– И не говори пока. Неизвестный – пусть останется неизвестным. А дальше посмотрим, как быть.
– Но как он здесь оказался… в Томске? – удивлялась Таня. – Какая-то мистика.
– Никакой мистики, Танюша, – возразил Николай Глебович. – Думаю, что в Томске он оказался не по своей воле… Не такое нынче время.
– Он выживет? – чуть помедлив, спросила. И Николай Глебович тоже помедлил:
– Не знаю. Состояние, сама видишь, тяжелое. Но будем надеяться на лучший исход. Будем надеяться. Ты его хорошо знала? – глянул на дочь.
– Да. Он очень славный, пана, и мне во всем искренне старался помогать. Потом они с братом ушли из деревни, и я после этого только один раз его видела…
– А брат у него кто? Таня опять помедлила.
– Брат? Степан Петрович. Матрос. Приехал весной, кажется, с Балтики… – Она улыбнулась. – И сразу установил в Безменове Советскую власть. Своеобразно, правда, по-своему…
– Нынче многие по-своему пытаются утвердить власть. Не успеешь понять, что к чему…
– Нет, нет, – вступилась Таня. – Огородниковы очень хорошие люди. Мужественные и справедливые, и я уверена, что такие люди, как они, непременно победят…
– Ты так думаешь? – удивленно посмотрел на нее Николай Глебович. – И уверена в этом?
– Да, – призналась она. – Сейчас я особенно в этом уверена. И хочу этого. Очень хочу!..
– Ну что ж, – после долгой паузы проговорил Николай Глебович, кивая головой, – это вполне естественно и логично. Да, вот именно – логично. И я тоже, представь себе, хочу, чтобы поскорее кончился этот хаос и утвердилась на земле справедливость. Будем надеяться. Так ведь? А теперь вот что: вернемся к своим заботам. И вот о чем хочу я тебя попросить, Танюша: постарайся поменьше задерживаться в третьей палате, во всяком случае не больше, чем это надо… Надеюсь, ты понимаешь меня?
– Да, папа, я понимаю тебя.
Но одно дело сказать, а другое – выполнить. И хотя Таня старалась не показывать своего особого расположения к «неизвестному», удавалось это нелегко и не всегда – и в третью палату заходила она теперь чаще и задерживалась там дольше обычного, объясняя это тем, что третья палата самая тяжелая и нуждается в особом внимании… Впрочем, никто и не требовал от нее никаких объяснений.







