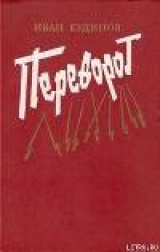
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
23
Днем подле сборни, на пустыре собрались безменовцы – все от мала до велика; люди томились на жаре, невесть чего ожидая, переговаривались тихо:
Чего это нас держуть? Чать, не праздник ноне…
А верховые все еще рыскали по деревням, из конца в конец, выискивая – нет ли охотников уклониться от схода, отсидеться в домах либо на задворках. Пригнали напоследок столетнего старика Чеботарева, он еле ноги передвигал, был глух, как пень, ничего не мог понять, крутил головой и хорохорился:
– Дак ето чё, разопасна твоя боль, опеть новая власть? А я надысь прикорнул на солнышке и будто вижу…
Сатунин, глянув на старика, поморщился:
– А этого на кой черт приволокли? Ладно, – махнул рукой и отвернулся, – пусть поглядит.
– Прикажете начинать? – спросил корнет Лебедев.
Собравшиеся приняли поначалу его за главного – маленький кривоногий Сатунин рядом с ним гляделся невзрачно и незаметно. Подбоченясь и положив одну руку на эфес шашки, корнет оглядел толпу и громко объявил:
Граждане села Безменова! Отныне, чтоб вам было известно, Горный Алтай и вся прилегающая к нему территория объявляется автономией. А вся полнота власти переходит в руки Военного совета во главе с атаманом Сатуниным… Слово атаману.
Сатунин изумленно глянул на корнета, столь неожиданно и самовластно присвоившего ему это звание, но Лебедев был спокоен и невозмутим. «Вот хитрая бестия, – подумал новоиспеченный атаман, – такое придумал… А что? Нынешнее мое положение вполне соответствует… вполне!» – решил Сатунин, принимая это как должное. Он поднялся на ступеньку выше, чем стоял корнет, и заговорил жестким суховатым голосом:
– Советы пали! Иркутск, Новониколаевск, Барнаул, Бийск освобождены! И наш долг – очистить от большевистской заразы Горный Алтай. Как говорится, дурную траву – с поля вон!.. И мы ни перед чем не Остановимся во имя обновления России! – Он умолк, подыскивая слова, и, не найдя, махнул рукой. – Все! Начинайте, корнет. Хватит переливать из пустого в порожнее…
Корнет сбежал с крыльца. Приблизился к тесно сдвинувшейся и настороженно-молчаливой толпе.
– Огородников Петр! – нерасчетливо громко выкрикнул и тут же добавил потише: – Петр Степанович Огородников, подойти к атаману. Живо!
Люди все так же молча смотрели на корнета, и взгляды их показались ему враждебными. Наконец, передние зашевелились и нехотя раздвинулись, пропуская вперед Петра Степановича. Он прошел, едва не задев плечом корнета, прямиком к крыльцу сборни, где рядом с новоявленным атаманом и его офицерами стояла безменовская «знать» – Барышев, Брызжахин и Епифан Пермяков. Не хватало тут отца Алексея, но тому, видимо, сан не позволяет… «Волк волка видит издалека», – подумал Петр Степанович, переиначив поговорку на свой лад. Сатунин оглядел его внимательно. Старик был еще крепок, осанист.
– Ну, что будем делать, Огородников?
– А чего делать? Дела у нас разные… – ответил Петр Степаныч.
– Это верно, – сдержанно и как бы даже миролюбиво согласился Сатунин. – Дела разные: у одного они хороши, у другого… А скажи-ка, любезный, кем доводится тебе Степан Огородников?
– А то неизвестно вам?
– Известно или неизвестно, а ты отвечай, коли спрашивают тебя. Ну, а другой сын где находится в настоящий момент?
– Может, там, где и первый… Не знаю, – пожал плечами Петр Степанович. – Я за них не ответчик.
– Как это не ответчик? Ты их породил.
– Они взрослые. Сами за себя ответят.
– Сами? – не выдержал Барышев. – А когда твои сыны баламутили село, где ты был, Петр Степанович?
– А там, где и ты. Или, думаешь, у меня только и делов, что за сынами глядеть?
– А ты говорун, как я погляжу, – прищурился Сатунин и посмотрел на Петра Степановича в упор. – Сам-то небось тоже за Советы обеими руками?
– Мне все равно, какая власть, лишь бы мужика не притесняла.
– Какого мужика?
– Известно какого: крестьянина.
– А коли этот мужик душу дьяволу запродал? Врешь! Вижу тебя насквозь. И скажу тебе прямо: породивший дьявола – не может быть святым. А ты породил не одного, а двух дьяволов…
– Да я в святые не записываюсь.
– И на что ты надеешься? – Сатунина раздражало, сбивало с толку и в то же время удерживало от крайностей непонятное спокойствие старика. – На что надеешься? – повторил он, глядя ему в лицо. – Ведь я ж тебя расстрелять могу. Засечь могу! Имею на то полное право. По закону военного времени. Что ты на это скажешь?
– А что сказать? Прав тот, у кого сила.
– И то верно! – Сатунин резко повернулся, отыскивая корнета, тот стоял рядом. – Всыпать ему для начала два десятка плетей… нет, не два, а три! – Но и этого показалось мало, и он тут же переиначил: – Отставить! Слишком легко хочешь отделаться, старик, – говорил таким тоном, будто не он, штабс-капитан Сатунин, назначал ему эту меру, а сам он, Петр Огородников, выбирал ее для себя. – Нет, старик, так легко ты у меня не отделаешься…
Петр Степанович стоял, не опуская глаз, но и не глядя на Сатунина, смотрел куда-то мимо, на пустырь, уходивший к реке. Сомлевшие от жары травы, буйно и вольно разросшиеся здесь, отдавали горечью. И этот запах отвлекал Петра Степановича. «Пора и сенокос начинать», – подумалось вдруг. Однако голос атамана не дал ему далеко уйти в своих мыслях, вернул к действительности:
– Ну, вот что я тебе скажу: завтра утром чтоб духу твоего не было в Безменовке! Понял? Дарую тебе жизнь… Уезжай.
– Куда ж я поеду? Здесь мой дом, земля…
– Земля? Ах, земля! – коротко и едко усмехнулся Сатунин. – Смотри, старик, а не то понадобится тебе земли не больше трех аршин… Повторяю: чтоб духу твоего здесь не было! А вздумаешь ослушаться, – медленно, сквозь зубы цедил Сатунин, – расстреляем без суда и следствия.
По закону военного времени. Запомни, старик, я своих слов на ветер не бросаю. Все! Иди. Иди, иди, чего стоишь?
Петр Степанович хотел что-то сказать, но только глотнул воздух открытым ртом, поперхнулся и, пересиливая кашель, пошел прочь, мимо стоявших тут и смотревших на него с виноватым сочувствием односельчан…
А солдаты во главе с унтер-офицером Найденовым уже тащили, подталкивали в спину Михея Кулагина. Пустой левый его рукав, выбившийся из-под опояски, болтался, словно отмахиваясь и защищаясь… Лицо, изуродованное шрамами, болезненно кривилось и морщилось, и Михей, мучительно заикаясь, твердил:
– П-пус-стите, я сам… п-пустите, сволочи!
Его подтолкнули напоследок так, что он едва удержался на ногах. И в тот же миг раздался пронзительный женский голос:
– Да что ж вы делаете, ироды? Креста на вас нет! – кричала Стеша, жена Михея. Кто-то пытался ее удержать, она вырывалась. – Больной же человек, с войны покалеченный… Что ж вы делаете, ироды!
Михея трясло, он пытался засунуть пустой рукав под опояску, шрамы на лице, казалось, еще резче обозначились и густо побагровели.
– Кто такой? – спросил Сатунин.
– А ты к-кто? – Михей никак не мог сладить с рукавом и, оставив наконец это занятие, презрительно посмотрел на штабс-капитана.
Барышев поспешил атаману на помощь:
– Это ж, Дмитрий Владимирович, тот самый мой конкурент, – пояснил он с усмешкой, – который хотел мне хвост прижать… Да руки оказались коротки. Одну вон и вовсе укоротили…
– П-придет время, я т-тебя и одной рукой п-придавлю, вошь ты л-людская! – пообещал Михей. Щеки его дергались в бессильной ярости. Барышев посмеивался:
– Близок локоток, да не укусишь… Нет! Ушло ваше время.
– Врешь, н-наше время т-только начинается, т-только…
– Ну, хватит! – оборвал его Сатунин. – Насчет времени ты не спеши – оно пока в наших руках. Найденов! – позвал унтер-офицера, тот мигом подлетел, вытянулся. – Пятьдесят плетей. Всыпь ему по всем правилам, – приказал атаман. – А мало будет – добавим еще.
Кулагина потащили к стоявшей неподалеку от сборни широкой скамье, подле которой суетилось несколько солдат. Когда содрали с Михея рубаху – увидели, что спина у него вся в шрамах, как и лицо, живого места нет.
– Да он ужо битый… куда ж его еще? – проговорил кто-то из солдат. Найденов цыкнул на него и велел подать плети. Михей лег на скамью лицом вниз, насмешливо сказав:
– П-подремлю пока… разбудите п-потом.
– Мы тебя разбудим, мы тебя так разбудим, вовек не проснешься! – пригрозил Найденов. Он злился отчего-то, нервничал и никак не мог подобрать подходящую плетку. – Чего ты мне даешь, чего даешь? – сердито выговаривал солдату. – Этой плеткой мух отпугивать. Нету лучше?
Солдат оправдывался:
– Дак в Шебалино все как есть поисхлестали…
– А ты для чего приставлен? Смотри у меня! – Найденов покачал увесистым кулаком перед носом солдата. – Еще раз повторится – выпорю самого.
Наконец плетка была подобрана. И Найденов, примерившись, взмахнул ею пока вхолостую – витой конец, с поблескивающим жалом вплетенной проволоки, со свистом рассек воздух… Найденов подошел к лавке, на которой, распластавшись почти во всю длину, лежал Михей Кулагин. Опять закричала, заголосила Стеша, вырываясь из чьих-то рук, заплакали дети: «Тя-ятька!»
– Да заткните им глотки! – выругался Найденов, свирепея, и в первый удар вложил всю свою силу. Михей дернулся, но веревки держали его крепко. Толпа охнула, качнулась, словно и по ней пришелся этот удар. Стеша охрипла от крика. А Найденов все больше входил в раж и только крякал, словно дрова рубил, отсчитывая удары:
– Семь… восемь… девять!.. Не уснул еще, краснопузый? Десять!..
Жарко было. Душно. Солнце стояло над головой – некуда деться от него. Даже деревья в этот полуденный час не давали тени. Спина у Найденова взмокла, пот выступил на лице, застилал глаза, но вытереть его не было времени…
– Семнадцать… восемнадцать…
Хоть бы ветерок подул, остудил лицо. Татьяне Николаевне захотелось поскорее уйти отсюда, чтобы не видеть и не слышать ничего этого… Но куда она могла уйти? Голова кружилась, во рту было сухо и горько.
– Двадцать четыре… двадцать пять!
Татьяна Николаевна, задохнувшись от бессилия, не выдержала и рванулась из толпы:
– Прекратите! Прошу вас… Это же бесчеловечно. Кто-то резко и грубо схватил ее за руки:
– Назад! Куда прешь?
И в тот же миг она услышала другой голос, очень знакомый:
– Таня?! Откуда ты, как ты здесь оказалась? Да отпустите вы ее, чего держите… Таня!..
Она как сквозь туман видела шедшего к ней человека, лицо его как бы отдельно плыло, медленно приближаясь, и вдруг она узнала его:
– Вадим? Круженин… Боже мой, ты-то как здесь оказался?
Вадим растерянно и радостно улыбался:
– А я, когда увидел тебя, глазам не поверил… Никогда не думал встретить тебя здесь.
– И я никогда не думала… встретить тебя здесь, – горестно проговорила она и внимательно посмотрела на него. – Вадим, что происходит? Объясни мне. Как ты с ними оказался?
– Потом… потом, Таня, я все тебе объясню. Нам непременно надо поговорить. Это хорошо, что мы встретились… Очень хорошо! А теперь тебе лучше уйти. Уходи, Таня. Тебе не нужно этого видеть… не нужно. Пойдем, я провожу тебя.
Она кивнула. «Тридцать семь… тридцать восемь!» – уже не выкрикивал, а выхрипывал опьяневший от ярости Найденов, и плетка со свистом рассекала воздух…
– Но как ты можешь на это смотреть? – спросила она.
– Потом я тебе все объясню… потом. Слышишь, Таня?
– А ты слышишь? Боже мой, ты с ними! – как будто только сейчас поняла она все окончательно, впрочем, только сейчас и поняла, ужаснулась и не поверила. – Вадим, как ты мог? Ты с ними… с ними? Это мерзко. Это… это не похоже на тебя!
– Нет! Нет, Таня, поверь… Она поморщилась:
– Если ты ничего не сделаешь, я это сделаю сама… – Не надо, Таня, я тебя прошу, – побледнел Вадим. – Это безумство. Не надо.
– А это не безумство? Это, по-твоему… Трус! – Она оттолкнула его и кинулась вслепую, не зная, что сделает в следующий миг, зная лишь одно: что-то надо делать. – Прекратите! Что же вы молчите, люди?
Ее опять схватили. И она, кажется, на какое-то время лишилась чувств. Когда же пришла в себя, увидела совсем близко чье-то лицо, большую тыквообразную голову, с оттопыренными ушами, отчего казалось, что фуражка держится не на голове, а на ушах… Она узнала это лицо и содрогнулась, но не от страха – от омерзения и ненависти к нему. Сатунин смотрел на нее холодно и прямо, как спрут из воды.
– Кто такая?
Татьяна Николаевна молчала.
– Учительша, – подсказал Барышев. – Приезжая. Одного поля ягода…
– Понятно. Откуда приехала? – спросил Сатунин.
– Отвечать я вам не буду. Пока вы не прекратите экзекуцию. Кто вам дал право истязать людей?
Сатунин сощурился:
– Права, милая барышня, не дают, права завоевывают. – Он покосился в сторону усердно работавшего унтер-офицера, плетка в руках которого змеисто извивалась, поблескивая проволочным жалом: «Сорок восемь… сорок девять… Пятьдесят!» – выдохнул Найденов, устало уронив руки, лицо его было красное и потное. – Вот видите, экзекуция прекращена, – сказал Сатунин с усмешкой. – Так откуда вы приехали?
– Она из Томска, – попытался выручить ее Вадим, отчаяние и растерянность были написаны на его лице. Сатунин повернулся к нему:
– А ты, прапорщик, поперек батьки не суйся. Кто тебя спрашивает?
– Простите. Но мы хорошо знакомы. Отец ее, между прочим, известный в Томске врач…
– Меня интересует барышня, а не ее отец. Найденов! – отвернувшись и как бы тем самым считая разговор оконченным, громко позвал. Унтер-офицер на сей раз подошел не так проворно – видно, работа у него была не из легких. – Двадцать плетей! – приказал Сатунин. – И не смотри на меня такими глазами. Барышня заслуживает большего, но для начала ограничимся…
Татьяна Николаевна с ужасом видела, как спрут зашевелился и выполз из воды, протягивая к ней свои щупальцы… Она вздрогнула и невольно отступила.
– Пойдемте, барышня, – позвал Найденов и взял ее за руку. – Пойдемте. Все одно не миновать…
Вадим шагнул к нему, резко оттолкнул и заслонил Таню:
– Прочь, унтер! Иначе я тебя… – Лицо Вадима вспыхнуло, даже шея покраснела, и он, чтобы освободить ее, расстегнув ворот мундира, скользнул рукой вниз, по бедру, зашарив по кобуре. Сатунин зорко следил за каждым его движением, сам же пока стоял неподвижно, ничего не предпринимая. – Не смейте! – повернулся к нему Вадим. – Это, штабс-капитан, недостойно русского офицера. Немедленно отмените свой приказ.
– Посторонись, прапорщик, – холодно и тихо сказал Сатунин. – Приказа своего я не отменю.
Вадим не сдвинулся с места.
– Дурак ты, Круженин, – поморщился Сатунин. – Дурак и размазня. Не понимаешь ситуации…
– Вы правы, штабс-капитан, я многого не понимал. А теперь начинаю понимать…
– Мальчишка… сойди с дороги!
– Ни за что! Если вы посмеете…
– Посмею. Посмею, прапорщик. Посторонись! Ты застишь мне свет… Найденов! – вдруг закричал, багровея. – Чего стоишь как истукан? Исполняй приказ!
Найденов шагнул было вперед, по остановился, увидев в руке прапорщика револьвер.
– Не подходи, унтер, – предупредил Вадим. – Прочь!
– Ты это брось… не шути с этим, – хрипло сказал Найденов, не спуская глаз с прапорщика. И в этот миг сухой и короткий звук, словно щелчок бича, ударил в уши. Вадим вздрогнул, ощутив пронзительно-горячую пустоту в груди, жар хлынул в лицо, опалив горло… Он медленно повернулся и удивленно посмотрел на Сатунина:
– Вы не посмеете, штабс… – И не договорил. Земля косо ушла из-под ног, и небо, опрокинувшись, как бы накрыло его. Никогда прапорщик Круженин, за все свои двадцать два года, не видел так близко над собою небо…
– Так-то вот, – сказал Сатунин, засовывая в кобуру наган. Круто повернулся и пошел к сборне. Следом за ним, чуть поотстав и не проронив ни слова, двинулись Барышев и корнет Лебедев. Трава шуршала под сапогами – и в наступившей тишине шаги звучали глухо и тяжело, так будто земля противилась и не желала их принимать…
***
Среди ночи вспыхнул в Безменове пожар. Пламя взметнулось к небу, слизывая звезды, и в жарком свете его видно было, как трещат и рушатся стропила дома…
Лаяли с протяжным воем собаки в разных концах деревни.
Люди выскакивали на улицу, спрашивали друг друга.
– Где горит? Кто горит?
– Кажись, Огородниковы…
Однако сатунинские солдаты никого близко не подпускали.
И к утру от огородниковского дома остались одни головешки.
24
И середине лета раздробленные остатки красногвардейских и повстанческих частей пытались еще оказывать сопротивление двигавшимся с юга, от Кош-Агача, по Чуйскому тракту, карательным отрядам Серебренникова и штабс-капитана Сатунина, объявившего себя «военным диктатором» Горного Алтая, а с северо-запада, со стороны Бийска и села Алтайского, регулярным соединениям полковника Хмелевского и капитана Федоровича… Однако остановить их не могли – слишком неравны были силы. Обескровленные, обезглавленные красногвардейские группы, лишенные прилива свежих сил, боезапасов и продовольствия, не имевшие к тому же никакой связи друг с другом, поспешно отходили одни к Уймону, в глубину гор, другие к станице Чарышской, надеясь найти там поддержку среди казачьего населения. Увы! Поддержки не было – знать, не приспело еще время. Обстановка же для контрреволюционных сил складывалась благоприятной – и силы эти выглядели в то лето грозными и несокрушимыми. Помимо регулярных частей, действия которых координировались главнокомандованием Временного Сибирского правительства, в предгорных районах и по Чуйскому тракту, в больших и малых деревнях, усилиями кулаков и монархически настроенных офицеров, выжидавших и выждавших своего часа, спешно сколачивались добровольческие дружины. Все они считали себя так или иначе обиженными Советской властью и мстили ей с особой яростью и злобой, подавляя малейшие признаки и остатки ее в деревнях. Особой жестокостью отличались «Алтайская дружина» урядника Кирьянова и «туземный дивизион» подъесаула Кайгородова. Но и они выглядели ангелами в сравнении с «атаманом» Сатуниным, зверства которого доходили до садизма и вызывали ропот и недовольства даже среди его приближенных… Несколько дней назад в Онгудае он учинил расправу над совдеповцами, которых выдали местные кулаки; в Мыюте арестовал около шестидесяти человек, заподозренных в сочувствии большевикам, – и пошла в ход плетка. Десять человек были замучены. В Безменове остались два трупа – бывший фронтовик Михей Кулагин скончался, не приходя в себя, после тяжких побоев, нанесенных плеткой унтер-офицера Найденова, и прапорщик Круженин…
Оттуда Сатунин двинулся на Улалу, захватив с собой пленных, среди которых была и безменовская учительница… Сатунин понимал, что в Улале никто не ждет его с распростертыми объятиями, поскольку никому не хочется добровольно выпускать из рук власть – и был готов к любым неожиданностям.
Улалу, однако, заняли беспрепятственно. Вошли без единого выстрела. Правда, и встречи торжественной не было, – ни хлеба-соли, ни колокольного звона… Может, это и к лучшему. Сатунин расквартировал свое воинство, разместил арестованных в подвале купца Хакина, произвел новые аресты и потребовал от каракорумцев немедленных переговоров. Гуркина в это время не было в Улале. Пришлось довольствоваться встречей с подполковником Катаевым.
– Моя платформа, надеюсь, вам известна? – спросил Сатунин, не скрывая раздражения.
– Известна.
– Тем лучше будет договориться.
– К сожалению, вести переговоры я не уполномочен, – уклонился военспец Каракорума. Сатунин презрительно на него посмотрел:
– Какую же роль, подполковник, вы исполняете в этой клоаке?
Катаев вспыхнул:
– Попрошу, штабс-капитан, выбирать выражения.
– Да бросьте вы! – поморщился Сатунин. – Сейчас не до сантиментов. Давайте говорить прямо.
– О чем?
Сатунин подумал немного:
– Во-первых, надо принять совместный меморандум.
– Меморандум? – удивился подполковник и пожал плечами. – На кой черт вам этот меморандум?
Сатунин протяжно зевнул, провел пальцами по глазам и с силой потер виски.
– На всякий случай. Авось пригодится. А вы что предлагаете?
– Ни-че-го. Я же вам говорил: не имею полномочий. И потом, – помедлил чуть, – сдается мне, штабс-капитан, что вам не меморандум нужен, а признание Каракорумом вашей диктатуры…
– А ты дипломат, подполковник, – усмехнулся Сатунин. – Как в воду глядел. Надеюсь, ты-то понимаешь, на чьей стороне сила?
– Понимаю.
– Вот и прекрасно! Думаю, Гуркин тоже поймет… После разговора с военспецем Каракорума Сатунин решил, что здесь, в этой клоаке, ухо надо держать востро А главное, никаких церемоний и сантиментов. Он приказал перекрыть все въезды и выезды, усилить наряды, установить пулеметы на всех основных улицах – на крышах домов, на колокольне… Ему доложили: святые отцы недовольны его самоуправством и просят не осквернять божьи храмы. Сатунин отмахнулся:
– Бог простит. А со святыми отцами у меня нет времени вести переговоры. Передайте, что я им добра желаю, пусть и они по-доброму себя ведут. А то ведь я тоже могу обидеться…
На другой день, под вечер, вернулся Гуркин. И Сатунин решил сам нанести председателю Каракорум-Алтайской управы визит. Гуркин встретил его подчеркнуто сухо и даже неприветливо. Кивнул на стул. Подождал, пока Сатунин усаживался. Спросил раздраженно:
– Скажите, по какому праву въезд в Улалу закрыт? пришлось простоять битый час, пока меня пропустили…
– Приносим свои извинения. Это наши часовые перестарались. А въезды перекрыты исключительно с одной целью: не допустить никаких провокаций… Надеюсь, это не только в наших, но и в ваших интересах.
– Слишком многих волнуют наши интересы. Сатунин пропустил мимо ушей эти слова.
– Аргымай передавал вам поклон, – сказал он после паузы, и это прозвучало как пароль. Гуркин поднял голову и посмотрел на Сатунина пристально:
– Вы знаете Аргымая?
– А кто его не знает? Знаю и Аргымая, и брата его Манжи. Кульджины – хорошие люди. Они и о вас, Григорий Иванович, очень высокого мнения, – улыбнулся Сатунин, решив на этот раз действовать дипломатичнее. – И мне, по правде говоря, не хотелось бы иметь другого мнения…
– Мнение должно быть у каждого свое, – сухо возразил Гуркин.
– Да разумеется, я тоже ценю это в людях, – пытался дипломатничать Сатунин, хотя давалось ему это нелегко, и он в конце концов выдохся. – Давайте говорить прямо. Объявленная мною военная диктатура, хотя и крайняя мера, но исключительно важная и необходимая. И она в наших общих интересах.
– Что же у нас общего? – спросил Гуркин.
– Любовь к Горному Алтаю. Разве этого мало? Наша цель – искоренить сам дух большевизма, отстоять тем самым законные права алтайского народа на самоопределение…
– Слишком много невинной крови проливается, штабс-капитан.
– Почему же невинной? Всякие жертвы – это неизбежность войны. Я вас понимаю, вы человек сугубо штатский, художник по натуре, и на многое смотрите другими глазами, чем мы, люди военные…
– Это что же за взгляд у вас, у военных, такой особый? – иронически поинтересовался Гуркин.
– Нам чужд всякий пацифизм. И я лично другого пути не вижу и не знаю. Подскажите, если вы знаете, – Сатунин выжидающе помедлил, по Гуркин не ответил. – Вот видите, и вы не знаете. Мне, Григорий Иванович, хочется одного: чтобы Каракорум поддержал нас но двум главным линиям. Первое: Военный совет, в руках которого должна быть сосредоточена вся полнота власти.
– Иначе говоря, всю полноту власти вы хотите сосредоточить в своих руках?
– А почему бы и нет, если это на пользу дела! К тому же в Военный совет войдут и ваши люди.
– А если Каракорум не пойдет на это?
– Боюсь, что это будет самая большая ошибка Каракорума. И второе, – считая, должно быть, вопрос о «военном совете» решенным, перешел к другому. – Нужен указ об автономии Горного Алтая. Надеюсь, вы сознаете, насколько важно это сегодня, когда решается судьба народа…
– Автономия, штабс-капитан, давняя мечта нашего парода. Об этом говорилось и решалось на недавнем нашем съезде… Однако на каком основании и для чего нужен этот указ сегодня?
– На основании наших общих интересов, – сказал Сатунин и встал. – Прошу вас подумать об этом. И дать ответ завтра.
– Хорошо. Мы подумаем, – пообещал Гуркин и решился заговорить о том, что беспокоило его и не выходило из головы на протяжении всего разговора. – Просьба одна, штабс-капитан. Мне стало известно, что в Безменове арестована вами учительница Корчуганова… Считаю это недоразумением. И надеюсь на ваше благоразумие.
– Вас только учительница интересует? Гуркин пояснил:
– Она дочь моего давнего и хорошего приятеля. Прошу вас, штабс-капитан, освободить ее из-под стражи.
Сатунина удивила осведомленность Гуркина, но в то же время ему захотелось довести до конца роль дипломата и он, разведя руками, сказал:
– Ну что ж, как говорится, друг моего друга – мой друг. Считайте, что вопрос улажен.
Спустя некоторое время Сатунин говорил корнету Лебедеву:
– Нет, каков апломб! Они, видите ли, решили подумать – поддержать нас или не поддержать. А мне плевать на их поддержку! Обойдемся. Ладно, – несколько снизил тон. – Гуркин, конечно, профан в военном деле. Да и в политике, судя по всему, дальше Улалы не видит. Но авторитет у него в Горном Алтае большой, но следует об этом забывать. Послушай, корнет, что там с безменовской учительницей? – вдруг спросил, будто и впрямь ничего не знал о ней. Лебедев удивился:
Учительница? Так она ж под арестом. А что?
Надо освободить, – сказал Сатунин, чем еще больше удивил корнета.
– Как освободить? Но-о…
– Я сказал, освободить! – резко оборвал его Сатунин. – И без всяких «но». Так надо, – добавил мягче. И усмехнулся. – Политика. Дипломатия. Ради нее, корнет, на что только не пойдешь!..
После жарких, ведренных дней наступило похолодание. Видно, где-то в горах выпал снег, Пошли дожди, неторопливые и нудные. Перемена погоды подействовала на Сатунина удручающе. К тому же, как стало известно, Омск был уже осведомлен о его действиях и отнесся к ним весьма сурово и неодобрительно. Больше того, приказом управляющего военным министерством генерала Гришина-Алмазова Сатунин объявлялся мятежником. Телеграмма, экстренно разосланная в Барнаул, Бийск и Улалу, была недвусмысленной:
«15 июля 1918 года, – говорилось в ней, – в селении Улала образовался какой-то Горно-Алтайский центральный военный совет в составе капитана Сатунина, корнета Лебедева и других неизвестных лиц. Считаем Сатунина военным мятежником и предлагаем ему прекратить самовольную деятельность по организации Советской власти. Приказываю немедленно ликвидировать эту авантюру. Сибирское правительство и я не допустим существования опереточных республик. Все участники этого заговора должны быть арестованы и препровождены в Омск.
Управляющий военным министерством и командующий армией генерал-майор Гришин-Алмазов».
Сатунин, ознакомившись с этим приказом, пришел в ярость:
– Какой заговор? Какая Советская власть? Да они что там… в своем уме или рехнулись окончательно!
Однако оставаться в Улале было небезопасно, и Сатунин решил отходить на Чергачак. Магазины местных купцов и лавочников были освобождены от «излишков» – мануфактуру, кожи, бакалейные товары погрузили в телеги и брички, и обоз тронулся в путь.
Доктор Донец, исполнявший обязанности секретаря управы, настиг Сатунина, когда тот одной ногой стоял уже в стремени, и потребовал освободить трех граждан Улалы, арестованных без всякого на то права…
– А вы по какому праву предъявляете мне эти требования? – спросил Сатунин.
– По праву законности.
– Вы что же, считаете мои действия незаконными?
– Не я один так считаю. Правительство такого же мнения…
– Какое правительство? – не вынимая ноги из стремени и находясь в столь неловкой для него позе, насмешливо прищурился Сатунин. – Какое правительство?
– Законное.
– Законность нынче не в моде, и говорить о ней, по меньшей мере, глупо. Что еще?
– Вами арестованы служащие управы. Двое из них больны. И я как врач вынужден констатировать…
– Ну, хватит! – оборвал его Сатунин. – Констатировать буду я. Найденов! – Унтер-офицер был рядом. – Доктор очень жаждет быть в нашем обозе. Возьмите его… под стражу.
– Меня? – изумился и не поверил Донец. – Но это… это же нарушение всяких норм.
– Нормы, гражданин доктор, я сам себе устанавливаю.
– Я член управы.
– Плевать мне на вашу управу! – Сатунин сел наконец в седло и, тронув коня, добавил насмешливо: – Среди арестованных есть больные… вы же сами констатировали. Так что врач нам нужен позарез.
Татьяна Николаевна изменилась за эти дни до неузнаваемости – лицо осунулось, потемнело, движения были вялыми и неуверенными. Видимо, ей не сказали, куда и зачем ведут, и она растерялась, увидев Гуркина. Григорий Иванович подошел к ней. Взгляд ее остался холодным и отсутствующим. Он осторожно взял ее руку, и рука ее тоже было холодной и безответно-вялой.
– Здравствуйте, – сказал он тихо. – Вы очень устали, Танюша? – спросил и вдруг понял всю неуместность и бестактность этого вопроса. Но о чем и как говорить – не знал. – Успокойтесь. Очень вас прошу, Таня, успокойтесь. Теперь все самое худшее позади. Теперь вас никто не обидит… – говорил и видел, что она никак не реагирует на его слова, как будто не слышит. Гуркин умолк и с минуту разглядывал ее лицо, отрешенно-холодное, безразличное, с резкой и некрасивой складкой у рта, делавшей ее какой-то неузнаваемой другой, непохожей на себя; и он еще заметил на виске у нее, около уха, маленькую ссадинку, густо наплывшую синеву под глазами, безвольно опущенные плечи… «Боже мой! – подумал он, чувствуя перед ней и свою вину, хотя в чем его вина – трудно было представить. – Что они с ней сделали!»
Потрясение было столь велико, что в конце концов он и сам растерялся, не зная, что делать, как быть и чем ее утешить. Однако он попытался все же это сделать.
– Таня, милая, поверьте: теперь вы в полной безопасности. И я сделаю для вас все возможное. Скажите же хоть слово… Таня!..
Он усадил ее, в кресло, подле стола, потом выглянул в соседнюю комнату и попросил там кого-то приготовить чай и позвать доктора… Когда же он снова вернулся к столу, Таня сидела, неестественно выпрямившись и слегка запрокинув голову, и беззвучно плакала. Губы ее кривились и вздрагивали, слезы текли по щекам. Гуркин обеими руками взял ее за плечи, и она вдруг прижалась к нему, не в силах больше сдерживать рыданий. И долго не могла успокоиться.
– Ну, ну, теперь что же, теперь уже ничего… – бормотал он, чувствуя, как у самого холодеет и сжимается все внутри. – Прошу тебя, успокойся. Ну? Успокоилась?
Она кивнула, всхлипывая и закрывая ладонями заплаканное лицо.
– Григорий Иванович, скажите, что мне делать? – спросила, не поднимая головы. – Как дальше жить?
Гуркин провел рукой по ее волосам, погладил, как маленькую, как иногда он ласкает и тешит своих детей, и тихо сказал:
– Прежде всего, Танюша, тебе надо отдохнуть, успокоиться. Прийти в себя.
– Во мне ничего не осталось…
– Это пройдет. Вот отдохнешь, успокоишься – и все пройдет.







