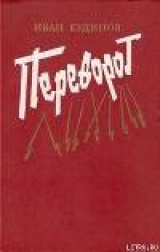
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Командиры переглянулись. Как? Для них он все же был никто, во всяком случае никем и ничем не командовал, к повстанческому движению прямого касательства не имел… О чем ему говорить? Однако после некоторых колебаний все-таки разрешили:
– Ладно, пусть говорит. Послушаем.
Третьяк встал, скрипнув кожаными гетрами, и примолкшие командиры выжидательно и с любопытством уставились на него.
– Во-первых, товарищи, как мне кажется, вы не там ищете причины своих неудач, – сказал Третьяк.
– А в чем же они, по-твоему, наши неудачи?
– Причины в том, что нет в отрядах настоящей революционной дисциплины, товарищеской спайки. Посмотрите, что происходит: повстанцы уходят из отрядов, когда им вздумается, закидывают ружья на плечи – и по домам. Подоспела, видите ли, жатва… А там – молотьба. Мужик без дела сидеть не будет.
– Это правда, – согласились командиры. – Что и говорить, сильно оголяют ряды.
– А вы сами, партизанские вожаки, – продолжал Третьяк, – перед кем отвечаете за свои действия, с кем согласовываете? И кто, наконец, направляет и координирует ваши действия?
– Кто ж их будет направлять? Главковерха у нас пока не имеется… – сдержанно посмеялись.
– А жаль. Жаль, что не имеется! Вот и получается, что отряды крутятся вокруг своих деревень, а дальше дороги не знают…
– Свои деревни тоже надо защищать.
– Надо, кто спорит. Только кто же будет защищать другие деревни? И потом, как я полагаю, Советскую власть надо утверждать не только в деревне. А для этого требуется сила.
– Где ж ее взять? Подскажи, если знаешь.
– А я уже сказал: прежде всего, необходимо укрепить в отрядах дисциплину. Затем: нужен главный штаб партизанской армии, который бы каждодневно направлял все действия, решал тактические и стратегические задачи…
– Прежде армию надо иметь, – язвительно заметил Огородников. – А где она?
– Вот это правильно, – согласился Третьяк. – Вот с этого и надо начинать. Нужна единая и крепкая повстанческая армия. Такая вот, как этот кулак, – вскинул руку и сжал пальцы. – Только тогда можно рассчитывать на победу. А мелкие вылазки и отдельные удачи общего успеха не принесут, поверьте мне.
– Верим, – сказал Огородников. И вдруг предложил: – Вот ты, Иван Яковлевич, и бери это дело в свои руки.
Командиры, смотревшие теперь на Третьяка иными глазами – грамотный мужик! – неожиданно горячо и дружно поддержали Огородникова. И Третьяк не успел глазом моргнуть, как был избран комиссаром по организации повстанческой армии.
– Да вы что, товарищи? – растерялся он. – Чтобы заниматься этим, нужно хорошо знать Горный Алтай, положение дел во всех его районах, а я человек новый…
– Ничего, узнаешь. Проводника дадим хорошего. Вон Акимова, он Горный Алтай знает вдоль и поперек… Да ты за ним, товарищ Третьяк, как за каменной стеной будешь! – повеселели командиры. Настроение враз поднялось, потому как вопрос вроде бы прояснился и надежда на успех появилась реальная.
– Ну что ж, – сказал Третьяк, – спасибо за доверие. Будем работать. Надеюсь, для начального ознакомления найдется хотя бы географическая карта?
Оказалось, что ни у кого из командиров и карты не было.
– Ладно, – построжел Третьяк, – выйдем из положения.
***
Сентябрь стоял по-осеннему ломкий. Временами с белков потягивало холодом, небо пронзительно синело, и по утрам хрусткой изморозью схватывались пожухлые травы… Днями, однако, растепливало, солнце светило ярко. Бойцы оживлялись, выпрямлялись в седлах, забывая об усталости. Кони и те, казалось, веселее и тверже ступали по каменистой дороге, огибавшей отвесный склон горы…
Третьяк ехал стремя в стремя с Огородниковым. Рыжий конь под ним был крупный, спокойный и выносливый, под стать хозяину. Опустив ременный повод, Третьяк с удивлением разглядывал горы, совсем близкие, но и в то же время недоступные, уходившие черными изломами вершин в поднебесье. Для него здесь все было ново и непривычно, и ему на ходу надо было привыкать к этой необычной обстановке, осваиваться, чтобы, преодолев первые трудности, научиться потом использовать горные условия в своих интересах… А интересы его теперь были всецело и неразрывно связаны с партизанским фронтом, которого, в сущности, еще не было, но думал он о нем постоянно и видел его отчетливо, как вот эти горы.
– Иван Яковлевич, я вот о чем думаю, – повернулся Огородников, и кони их пошли совсем близко, прижав боками ноги всадников. – А не допускаем ли мы просчет, уходя в горы, а не в степь, через казачью линию? Надо соединяться с партизанской армией Мамонтова, к ним прорываться…
– Заманчиво, конечно, идти навстречу Мамонтову, влиться в его армию, – сказал Третьяк. – Только не будет ли это похоже на бегство?
– Какое же это бегство?
– Ну, не прямо говоря… Но с чем мы явимся к степнякам? Полторы сотни кое-как вооруженных партизан…
– И Чуйский тракт оставим открытым для колчаковцев, – добавил Акимов. – Этого нам никто не простит.
– Чуйский тракт и без того открытый, – возразил Огородников. – Держать его под контролем у нас пока сил не хватает.
– Пока не хватает, – согласился Третьяк. – Сегодня не хватает, а завтра положение должно измениться. Зачем же вы меня комиссаром по организации повстанческой армии избрали? Чтобы я вместе с вами явился к Мамонтову… на готовенькое? Примите нас, мы – хорошие…
– Все это так, – как будто согласился, но не избавился полностью от сомнений Огородников. – Конечно так. Но если бы мы соединились со степной армией, мы бы тем самым ускорили наступление на Горный Алтай, разве нет в этом тактической выгоды?
Третьяк внимательно посмотрел на него:
– Тактическая выгода, товарищ Огородников, в том, как мне думается, чтобы не извне ждать помощи, а изнутри взорвать колчаковские тылы… своими силами. Тогда наступление пойдет не с одной стороны, а с двух, а то и со всех четырех сторон. Есть разница?
– Разница конечно, есть…
– Нам надо иметь свой фронт, свою армию. Горную армию, если хотите. В том наша тактическая выгода.
– Такую армию нам бы сегодня, – задумчиво сказал Огородников. – Чтобы не бояться открытых встреч с врагами. Конечно, вы правы, – окончательно согласился, – идти нам сейчас к Мамонтову не с чем…
Отряд, растянувшись по узкой крутой дороге, по которой телеги едва-едва проходили, цепляясь втулками за каменные выступы, выплеснулся наконец на ровную неширокую поляну. Слева текла речка, справа остались горы, а впереди чернел лес, сквозь чащу которого проглядывали вдали рассыпавшиеся, как отара овец, деревенские дома…
– Что за селение? – спросил Третьяк.
– Камышенка, – тотчас ответил Акимов, подъезжая вплотную. – А дальше, по ходу нашего движения, будет Паутово, левее останется Лютаево…
Третьяк улыбнулся:
– А ты и вправду, товарищ Акимов, знаешь Алтай наизусть.
– Так я же бывал здесь не раз – белку мы тут промышляли с отцом.
– И много ее тут, белки?
– Тьма. И соболь водится… – Он быстро и цепко оглядел с ног до головы словно литую, крепкую фигуру Третьяка и улыбнулся. – Вот добудем парочку-другую и сошьем вам отличный малахай. И шубу сошьем, – добавил, заметив, что легкое драповое пальто узковато в плечах Третьяку, да и сделано, как говориться, на рыбьем меху – продувает его, должно быть, насквозь, как решето.
– Шуба – это хорошо, – согласился Третьяк. – Нам бы сейчас сотни две кожушков не помешали… Ну что, командир, – повернулся к Огородникову, – идем на Камышенку?
– Надо бы прежде разведать, чтобы не напороться на засаду.
Послали разведчиков, и те, минут через двадцать вернувшись, доложили, что в Камышенке тихо. Слишком даже тихо. Когда отряд вошел в деревню и остановился на небольшой площади подле сборни, Третьяк подивился той настораживающей, необычной тишине. Собаки и те не лаяли, попрятались, как видно, не желая себя выдавать… Посовещались командиры и решили собрать людей. Человек десять верховых мигом обскакали деревню. И вскоре камышенцы потянулись один за другим к сборне. Подходили, останавливались чуть поодаль, поглядывая не без опаски на верховых – нынче не знаешь, с какой стороны беда нагрянет… Третьяк удивился тому, что собрались почти одни старики.
– А где же ваша молодежь? – поинтересовался он. – Не видно что-то.
– Дык нету… откель ей взяться? – ответил стоявший впереди и ближе всех высокий седобородый старик, в подвязанном цветной опояской зипуне. – Нонеча, по военному-то времени, по домам сидят старые да малые… Кха-кха! – покашлял сдержанно, в кулак, пряча глаза под густыми нависшими бровями.
– Где же они, если не дома? – спросил Третьяк. Но старик был осторожен:
– А кто их знает… время военное. Кха-кха…
– Поймите, товарищи, – продолжал Третьяк, не добившись ясного ответа, – сегодня, когда борьба с врагами Советской власти идет не на жизнь, а на смерть, Отсиживаться в кустах невозможно. Сегодня из двух одно. Либо они нас, либо мы их – другого исхода нет и не может быть! Неужто вам это не понятно?
– Понятно. Очень даже понятно, – ответил опять седобородый и, чуть наклонившись и скособочившись, похлопал себя рукой пониже спины. – Вот этим самым местом пришлось понять, чуйствие спытать… По сю пору ни сесть, ни лечь. Кха-кха… Советская власть, говоришь, а где она?
Третьяк держался спокойно.
– Советская власть в наших руках. И он нас – всех вместе – зависит дальнейшая ее судьба. Так что без вашей поддержки, товарищи, без ваших рук полного успеха не добиться. Такое дело.
– Дык поддержим… коли Советская власть образуется.
– Выходит, помогать вы намерены только тогда, когда Советская власть победит? – не выдержал, вмешался Огородников. – А как же она победит, если вы, мужики, помочь ей не желаете? Или вам больше подходит старый режим?…
– Старый режим нам ни к чему. Вам легко рассуждать, – обиженно сказал другой старик, сдергивая зачем-то с головы мятый вылинявший картуз. – Вам чего: ноги в руки – и айда! А нам тут оставаться, жить… Лонись вон тоже горлопанили, горлопанили, сбили мужиков с панталыку… да и были таковы. А нам шкурой своей пришлось расплачиваться. Поперва Сатунин явился, учинил кзекуцию, сек всех подряд, не разбираясь, а посля Кайгородов с каракорумцами нагрянул…
– Боитесь за собственную шкуру?
– Боимся! А как же… Шкура у нас одна, спустят – другой не дадут.
– Правильно. И мы вас хорошо понимаем, – сказал Третьяк. – Но и вы поймите: Советскую власть никто нам не блюдечке не преподнесет, за нее надо драться с оружием в руках.
– Наше дело стариковское, мы свое отвоевали…
– Однакоче будя, старики! – вмешался вдруг седобородый, круто повернув разговор. – Правильно говорит командир: негоже отсиживаться. Чего там! – махнул рукой и повернулся к Третьяку. – Поможем. Чем богаты – тем и рады. Кха-кха… А нащет молодых скажу: недалеко они тут в горах да по уреминам ховаются, потому как не желают служить Колчаку. Так что будет у вас пополнение, – пообещал твердо.
Решили сделать в Камышенке передышку. Расквартировались. Выставили усиленные дозоры. И вскоре по всей деревне задымили бани. Такое в последнее время не часто удавалось, и партизаны радовались, как дети, этому случаю.
Третьяк, Огородников и Акимов отправились в первый жар. Нахлестывали друг друга пахучим березовым веником, покрякивая и постанывая от удовольствия. Казалось, каждая косточка прогревается и отмякает в густом и жгучем пару…
– А что, Иван Яковлевич, – смеялся Огородников, – в Америке, поди, нету таких бань, как у нас в Сибири?
– Нету, нету, язви их… – смеялся в ответ и Третьяк, скатываясь с полка. Акимов залюбовался могучей его фигурой – отпустила же природа человеку такую стать и силу! Илья Муромец – да и только.
– Видал я, Иван Яковлевич, крупных людей, но такого богатыря, как вы, впервые вижу… Интересно, сколько в вас весу? – спросил Акимов.
Третьяк, начерпывая в деревянную шайку щелоку, посмеивался:
– Около восьми пудов. А что ж… Революцию защищать и должны крупные люди. – И чуть погодя уже серьезно добавил: – Крупные и сильные не только телом, товарищ Акимов, но и духом. Это прежде всего.
Рано утром вернулась конная разведка и доложила: со стороны Паутово движется большой отряд каракорумцев.
– Большой… А поточнее? – спросил Огородников.
– Человек пятьсот, не меньше.
– А у вас от сраху не троилось в глазах?
– Никак нет, – обиженно отвечали разведчики, – видели хорошо.
– Ну что ж, – сказал Огородников, – встретим их, как подобает…
Однако Третьяк решительно возразил:
– Нет, нет, нельзя этого делать сейчас. Нельзя. Отряд обескровлен и не готов к этому… Положим людей – и только.
– Что же делать? – спросил Огородников.
– Отходить.
Спешно оставили Камышенку, прошли с версту вдоль речки – и повернули на Лютаево…
Огородниковский отряд увеличивался, как снежный ком, по дороге: вначале примкнуло к отряду тридцать камышенских парней, скрывавшихся от колчаковской мобилизации неподалеку от села; чуть позже, верстах в девяти от Коргона, столкнулись (и чуть было не перестреляли друг друга) с коргоноабинскими повстанцами, среди которых оказалось немало фронтовиков, упорно не желавших расформировываться… Однако и таял отряд, как снежный ком, когда хорошо пригревает: почти ежедневно откалывались в одиночку и группами уставшие, полураздетые и потерявшие веру в успех повстанцы… Никакие доводы и уговоры не помогали. Так и шло: одни примыкали к отряду, другие уходили из него, поддавшись упадническому настроению, которое подогревалось и усугублялось, кроме всего, провокационными слухами: дескать, повстанческое движение на Алтае подавлено полностью, остались лишь отдельные жалкие группы, а потому военные власти адмирала Колчака предлагают повстанцам разойтись по домам и заняться мирным трудом, обещая при этом не применять к ним никаких карательных мер…
– И вы поверили? – спрашивал Третьяк, внимательно оглядев каждого из семнадцати человек, стоявших перед ним понуро, но с твердым намерением – уйти. – Поверили этой наглой и открытой провокации?
– Дак нету ж никаких сил больше, товарищ комиссар… Второй год, почитай, без роздыху бьемся, бьемся… как рыба об лед – а толку никакого.
– Ладно, – махнул рукой Третьяк. – Уходите, коли решили. Но с одним условием. – Он помедлил и уточнил: – Пожалуй, даже два условия. Первое: обратный путь в отряд для вас открыт. И как только вы на собственной шкуре испытаете все «прелести» колчаковских обещаний, как только поймете, что нет у вас иного пути, чем путь борьбы за Советскую власть, так и возвращайтесь… Придете и другим расскажете – почем фунт лиха. – Третьяк остановился напротив крайнего мужика, с винтовкой на плече – назвать его бойцом или повстанцем язык не поворачивался – и окинул его холодным и жестким взглядом с головы до ног; тот поежился и передернул плечами под этим взглядом. – Фамилия как? – спросил Третьяк.
– Кононыхин. Ефим Кононыхин.
– И далеко ты теперь, Кононыхин, идешь?
– Дак верст тридцать… ежели напрямую. Деревня Коргон.
– А ты? – глянул на другого.
– Трусов моя фамилия, товарищ комиссар, я тоже из Коргона…
– Трусов, значит? – переспросил Третьяк, усмехнулся чему-то и перевел взгляд на третьего, но вдруг отвернулся и твердо сказал: – А теперь второе условие: оружие, какое у вас имеется, сдать. Все! Можете уходить.
Однако, несмотря на все потери, повстанческий отряд с каждым днем возрастал. И однажды решился даже, используя внезапность, атаковать находившуюся в Сентелеке казачью часть. Атака получилась внушительной, и казаки, оставив село, в панике отступили. Однако и повстанцы задерживаться тут долго не стали и в тот же день двинулись вверх по реке Белой, на деревню Чечулиху… Опомнившиеся казаки вскоре вернулись и кинулись вдогонку. Кроме того, слева от Чуйского тракта все ближе и ближе подходили регулярные части полковника Хмелевского, пытаясь настигнуть отступающих партизан и, зажав их в горных теснинах, полностью уничтожить. Что делать? Мнения командиров разделились: одни предлагали выбрать хорошую позицию, закрепиться и дать противнику бой – пример внезапного взятия Сентелека был живым и убедительным подтверждением возможностей отряда; другие поддерживали Третьяка: сегодня важнее – сохранять и накапливать силы для грядущих боев. А взятие Сентелека – это скорее тактический ход: пусть враг помнит, что партизаны в любое время готовы перейти в наступление.
– Вот и давайте перейдем, – настаивали сторонники немедленных и решительных действий.
– Нет, товарищи, – возражал Третьяк, – нам теперь не стоит ввязываться в мелкие стычки… Риск – дело благородное, но рисковать надо с умом.
– Сколько же можно отступать? Люди теряют не только силы, но и веру в свои силы.
– А вы им внушите эту веру, на то вы и командиры, – сказал Третьяк и повернулся к Акимову. – А ты что скажешь, товарищ проводник? Местность ты знаешь наизусть, вот и подскажи – как можно пройти, чтобы и силы сберечь, и от противника оторваться. Есть такой путь?
Акимов подумал и ответил:
– Есть. Через Плесовщихинский перевал. Но должен вас предупредить: путь очень трудный, неимоверно трудный.
– Хмелевский туда не сунется?
– Думаю, что нет.
– А казаки?
– Казаки тем более.
– Хорошо, – кивнул Третьяк. – Вот мы и пойдем через этот перевал. Другого пути у нас нет.
Подъем на Плесовщихинский перевал казался бесконечным.
Кони скользили по камням, испуганно всхрапывая, и спешившиеся люди тянули их за поводья изо всех сил, рискуя вместе с ними сорваться, сверзиться вниз, в головокружительную пропасть. И чем выше забирались, тем опаснее становилось идти, труднее дышать – закладывало уши, сжимало виски… Третьяк испытывал это и на себе: временами тело делалось вялым и непослушным и стоило немалых усилий, чтобы преодолеть эту слабость, не выказав ее перед другими. Высота давала о себе знать. У одного бойца, молодого парня, носом пошла кровь, и он, опустившись на землю и запрокинув голову, виновато шмыгал:
– Не ко времени, язви тя в душу… Щас я, щас. Должно, какая-то жилка лопнула, капилляра…
Но это были только цветочки, а ягодки предстояло еще вкусить. Когда поднялись на вершину, подул ветер – и сразу похолодало. Внезапно повалил снег, да такой обильный и сырой, что дальше идти стало невозможно. Пришлось остановиться. Застучали топоры, затрещали срубленные деревья – и вскоре спасительные костры, постреливая искрами, отодвинули тьму… Запахло теплом и дымом. Люди ожили, повеселели. Сидя вокруг костров, освещенные пламенем, они выглядели довольно странно – какие-то неземные существа. Третьяк подошел к одному из таких бивуаков и понял, отчего такой вид у людей: спасаясь от холода, они натягивали на себя все, что могли – мешки, какую-то ряднину, кошемные потники из-под седла, а иные даже сырые, невыделанные кожи, снятые с забитого на мясо скота и чудом уцелевшие, оказавшиеся теперь как нельзя кстати…
Третьяк улыбнулся при виде такой картины:
– Витязи в телячьих шкурах… Терпимо?
– Терпимо, товарищ комиссар. Лезьте к нам, – теснясь и поудобнее умащиваясь под хрустящей на холоде шкурой, предложили бойцы. – Места хватит.
– Ничего, скоро буран кончится…
Но снег валил всю ночь и на следующий день прекратился только к вечеру. Вдобавок ко всему кончился хлеб, не было соли. Сваренное в котлах мясо отдавало травой – да и котлов не хватало. Тогда решили остатки сырого мяса раздать тем, кому не хватило вареного, и бойцы, нанизывая его на палки, жарили прямо над кострами…
Положение становилось критическим. Настроение людей опять упало. «Завели нас на погибель, – роптали и уже в открытую высказывали недовольство партизаны. – Не выйти нам отсюда. Все. Амба!»
Третьяк приказал простроить отряд.
Снегопад кончился. Прояснилось. Но сугробы вокруг лежали непролазные.
– Товарищи! Самое трудное позади, – сказал Третьяк. – Нам выпало нелегкое испытание, но мы с честью из него вышли. А теперь еще одно усилие – и мы достигнем цели. Еще немного, товарищи…
Только на третий день измученные невероятно тяжелым переходом повстанцы спустились к реке Загрехе и остановились в небольшой деревне Куташ. Здесь, внизу, было тепло и солнечно. Жители Куташа удивлялись: какой снег, откуда ему взяться, если до покрова еще далеко? И партизаны поглядывали теперь на далекие, как бы отодвинувшиеся вершины Плесовщихи со смешанным чувством страха и гордости: неужели и в самом деле преодолели они этот гибельный перевал?…
Вернулись с верховьев Загрехи, из монастырских угодий, куташские мужики и рассказали: какой-то красный отряд захватил женский монастырь и вторые сутки бесчинствует, изгаляется над послушницами…
Третьяк не поверил:
– Быть такого не может! Что за отряд? Каким числом?
– Числа не ведаем, – отвечали мужики. – Может, сто, а может, и двести. А командует имя Белокобыльский…
Никто, однако, ничего толком не мог сказать о Белокобыльском – кто он, что и откуда? Мало ли нынче всяких отрядов…
– Но этот выдает себя за красного! – возмущался Третьяк. – Вон какую молву разносят по горам… Надо пресечь.
Решили выступить немедля. Отдохнувший за ночь отряд спешно двинулся вверх по Загрехе. И часа через два был уже на подходе к женскому монастырю, раскинувшемуся на высоком бугре. Виднелся издали белокаменный собор, золотом отливали на синем фоне причудливые кресты…
– Неужто храм? – удивился Третьяк. – В такой глухомани?
– Храм и есть, – подтвердил Акимов. – Лет пять назад его тут возвели. Стараниями игуменьи Серафимы…
– Богатая, значит, игуменья?
– Бога-атая. За чужой счет…
И все-то он знал Акимов. Разговор оборвался. И все внимание теперь было сосредоточено на узкой тележной дороге, петлявшей редколесьем, вдоль реки, потом круто забиравшей вверх, по косогору, к темневшему в полуверсте монастырскому двору. Двор был обнесен глухим и высоким заплотом, будто крепостной стеной.
Троих партизан послали, чтобы они проверили надежность монастырских ворот и распахнули, когда понадобится. Они и распахнули им по первому сигналу…
Глухо загудела земля под копытами лошадей, ударило в лицо встречным ветром. Отряд ворвался на монастырский двор внезапно, без выстрелов и без криков – так было приказано. Метнулись несколько человек, поспешно хоронясь за бревенчатыми стенами завозни, подле двухэтажного дома, в окнах которого мелькнули и тут же исчезли какие-то лица… Чутье подсказало Третьяку, что именно этот дом надо брать в первую очередь, не мешкая и не давая опомниться осажденным… Дом тотчас был окружен. И Третьяк с Акимовым и Огородниковым первыми ворвались в него, распахнув тяжелую наружную дверь. Какой-то насмерть перепуганный верзила столкнулся с ними в коридоре, сивушным запахом разило от него, как из винного погреба. Огородников схватил парня за воротник и тряхнул изо всей силы:
– Где ваш… командир? Белокобыльский где? Парень, заикаясь и мотая головой, с усилием выдавил:
– Там… в трапезной… с игуменьей гуляет.
– Где? – рявкнул Степан, размахивая револьвером. – Трапезная где, пьяная твоя рожа?
Парень зажмурился и втянул голову в плечи, ожидая выстрела, но уже в следующий миг инстинкт подсказал ему иные действия – и он по-заячьи, скачками, кинулся по узкому лабиринту коридоров, указывая дорогу к трапезной… А следом спешили партизаны. Тяжелое дыхание и топот заполнили коридор, будто где-то рядом бухали молоты и раздували десятки кузнечных мехов.
Третьяк ударом ноги открыл дверь трапезной, шагнул через порог – и вот они: прямо перед ним за длинным деревянным столом сидело несколько человек… Но игуменьи среди них не было. Белокобыльского же распознать было нетрудно: он сидел в центре, при полном параде, крест-накрест перетянутый ремнями, с красным бантом на левом кармане гимнастерки…
– Встать! – приказал Третьяк. – И выходить по одному.
– А вы кто? И по какому праву? Я тут командую… – Белокобыльский даже не пошевелился, в то время как остальные поспешно и почти разом вскочили. Огородников подошел вплотную, глаза в глаза:
– Встать, кому сказано! – И резким коротким движением сорвал у него с гимнастерки красный бант. – Дерьмо ты, а не командир.
Белокобыльский, бледнея, нехотя поднялся:
– Вы у меня ответите… Эй, охрана! Проспали… вашу мать! Шкуру спущу…
– Тихо, тихо, – успокоил его Третьяк. – Побереги свою шкуру. Прошу сдать оружие.
Отряд Белокобыльского (без единого выстрела и без единой жертвы) был разоружен, выведен и построен подле собора на ровной зеленой поляне. Воинство это выглядело весьма разношерстно и пестро; некоторые стояли сумрачно-помятые, с опухшими лицами, опустив глаза долу, а некоторые, не успев еще протрезветь, хорохорились и выкрикивали какие-то несуразности, требуя вернуть им оружие. Однако и они вскоре примолкли, поняли, что горлом тут не возьмешь.
Привели Белокобыльского. И Третьяк, глядя на него в упор, спросил:
– А теперь объясни: кто ты такой и по какому праву учинил в монастыре этот разгул?
Они стояли рядом, и со стороны могло показаться, что ведут разговор мирный, доверительный и даже дружеский.
– Нечего мне объяснять, – отвечал Белокобыльский. – Люди устали, и я им дал передышку… Это мое право. И я требую вернуть мне и моим бойцам оружие. Война с врагами революции пока еще не кончилась.
– Для тебя война уже кончилась. Неужто тебе непонятно, что действия твои на руку врагам революции?
– Послушайте! – вскинул голову Белокобыльский, свинцово-серые глаза его зло и холодно, как два пистолетных дула, уставились на Третьяка. – Послушайте, вы… Не знаю, где вы были все это время, а мой отряд, не жалея сил, дрался с белогвардейцами. Нужны доказательства? Спросите любого бойца.
– Спросим, когда потребуется. А сегодня мы своими глазами увидели, как вы тут воюете. С кем и против кого? Против ни в чем не повинных женщин?…
Белокобыльский усмехнулся и сплюнул.
– Эта, что ли, женщина? – презрительно глянул на стоявшую рядом с Третьяком игуменью Серафиму. – Кого защищаешь? Тьфу! Ты меня прости, но я тебя не понимаю…
– А я тебя, кажется, начинаю понимать.
– Контра! – вздыбился было Белокобыльский, но под прямым и тяжелым взглядом Третьяка несколько сник и понизил голос: – Ты не меня, а вот ее копни… душу ей наизнанку выверни, много чего там увидишь…
Прямая и высокая игуменья стояла бледная, с плотно сжатыми губами, скрестив на груди руки.
– Господи, спаси и помилуй… – тихо проговорила, почти не размыкая губ. – Что деется на земле!..
Третьяк все так же прямо смотрел на Белокобыльского:
– Сначала я в твоей душе хочу копнуть… чтобы понять, откуда такие, как ты, берутся.
– Такие, как я, делают революцию.
– Врешь! Не такие. Кто дал тебе право учинять насилие над людьми?
– Я командир красного партизанского отряда и прошу с этим считаться…
– Красного? Похоже, красный цвет для тебя – это лишь кровь и ничего больше. Скажите, – повернулся к игуменье, – сколько всего женщин находится в вашем монастыре?
– Сто сорок, – ответила игуменья и пояснила: – Девять монахинь, сорок шесть рясофорных послушниц и восемьдесят пять сестер… Но теперь тут и половины того не сыскать.
– Где же они?
– А вы вот его спросите, – глянула на Белокобыльского, и глаза ее гневно блеснули. – Господи, что творится! Белые приходили – пили и грабили, выгребли из монастырских амбаров все, что могли… Сестер принуждали ко греху мирскому. Эти пришли – чем лучше? А над сестрой Маврой, – тихо и горестно прибавила, – надругались и те, и другие… Вот и он надругался! – опять обожгла взглядом Белокобыльского. – Испоганил тело ей и душу…
Белокобыльский затравленно зыркнул из-под красных опухших век:
– Сестры ваши и сами не против мирских утех. Бабы как бабы, все при них…
– Не кощунствуй! – повысила голос игуменья, прямая и решительная, суровая в своих темных и длинных одеждах, готовая, кажется, в этот миг ради истины святой пойти хоть на заклание. – Сестра Мавра после того руки хотела на себя наложить… Грех, грех-то какой! А батюшку Николая, пастыря монастырского, за что вы секли до бесчувствия? – подступала к Белокобыльскому. Он растерянно и зло усмехался. – Высекли, а потом остригли, глумясь над старым человеком… За что?
– Батюшку мы остригли за непослушание… Пусть богу молится, что легко отделался. Потерявши голову, по волосам не плачут… Прошу оградить меня от наскоков контры, – повернулся к Третьяку. – Прошу это сделать немедленно!
– Оградим, – пообещал Третьяк. – Непременно оградим.
Наутро Белокобыльский и четверо ближайших его сподвижников, наиболее жестоких и отъявленных насильников и мародеров, по приговору срочно созданного военно-полевого суда, «как элементы, чуждые делу революции», были расстреляны. Эхо ружейного залпа грянуло и глухо отозвалось в горах, скатилось по увалам вниз, к речке Загрехе, и здесь погасло…
Студеной синевой отливало сентябрьское небо.
Отряд же Белокобыльского, числом более ста двадцати человек, почти полностью присоединился к отряду Огородникова; люди поняли наконец, куда завел их бывший командир, раскаялись и повинились, обещая кровью своей в борьбе за Советскую власть искупить вину, смыть это позорное пятно.
– Ну что ж, – сказал Третьяк перед строем объединенного отряда, – нашего полку прибыло! Четыреста бойцов сегодня в строю. И впредь ряды наши будут расти каждодневно, я в этом уверен. Ибо правда – на нашей стороне! А насчет полка я не оговорился: настало время его сформировать… да он уже, по существу, сформирован, первый горно-партизанский революционный полк.
Спустя три дня полк готовился выступить на Черный Ануй. В эти дни и произошло два события, может, и не равных по своему значению, но не менее важных оттого. Однажды утром в штаб зашла игуменья Серафима и сказала, что сестры Николаевского женского монастыря, благодарные большевикам за их доброту и великодушие, решили оказать им помощь.
– Чем же вы решили помочь Советской власти? – поинтересовался Третьяк.
– Чем богаты, – сказала игуменья. – Проведали мы, что с провиантом у вас плохо, вот и решили, елико возможно, дать вам из своих запасов крупы, соли, муки… Безвозмездно, – добавила. – Такое наше желание – и господь нас на это благословил.
Слух об этом скоро разнесся. И партизаны, удивляясь, говорили друг другу:
– Гляди-кось, монашки и те решили содействовать нам: хлеба, крупы дают… Ну, теперя никакой Колчак нас не одолеет!..
А за этой новостью – еще одна: вернулись коргонские мужики. Акимов, три дня назад избранный начальником штаба первого конно-партизанского полка, зашел к Третьяку, чтобы доложить об этом.
Иван Яковлевич, кутаясь в свое легонькое драповое пальто, записывал что-то на крохотном листочке. Акимов заметил, что рука у него дрожит и карандаш прыгает по бумаге…
– Похолодало опять, – виновато сказал Третьяк. – Ну, что там нового?
Акимова насторожил его вид, и он, приглядевшись, удивленно спросил:
– Что с вами, Иван Яковлевич? Вас же лихорадит. Может, фельдшера позвать?
– Не надо фельдшера, – поспешно возразил Третьяк. – Обойдется. Завтра на рассвете выступаем – не до фельдшера… Да и ты, как видно, не за тем пришел. Какие новости?







