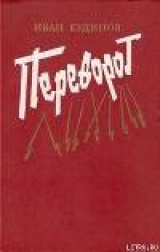
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
26
Погода в тот день, когда Степан Гуркин приехал в Онгудай, была сухая и жаркая. Где-то в полуверсте от деревни каракорумцев остановил конный разъезд.
– Кто такие? – строго спросил молодой прапорщик, подъезжая вплотную. Гуркин показал свой мандат. Прапорщик долго разглядывал бумагу, затем вернул и усмехнулся: – Какая честь! Сам Гуркин пожаловал…
– Ты вот что, – угрюмо посоветовал Степан Иванович, – оставь свои телячьи восторги для другого раза.
– Другого раза может и не быть.
– Я член Военного совета – и тебе надлежит это знать.
– Знаю. Следуйте за мной. Но предупреждаю: любая попытка с вашей стороны… – Прапорщик не договорил и, развернув коня, поехал, не впереди, а чуть сбоку, видимо, из каких-то своих тактических соображений. «Щенок лопоухий, – глядя на него, подумал Степан Иванович. – Да я тебя уложу в два счета, если захочу… Нужен ты мне!»
А вслух спросил:
– Капитан Сатунин где сейчас?
– Атаман там, где ему и надлежит быть. Зачем он вам? – в свою очередь поинтересовался прапорщик. – Насколько мне известно, Каракорум гнет свою линию и атамана не поддерживает…
– А вот это не твоего ума дело. Твое дело – службу нести.
– Вот я и несу. А вам советую поменьше разговаривать.
– Послушайте, вы…
– Отставить! – решил показать себя прапорщик. – Вот доставлю вас в штаб, там и поговорите.
Он отвернулся и не проронил больше ни слова. Степан Гуркин тоже молчал. Самолюбие было задето. И когда вскоре подъехали к штабу и он увидел Сатунина, стоявшего подле ограды в окружении нескольких офицеров, первым желанием было – сказать ему что-то резкое, прямое, без всяких обиняков. Но Сатунин встретил его приветливо, даже как будто обрадовался его приезду:
– Очень хорошо, Степан Иванович, что приехали!
– Приехал, как видите, под конвоем, – обиженно усмехнулся Гуркин. Сатунин развел руками:
– Что поделаешь? Военное положение.
– Каракорумская управа – единственная законная власть на территории Горного Алтая, и члены управы могли бы свободно и беспрепятственно передвигаться по этой территорий…
– Свободно будем передвигаться, когда покончим с большевиками. Неужто Каракоруму неясно, что враг у нас один? И связаны мы одной ниточкой…
– Зачем же тогда рвать эту ниточку?
– Кто ж ее рвет? А-а, вы, наверное, имеете в виду арест вашего доктора? А что по просьбе Григория Ивановича освободили учительницу – это не в счет?
– Доктор Донец – член Каракорумуправы.
– Мразь этот ваш доктор. И зря вы о нем хлопочете.
– Это единственный на весь округ врач. И мне поручено во что бы то ни стало его освободить.
– Интересно! Каким же образом вы собираетесь это сделать?
– Полагаясь на ваше благоразумие.
– А если мы уже расстреляли вашего доктора? Или живьем закопали?…
– Этого быть не может!..
– Ну, а если… Тогда что?
– Тогда я окончательно перестану вас понимать. Сатунин засмеялся:
– Слава богу, не все еще потеряно! – И вдруг, построжев, сухо сказал: – Можете забирать своего доктора. Не велика потеря.
– Когда это можно сделать? – серьезно держался и Степан Гуркин.
– Да хоть сегодня.
Стоявший рядом корнет Лебедев напомнил:
– Но доктор Донец сейчас там… – И неопределенно махнул рукой.
– Знаю, что там, – сказал Сатунин. Степан Иванович вопросительно посмотрел на него:
– Где там?
– Зря беспокоитесь, цел будет ваш доктор… если, конечно, сам не окочурится от страха. Хотите убедиться? Прошу вас… поедемте.
И минут через пять они уже ехали но главной улице села, безлюдной и тихой в этот полуденный час.
– Поверьте, – все с той же миролюбиво-обезоруживающей улыбкой говорил Сатунин ехавшему рядом, стремя в стремя, Степану Гуркину, – никуда нам не уйти друг от друга. Никуда! И это не простое стечение обстоятельств, а логика событий. Смысл борьбы, Степан Иванович, если хотите. Поэтому смею надеяться, что скоро, очень скоро Каракорум изменит свое отношение ко мне.
Степан Гуркин разговора на эту тему не поддержал.
– Куда мы едем?
– Скоро увидите, – Сатунину, должно быть, доставляло удовольствие держать его в неведении. – Надеюсь, нервы у вас крепкие? В отличие от вашего доктора…
– Нервы у меня крепкие. Что вы хотите этим сказать? Сатунин ответил не сразу.
– Зрелище будет не из приятных. А что делать? Война приятным зрелищем никогда не была. И нравы в ней всегда победители. Победителей, как известно, не судят. А вот побежденных…
Деревня осталась позади. И некоторое время они ехали высоким обрывистым берегом, потом резко повернули, как бы окунувшись в прохладу узкого каменистого распадка, и вскоре опять выехали к реке, на ровную небольшую поляну, залитую солнцем. Но еще до того, как они выехали сюда, на эту поляну, окруженную горами и лесом, до слуха явственно донеслись глухие твердые звуки, словно чем-то тяжелым долбили каменистую землю… Оказалось, что так и было: несколько человек, орудуя заступами, копали неширокую продолговатую яму… Тут же стояло несколько солдат и казаков, мирно беседующих и дымивших самокрутками. Увидев Сатунина, от этой группы отделился дюжий, плечистый унтер-офицер и торопливо пошел навстречу. Землекопы остановились, перестав работать, смотрели на подъехавшего атамана с каким-то напряженным ожиданием.
Картина и в самом деле могла показаться мирной – так тихо и солнечно было вокруг и таким покоем, такой нерушимостью веяло от близких гор… Однако стоило подъехать ближе – и картина предстала совсем иной: и мужики с заступами в руках, одетые кто во что, босые, простоволосые, уже не производили впечатления обычных землекопов, а выглядели – как и было на самом деле – людьми подневольными, обреченными, и яма, выкопанная ими, была не простой ямой…
Сатунин, поравнявшись с унтер-офицером, спросил:
– Ну, что тут, Найденов… все в порядке?
– Так точно, господин атаман! Яма почти готова.
– Сколько человек работает?
– Девять человек. Десятый был доктор. Но с ним сделалось плохо, пришлось отвести его под кусточки…
– Как плохо? Что вы тут натворили? – притворно возмутился Сатунин. – Я же вас предупреждал. Или не поняли?
– Никак нет, все поняли. Но он хлипкий больно, доктор-то, непригодный к такому делу… – оправдывался Найденов. – Дали ему в руки заступ, велели копать… ну, для порядка малость припугнули его: копай, копай, мол, для себя стараешься… Он и сморился.
– Ладно, – махнул рукой Сатунин. – Продолжайте. Чего они встали? – кивнул на землекопов. Найденов кинулся туда, закричал:
– А ну копать… копайте, псы шелудивые! Я за вас буду работать? Не мне там лежать…
Всадники спешились.
– А что я вам говорил? – повернулся к Степану Гуркину Сатунин. – Размазня ваш доктор. И умереть-то как следует не умеет.
– Этому никто не обучен.
– Но это должно быть в крови человека.
– Что делать, штабс-капитан, если мы не только умереть, но и жить как следует не научились…
Сатунин хмыкнул и, ничего больше не сказав, пошел но жестко шуршащей траве через поляну – туда, где работали землекопы… Степан Иванович постоял, наблюдая издали. «Неужто неясно… одной ниточкой мы связаны». Глухо стучали заступы. Комья красноватой глины летели снизу, из глубины ямы, стоявшие наверху подхватывали ее и отодвигали, отбрасывали подальше, чтобы она не сыпалась обратно… Лица землекопов казались похожими, были они одинаково землисто-серыми и безразличными, словно близкая смерть уже наложила на них свой отпечаток. Но, подойдя ближе, Степан Иванович увидел, что землекопы разные и вовсе друг на друга непохожие… Они работали размеренно и не спеша, словно оттягивая время, отпущенное им на эту работу, и по их землисто-серым и как бы уже лишенным какого бы то ни было выражения лицам стекал пот, оставляя на щеках и подбородках грязные следы. Они работали молча, не глядя друг на друга, и в этом тягостном и напряженном, точно сговор, молчанье было что-то угрожающее и непонятное. Степану Ивановичу стало не по себе. Он чуть отступил, готовый повернуться и уйти, чтобы не видеть ничего этого, и повернулся уже, сделал несколько шагов, как вдруг чей-то негромкий и даже слабый голос остановил его:
Шли, брели да два гнеды тура…
Степан Иванович обернулся и с удивлением посмотрел на маленького, щуплого старика, которому принадлежал этот голос. Старик медленно и как бы нехотя отбрасывал землю и сдавленно-низким, хрипловатым голосом пел. Гуркину показалось это невероятным – петь на краю могилы, которую ты сам себе копаешь… Немыслимо! И непонятно. Но старик пел:
Белоногие да златорогие,
Они шли, брели на Киян-остров…
Старик был маленький и щуплый (в чем только душа держится?), но руки у него жилистые, большие и цепкие, немало, видать, поработавшие на своем веку.
Уж вы где. детушки, побывали,
Чего повидали?…
Голос его все крепчал и становился чище, отчетливее. Найденов шагнул к старику и грубо толкнул его в спину:
– А ну цыц, распелся, пес шелудивый!
– Сам ты пес шелудивый! – огрызнулся старик, презрительно глянув на унтера. – Тоже мне указчик нашелся…
– Оставь его, – сказал Сатунин. – Пусть поет. Послушаем.
Но старик теперь молчал. И только сильнее сжимал в руках лопату. Сатунин подошел ближе:
– Что, старик, не хочется умирать?
– А кому ж хочется?
– Жалеешь небось, что связался с большевиками?
– Я об одном жалкую, – прищурился старик, – не доведется увидеть, как вашу кумпанию к стенке поставят. Вот об этом шибко я жалкую.
– То-то и оно, что не доведется, – усмехнулся Сатунин и заглянул в яму. – Кончайте! Вполне подходящая…
Найденов, оскальзываясь и осыпая в яму комья глины, скомандовал:
– Лопаты забрать! Живо, живо!.. Снизу, из ямы, кто-то взмолился:
– Потише там нельзя? За ворот сыплется…
– Потерпи, братец, – усмехнулся Найденов. – Сейчас мы тебе не только за воротник насыпем…
Солдаты засуетились, разбирая лопаты, поспешно связывая приговоренных. Кто-то отчаянно сопротивлялся, его ударили но лицу. Возня. Пыхтенье. Ругань.
– Долго вы еще будете возиться? – раздраженно спросил Сатунин. Солдаты подталкивали, теснили связанных к обрыву ямы. Один из них, высокий, худощавый, в разодранной напрочь рубахе, встал, рядом со стариком и ободряюще улыбнулся разбитыми губами:
– Выше голову, дядька Митяй! Пусть посмотрят, как умирают большевики.
– Заткнись, красная рожа! – рыкнул Найденов. – Скоро духу вашего не останется.
– Врешь, дух наш останется. А ведь ты боишься нас, – засмеялся. – Боишься нашего духу.
– А ты, комиссар Селиванов, не боишься? – спросил Сатунин. И они с минуту смотрели друг на друга в упор. – Или только делаешь вид, что все тебе нипочем?
– Страшно тем, кому не за что умирать, – ответил Селиванов. – Таким, как ты, самозванный атаман, или как вот тот господин, который лежит под кусточками… Вы еще с ним найдете общий язык.
– Может, и найдем. Жаль, что с тобой не нашли…
– Никогда!
– Последний раз предлагаю: скажи, где скрывается Огородников, и мы пощадим тебя…
– Избавь меня от этой пощады. А Степан Огородников сам вас найдет. И тогда не ждите пощады…
Сатунин, не дав ему договорить, коротко и резко толкнул, Селиванов потерял равновесие – и лицо его, с как бы забытой на нем усмешкой, мелькнуло над земляным бруствером…
Степан Гуркин отвернулся и быстро пошел прочь, по жесткой траве, через поляну, слыша за спиной крики, стоны, скрежет лопат и глухой, твердый стук падающей в яму земли… Гуркин пересек поляну и вскоре увидел Донца. Доктор сидел подле телеги, привалившись спиной к колесу. Неподалеку, под березой, стоял солдат с винтовкой в руке, вид у него был сонный и равнодушный. Рядом паслась стреноженная лошадь, хомут и седелко не были сняты, плохо примотанная супонь свисала до земли – видно, что делалось тут все небрежно и наспех, хотя по виду солдата, приставленного охранять доктора, этого нельзя сказать. Доктор Донец, увидев подходившего, выпрямился и сильно побледнел:
– Степан Иванович… господи боже мой! – Силы, однако, оставили его, и он, обмякнув, снова привалился спиной к колесу. – Если б вы только знали, что они тут вытворяли надо мной… Невероятно!
– Ничего, ничего, Владимир Маркович, теперь все позади. Сегодня мы с вами уедем в Улалу.
– Меня освободят?
– Вы уже свободны.
– Наконец-то! А то уж я и не надеялся выбраться отсюда…
Вдруг наступила тишина. Странная. Оглушающая. Степан Гуркин почувствовал ее не слухом, а всем существом своим и, медленно повернувшись, посмотрел туда, откуда текла, исходила эта тишина. Поляна была все та же и в то же время что-то было не так, что-то переменилось на ней. Все так же синело над головой небо, духмяно пахли травы, блестела на повороте река, лишь темный земляной бугор, насыпанный неровно, казался тут лишним, ненужным и мешал, как соринка в глазу… И еще Степан Гуркин заметил: людей стало меньше. Несколько солдат, воткнув лопаты в землю, жадно и торопливо курили, вполголоса о чем-то переговариваясь. Сатунин стоял уже подле своего копя и что-то объяснял, выговаривал Найденову. Тот повернулся к солдатам и негромко приказал:
– Кончайте перекур! Да лопаты не забудьте.
Степан Гуркин, проходя мимо свеженасыпанного земляного бугра, невольно задержал шаг. Солдаты, разобрав заступы, удалились, А на гребень холма опустилась черная ворона, посидела, дергая хвостом, отрывисто каркнула и взлетела. Раскаленный воздух мрел и дрожал перед глазами. Вдруг почудилось: откуда-то снизу, из-под земной толщи, бугрившейся здесь, посреди поляны, вот этим наспех и неровно насыпанным холмиком, доносится голос… Степан Иванович вздрогнул и замер, поежился, ощутив холодок иод сердцем, повернулся и быстро пошел прочь, подальше отсюда…
Вскоре поляна и вовсе опустела.
27
Гуркин в то лето редко бывал в Аносе. И те случайные кратковременные наезды, когда удавалось вырваться на денек – иногда он оставался и на ночь – воспринимались дома, как праздник. И сам он, приезжая домой, испытывал облегчение, однако хозяином себя не чувствовал. Странно. И Марья Агафоновна не спешила, как прежде, с просьбами и поручениями, хотя дел по хозяйству было через край, а напротив, старалась и для себя выкроить лишний часок, чтобы побыть с мужем… Праздник так праздник! Но праздника не получалось. И в мастерской он чувствовал себя посторонним. Ходил из угла в угол, не зная, за что взяться, прикасаясь то к одному, то к другому, брал наконец кисть, примерялся и, словно спохватившись или чего-то испугавшись, поспешно клал ее на место. Так ведут себя гости в отсутствие хозяина… Со стен смотрели на него знакомые пейзажи. Григорий Иванович помнил, где, когда и как были они написаны. Но и пейзажи эти казались ему чужими и далекими, как далеки бывают выросшие и ставшие самостоятельными дети… Иногда и хотелось бы что-то исправить в них, переиначить – да поздно. Он потрогал и снова взял, повертел в руках кисть, разглядывая ее так, словно видел впервые. Сколько же ей лет, этой великолепной колонковой кисти? Двадцать? Или больше? Она принадлежала когда-то. эта кисть, его учителю, великому пейзажисту Шишкину. Гуркин берег ее, постоянно держал при себе, хотя и не писал ею – она была своеобразным амулетом, приносившим удачу… Отчего же удача отвернулась от него? Гуркин подумал вдруг о том, что кисть эту надо взять с собой в Улалу. И всегда иметь при себе… Однако что-то его удержало, и в последний момент он передумал вздохнул и положил кисть на прежнее место.
Уезжал он с тяжелым чувством. Спешил в Улалу, надеясь там успокоиться и укрепиться духом, погрузившись в дела. Но и там не находил себе места, чувствовал, как никогда, зыбкость и неопределенность своего положения Что с ним происходило? Когда-то он мечтал стать художником, выразителем дум и чаяний своего народа, и он стал художником – картины его теперь знает вся Сибирь. Но что изменилось? Народ его как был, так и остался темным и забитым. Боги и те, как видно, отвернулись от этого народа. А как задабривал он, бедный алтайский кочевник, своих богов, сколько принес им жертв! И все напрасно. Боги то ли не приняли этих жертв, то ли сочли недостаточными… Что же оставалось бедному кочевнику – принести в жертву самого себя? Но когда погибает народ – куда деваются боги? Вместе со своим народом гибнут или остаются в гордом одиночестве?…
Кощунственные мысли приходили в голову. «Что не смогли боги, должны сделать люди», – думал Гуркин.
Лето достигло вершины, перевалило через нее и глянуло вниз голубыми очами спаса медового. Теплынь и благодать. Солнце не устало еще светить и греть. Хотя не за горами уже и спас второй, яблочный, с холодными росами по утрам и все быстрее, быстрее бегущими днями…
Пятнадцатого августа 1918 года в Томске открылась Областная дума. День был объявлен выходным – и праздные толпы запрудили улицы. Особенно людно и оживленно было подле здания университетской библиотеки у главного ее входа. Конные экипажи, автомобили подкатывали прямо к входу. Караульные солдаты, тихонько поругиваясь, оттесняли подальше толпу, освобождая проход. Из автомобиля вышли Вологодский и Якушев, озабоченно-серьезные, оба в черных костюмах, словно не на заседание Думы явились, а на похороны собрались. Прошли генералы Гришин-Алмазов и Вишневский, а следом за ними представители иностранных миссий… Потом наступил перерыв. Толпа сомкнулась, но вскоре ей снова пришлось раздвинуться. Из подъехавшего экипажа вышел Потанин. Его узнали, и он прошел по этому живому коридору, сопровождаемый одобрительным гулом.
Ровно в половине второго Якушев объявил заседание открытым.
– Граждане, члены Сибирской думы! Счастлив приветствовать вас в этот торжественный день законодательной нашей работы. Нелегко нам было собраться. И я не знаю, как скоро это могло произойти, если бы не помощь доблестных чехословацких воинов… Теперь можно с уверенностью сказать: заветная мечта сибирских патриотов осуществилась – отныне Сибирь свободна! И автономия, к которой мы шли столько лет, становится реальностью. – Он перевел дух и посмотрел направо, кого-то отыскивая. – Господа! Среди нас, на думском кресле, сидит самый старейший член Думы, почетный гражданин Сибири Григорий Николаевич Потанин. Все мы хорошо знаем, чем обязана ему Сибирь. И в этот исторический момент, когда осуществляется давняя наша мечта, позвольте от вашего имени приветствовать дорогого и всеми уважаемого Григория Николаевича… дедушку сибирского областничества.
Все, кто находился в зале, поднялись и стоя аплодировали.
Потанин был смущен.
Потом один за другим выступали представители думских фракций. И заседание вылилось в чествование «дедушки сибирского областничества».
Первыми взяли слово эсеры. От их имени говорил некто Солдатов, молодцевато-самоуверенный, с офицерской выправкой гражданин.
– Партия социалистов-революционеров связана с областничеством тесными узами, – заявил он, не моргнув глазом. – Мы считаем себя учениками Григория Николаевича, гордимся этим и верим в нашу окончательную победу…
Эсеры явно хватили через край, действуя, как видно, по принципу: каши маслом не испортишь. Потанин не ожидал такого поворота, сидел нахохлившись и даже растерявшись. А тут еще профессор Кружении, представлявший объединенную группу областников и беспартийных, стараясь уберечь единство фракций (которого, в сущности, никогда и не было), подлил масла в огонь.
– Друзья мои, с именем Потанина, замечательного ученого и основоположника областничества, истинного патриота и гражданина Сибири, связано многое. Григорий Николаевич, подобно горьковскому Данко, своим пылающим любовью сердцем осветил нам путь к истине и свободе… Так пусть же само присутствие Григория Николаевича на этом заседании внесет в наши ряды согласие и твердость ради единой цели!..
Потанин морщился, слушая этот панегирик, угрюмо наклонив голову. Только представитель «слева», от рабочей фракции, оказался более сдержанным и ничего лишнего в своей речи не позволил, приветствуя Потанина как истинного демократа, отдавшего интересам Сибири всю свою жизнь.
Затем Якушев объявил о присутствии на заседании Думы командующего Сибирской армией Гришина-Алмазова и дал ему слово. Генерал четким шагом прошел к трибуне, широкоплечий и розовощекий, с лихо закрученными усами, что придавало ему вид несколько фатовской, однако заговорил он твердым и серьезным, даже озабоченным голосом, и присутствующие с почтительным вниманием слушали, стараясь уловить в его словах нечто такое, что могло бы в полной мере объяснить создавшееся нынче положение и дальнейший ход стремительно развивающихся событий.
– Господа, я выступаю от имени Сибирской армии, кровь которой перемешивается на полях битв с не менее драгоценной кровью, проливаемой нашими братьями чехословаками во имя общей нашей и окончательной победы над большевизмом… Сегодня, кажется, все группы, классы и партии пришли к решению – объединить и напрячь все силы для спасения Родины. Но, как видно, не все еще отдают себе, отчет в том, что спасение это может явиться только через сильную и здоровую армию. Могу вам сказать, – доверительно понизил голос, – к созданию такой армии мы приступили. Эта армия должна и будет создана по типу, диктуемому непреложными выводами военной науки, иначе говоря – на основе строжайшей военной дисциплины, без каких бы то ни было комитетов, съездов, митингований, а главное, без ограничения прав начальствующих лиц… Вы можете меня спросить: почему же я ничего не говорю о народоправстве? Но ведь народоправство есть та самая идея, за которую сражаются и умирают солдаты. На наших знаменах начертано то же, что и на ваших: «Учредительное собрание». Армию нельзя заподозрить в нежелании народоправства, однако армия понимает, что бывают моменты, когда если не вполне, то отчасти приходится поступиться самыми дорогими лозунгами. Я имею в виду вот что, – пояснил генерал. – В данный момент идея народоправства – средство непригодное, ибо окончательно может расшатать и без того надорванный организм России…
Ожидали, что после перерыва выступит Потанин. Когда же заседание возобновилось, кресло Потанина было пустым… Якушев объяснил:
– К сожалению, господа, Григорий Николаевич почувствовал недомогание и далее присутствовать не смог…
– Довели старика! – сказал кто-то «слева» Якушев продолжал:
– Потанин просил поблагодарить вас, господа, за проявленные к нему чувства и выразить уверенность в том, что Областная дума своей плодотворной работой приблизит Сибирь к Учредительному собранию, о чем хорошо сказал в своем выступлении командующий, всеми уважаемый генерал Гришин-Алмазов. Надеюсь, паше единство и впредь будет твердым.
Единства, однако, не получилось: ровно через полмесяца указом Совета Министров Временного Сибирского правительства «всеми уважаемый» генерал-майор Гришин-Алмазов был освобожден от должности командующего, а на его место назначен генерал-майор Иванов-Ринов. А еще раньше Временное Сибирское правительство нашло, что деятельность Областной думы, вся ее внешняя и внутренняя работа ведет к неизбежному расколу, и потребовало прервать эту деятельность на неопределенный срок. Дума в ответ на это объявила о создании революционного комитета – и создала его. Правда, комитет этот продержался всего лишь несколько дней, не успев даже уяснить для себя основного своего направления, и, раздираемый фракционными распрями, самораспустился… А еще через полтора месяца глава Директории Авксентьев призвал к упразднению и самой Думы, «внешняя и внутренняя работа» которой могла привести, по мнению Авксентьева, к государственному разладу. И Дума была упразднена. Однако избежать разлада «всероссийскому» правительству не удалось: прошла всего лишь неделя после блистательной операции Авксентьева – роспуска Думы, – и Директория вслед за ней приказала долго жить, уступив место военному диктату…
Но все это – впереди. А пока Дума существовала, надо было отстаивать ее интересы, и Якушев, желая выглядеть безоговорочным ее лидером, хватался за чужой авторитет, как утопающий за соломинку:
– И еще, господа, Потанин просил меня сказать…
И чем больше он говорил, чем настойчивее ссылался на Потанина, тем очевиднее становилось, что ни о чем таком Потанин его не просил. Да и не мог просить, поскольку уехал тотчас, как только объявили перерыв…
Гуркин был обеспокоен внезапным исчезновением Потанина. И, едва дождавшись конца заседания, отправился на улицу Белинского, где жил Григорий Николаевич. Наталья Петровна встретила его встревоженным вопросом:
– Что там произошло? Григорий Николаевич вернулся сам не свой. Заперся – и не хочет никого видеть. Григорий Иванович, голубчик, что там, скажите?
Гуркин пожал плечами:
– Особого как будто ничего. Выступали. Чествовали Григория Николаевича…
– Чествовали?
– Ну да, – подтвердил Гуркин. – Чествовали как первейшего патриота Сибири, но, как всегда, перестарались.
– Господи, – вздохнула Наталья Петровна, – и когда они оставят его в покое? Отнимают последние силы у человека…
Гуркин принял этот упрек и в свой адрес, смутился и не знал, что сказать.
– Да вы проходите, проходите, – шепнула Наталья Петровна, указывая глазами на запертую дверь. – Может, вам удастся его разговорить и успокоить.
Гуркин постучал в дверь смежной комнаты, служившей Потанину и кабинетом и спальней одновременно, и, не дождавшись приглашения, вошел. Потанин сидел за столом, низко склонившись над какими-то бумагами, и, кажется, не замечал вошедшего. Или делал вид, что не замечает. Окна были закрыты, и от застоявшегося, спертого воздуха комната еще больше казалась неуютной и душной. Гуркин постоял, ожидая, что Потанин обернется, но он, углубившись в чтение, сидел неподвижно. Тогда Гуркин приблизился еще на несколько шагов и спросил негромко:
– Можно к вам, Григорий Николаевич?
– Коли вошли, чего спрашивать, – буркнул недовольно Потанин, вдруг осекся и, обернувшись, внимательно посмотрел на Гуркина. – Ах, это вы, Григорий Иванович? Простите. А я думал… Ну, что там, до чего додумались наши думцы?
– Пока ни до чего. Как вы себя чувствуете?
– А как еще может чувствовать себя именинник? – усмехнулся. – Сочиняю вот прощальное письмо Думе…
– Прощальное?
– Да. Всему, батенька мой, есть предел. Nuda Veritas, – как говорит доктор Корчуганов: непреложная истина. Надеюсь, вы ужо виделись с Николаем Глебовичем?
– Виделись, – кивнул Гуркин и тотчас вернулся к прежнему разговору. – Но почему прощальное письмо?
Потанин сердито подвигал плечами.
– Надоело слушать пустые речи. Гуркин согласно покивал:
– Да, да, мне тоже показалось, что иные ораторы слишком далеко заходят в своих речах…
– Куда как далеко! – подхватил Потанин. – Дальше некуда. Подумать только! – все больше возбуждаясь и горячась, продолжал: – Эсеры зачислили меня своим вождем, и учителем… Каково? Нот, вы только подумайте и прикиньте – куда приведут Сибирь эти болтуны и демагоги? Куда угодно – только не к автономии. Поистине, – вздохнул и поправил сползавшие на нос очки, – либо дерево хорошее и плод его хорош, либо худое и плод его никудышный, поскольку деревья познаются по плодам… О какой автономии можно говорить, если в самой Думе нет согласия и единства!
– Да, вы правы, – Гуркин внимательно слушал Потанина, отмечая про себя, что сдал он за последнее время заметно – ссутулился еще больше и как бы уменьшился, усох, белые, с желтизною волосы поредели и ниспадали на плечи длинными свалявшимися прядями. – Главное, нет между фракциями никакого согласия.
– Вот видите! – сказал Потанин. – А вы, должно быть, приехали учиться уму-разуму в Думе. А чему здесь учиться? Только тому, как не надо работать.
– Да, вы правы, – еще раз согласился Гуркин. – Национальный комитет Думы слишком слаб и малочислен, чтобы решать серьезные вопросы. Чего хорошего можно ожидать?
– Ничего хорошего и не ждите от нынешней Думы, – подтвердил Потанин, – пока большинство думских кресел будут занимать эсеры. Чем они отличаются от большевиков? Разве только тем, что говорят больше, а делают меньше. А-а! – махнул вдруг рукой и даже поморщился. – Оставим это. Давайте лучше чай пить. Наталья Петровна! – позвал, повернувшись к двери. – Самоварчик бы, если вас это не затруднит…
Наталья Петровна тотчас заглянула:
– А самовар уже готов, Пожалуйте к столу. Разговор и за чаем не прерывался. Потанин спросил:
– Ну, а какова обстановка на Алтае?
– Сложная, Григорий Николаевич, очень сложная, – признался Гуркин. – Иногда мне кажется, что скачу я на лошади без узды и поводьев… А куда скачу и долго ли в таком положении удержусь в седле – неизвестно.
– Надо удержаться, Григорий Иванович, непременно надо, – с сочувствием сказал Потанин. – Сами понимаете, сколь это важно. Вами положено начало автономии в Горном Алтае – вам и вести это дело до полного его завершения. Скажите, а что это за атаман Сатунин объявился? Я в газете о нем вычитал, но мало что понял… Что он за человек и какую преследует цель?
– Жестокий человек, – помрачнел Гуркин. – Ничем не гнушается для достижения своей цели. Объявил себя «диктатором» Горного Алтая. Добивается от нас признания своих полномочий. А кто его уполномочил? – помрачнел еще больше. – Никто.
– Да-а, – задумчиво проговорил Потанин и горестно покачал головой. – Революция, как вулкан, выбросила наружу такую лаву всевозможной грязи… Нелегко устоять в этом круговороте. А надо, – глянул из-под очков. – Так что нельзя сейчас, Григорий Иванович, поводья из рук выпускать, – а тем более – падать. Держитесь! – улыбнулся подбадривающе. – Nuda Veritas, как говорится.
– Спасибо за поддержку, Григорий Николаевич.
– Ну, какая от меня поддержка, я и сам нынче без поддержки шагу сделать не могу, – грустно пошутил Потанин. – Ну а дома как? Марья Агафоновна, дети здоровы?
Потом они вернулись в кабинет. И проговорили до позднего вечера. А когда Гуркин, распрощавшись, вышел на улицу, город уже погружался в сумерки, и от Ушайки тянуло прохладной сыростью. Гуркин вспомнил, как года три назад, мартовским вечером, они возвращались от Потанина вместе с Шишковым, и Вячеслав Яковлевич, возбужденный и радостный, доверительно говорил, что после встречи и разговора с Григорием Николаевичем чувствует себя черноземом, который насквозь пролило благодатным весенним дождичком…
Гуркин испытывал сейчас такое же чувство. «Важно только, – думал он, – куда ляжет этот чернозем и что на этом черноземе будет произрастать…»
***
Обстановка все больше усложнялась. Многие волости, формально примыкавшие к Каракоруму, фактически придерживались нейтралитета, норовили быть самостоятельными… Или, более того, открыто сочувствовали большевикам, которые к концу лета, оклемавшись и придя в себя, начали собирать новые силы и кое-где уже переходили к решительным действиям. К тому же в Горном Алтае объявился какой-то отряд красных мадьяр, якобы шедший на соединение с вновь сформированным отрядом Огородникова… Об этом Степану Гуркину сказал подполковник Катаев.







