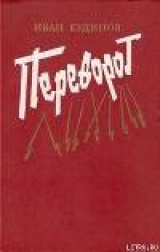
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
– Садись ужинать, – пригласил Михайлов, чуть сдвигаясь и освобождая на лавке место для него. Хозяйка налила щей, придвинула хлеб, и Степан, шумно сглотнув и переступив с ноги на ногу, вспомнил, что с утра не ел ничего горячего, под ложечкой засосало…
– Садись, садись, чего ты! – подбодрил Нечаев. Огородников, однако, пересилил себя:
– Благодарствую. Погляжу вот, как расквартируется отряд, тогда и поужинаю. Семен Илларионович, можно вас на минутку?
Михайлов допил чай, опрокинул чашку на блюдце, встал из-за стола и пошел к двери, кивнув Огородникову они вышли на крыльцо и постояли, как бы привыкая к темноте.
– Что здесь произошло? – спросил Огородников. – Заезжаю к Лубянкину, а его будто подменили: можете, говорит, вторично меня расстреливать, а чтоб ноги вашей больше в моем дому не было! Хотел допытаться, что с ним, а он только одно твердит: спросите вон своего комиссара, пусть объяснит. Словно подменили человека.
И тут многих словно подменили, – холодно ответил Михайлов. – Правильно ты говорил: Шубинка на две руки… Расхождение тут вышло у нас… по части тактики, – признался: – Селиванов больно жалостливый, альтруист.
Последнее слово Огородникову было непонятно, но он догадывался, что сказано оно в упрек Селиванову. И заступился:
– Селиванов… он справедливый.
– А я, по-твоему, несправедливый? – обиженно хмыкнул Михайлов. – Жалость и справедливость – разные вещи. Разные.
Они спустились с крыльца и приблизились к темневшему посреди ограды автомобилю. Степан потрогал его рукой, усмехнувшись:
– Сам добрался или толкать пришлось?
– Стой! – окликнул из темноты часовой и клацнул предупреждающе затвором винтовки. – Кто здеся?
– Свои, свои, – отозвался Михайлов и похвалил часового. – Молодец, в оба смотришь. Тихо пока?
– Тихо, товарищ командир, – сказал часовой помягчевшим голосом, фигура его смутно качнулась и приблизилась. – Собаки и те перестали гавкать.
– Отгавкали свое, – усмехнулся Огородников. И невесело добавил: – Столько усилий было затрачено, чтоб доказать шубинцам, как заблуждаются они, не доверяя Советской власти, а теперь вот опять доверие подорвано…
– Как это подорвано? Кем подорвано? – спросил Михайлов. – Значит, и ты осуждаешь мое решение? Выходит, невинных овечек арестовали мы с Нечаевым, жестоко с ними обошлись? А у этих овечек рожки проглядывают… и волчьи клыки.
– Нельзя же всех под одну гребенку. Жалко будет, если тот же Лубянкин окажется по другую сторону, окончательно отшатнется от революции.
– А он уже отшатнулся. Понимаешь, Степан, нет у меня доверия к тем, кто двурушничает, нет и никогда не будет.
– И у меня, Семен Илларионович, тоже нету доверия к двурушникам, как и к прямым врагам революции. Но нынешний-то случай особый. А если это не двурушничество, а заблуждение? Просмотрим своих людей, оттолкнем.
– Хуже будет, если врагов просмотрим. К чему это приведет – об этом ты не задумывался?
– Об этом я всегда помню, – ответил Огородников, открывая воротца и подходя к своему коню, который нетерпеливо всхрапывал и похрумкивал удилами. Огородников отвязал повод и, закинув на шею коня, помедлил еще. А поп здешний, Семен Илларионович, дней пять назад тоже звонил, народ созывал на площадь… по моей просьбе.
– Тогда он звонил не по просьбе твоей, а по твоему приказу. А сейчас по своей охоте ударил в колокола. Относительно попа у меня твердая линия. Или, ты думаешь, деревня без попа не обойдется?
– Обойдется, конечно, – сказал Огородников, уже сидя в седле. – Только разговор ведь не об этом…
Огородников развернул коня и поехал по улице. Темень была непроглядная. Только в трех или четырех домах светились окна. К одному из этих домов он и подъехал.
Когда подымался на крыльцо, услышал знакомую песню, доносившуюся из дома – дверь, видать, была настежь раскрыта, и голос звучал отчетливо:
А во городе во Киеве
Чуду мы видели, чуду немалую…
Огородников постоял, прислушиваясь. Но песня вдруг оборвалась. Послышались громкие голоса, смех. Потом и смех оборвался, наступила тишина. Подозрительно долгая и непонятная.
Огородников вошел и остановился в нерешительности. Посреди избы стоял Митяй Сивуха, остальные – кто где: несколько человек влезли на лавку, среди них он увидел и Михаила Чеботарева с берданкой в руках и брата Павла… Чья-то кудлатая голова свешивалась с полатей, кто-то нагромоздился на печку, а один чудак пристроился даже на шестке, обхватив руками колени…
– Что здесь происходит? – спросил Огородников, ничего не понимая.
– Да вон дядька Митяй волков хочет накликать…
– Каких волков?
– Самых, говорит, что ни на есть настоящих, лесных. Огородников повернулся к Митяю, тот был невозмутим.
– Ну, так сзывай своих волков, – усмехнулся. – Погляжу и я, если не возражаешь.
– Это я мигом, сей же час. Только тебе, Степан, тожеть надо бы сховаться… – помялся Митяй, не зная, как ему быть – то ли загнать командира вместе со всеми на лавку либо на полати, то ли придумать что-то такое, чтобы не обидеть его и не унизить командирского достоинства. – Ладно, – махнул рукой Митяй, – оставайся тут, а я очертю круг как следоват – ни одна нечиста сила не сунется. Потому как линия… – многозначительно добавил и, обойдя вокруг Огородникова, обозначил пальцем в воздухе эту невидимую охранительную линию, скороговоркой пробубнив нечто вроде заговора: – Шубурдуй-дурум-тух, кардым-шубурдуй-бух… Волки, волки, ходите сюда! – И отступил назад, чуть посторонившись, как бы давая волкам дорогу. Прошла минута, другая – волков не было. Тогда Митяй снова подошел к двери, высунулся наружу и позвал волков вторично, пробормотав свое заклинание.
Пашка не выдержал и взмолился:
– Дядька Митяй, ну скоро ты там? А то у меня уже ноги затекли.
– Гляди, паря, чтоб от страху по ногам у тебя не потекло.
Раздался хохот. Митяй цыкнул и рукой замахал:
– Тихо вы! Сорвете мне операцию… Распахнутая настежь дверь жутко темнела, приковывая взгляды, и все смотрели на нее, затаив дыхание. Огородников тоже поддался общему настроению, хотя и понимал, что Митяй Сивуха, наипервейший безменовский шутник и весельчак, замыслил какую-то каверзу… И все же где-то внутри шевелился червячок. Казалось, вот сейчас, сейчас просунется в дверной проем волчья голова, потом другая, третья… сколько пожелает дядька Митяй. Холодом потянуло от двери. И этот холодок проникал вовнутрь, растекаясь по жилам, сердце замирало от напряженного ожидания и неведения: а вдруг? И когда Митяй в третий раз произнес загадочное свое «шубурдуй-дурум-тух», вызывая волков, напряжение достигло предела. Тишина стояла такая, что слышно было, как ползает муха по оконному стеклу и потрескивает в лампе фитиль… И тогда Митяй, словно уловив момент, захлопнул дверь и, выдержав подобающую моменту паузу, язвительно и громко, но с непроницаемо-серьезной и строгой миной на лице объявил:
– Нет волков. Зато полна изба дураков!..
Такого поворота никто не ожидал. И с минуту еще стояла мертвая тишина. Все оставались на своих местах и в прежних позах, потом возникло какое-то странное движение, кто-то осторожно кашлянул, переступил с ноги на ногу, брякнул прикладом берданки Мишка Чеботарев… И вдруг, словно что-то лопнуло, раскололось – такой взрыв смеха раздался, что содрогнулась изба, и Степан почувствовал, как мелко и часто ходят под ним половицы. И сам он вместе со всеми хохотал от души.
А Митяй как ни в чем не бывало отошел от двери и, опустившись на голбец, подле печки, вынул кисет и стал закуривать.
– Ну, дядька Митяй… вот учудил так учудил! – хватались за животы и стоном стонали, покатываясь со смеху. – Ой, уморил! Волков, грит, вызову… А мы и рты пораскрывали. А может, вызовешь, дядька Митяй, волков-то, а?
– Каких волков? – смотрел невинно-строгими глазами Митяй. – Будут вам волки, погодите, – неожиданно повернул. – Ноне их много шныряет, волков-то, по Алтаю… Дайте серянки, – попросил.
Огородников присел рядом на голбчик и протянул спички. Митяй прикурил, почмокал губами и жадно, с удовольствием затянулся. Чуть погодя спросил озабоченно:
– Што, командир, на Шебалино завтра?
– Откуда такие сведения?
– Сорока на хвосте принесла. А ежели раскинуть мозгами, другого пути у нас и нету…
– Как это нет?
– Дак сидеть в Шубинке нет резону, – рассудил Митяй, – каракорумцы сюда боле не сунутся. А там им раздолье…
Это в Шебалино-то раздолье? – не согласился Чеботарев, все еще держа в руках берданку. – Там же Плетнев со своим отрядом.
– Дак они и не пойдут на Шебалино, а в Мыюте останутся, – не сдавался Митяй. – А Мыюта, сказывают, раскололась пополам – хошь ты ее вправо поверни, а хошь влево…
– Зачем же нам тогда идти на Шебалино, если так? И как мы пройдем, минуя Мыюту?
– А затем, дурья твоя башка, штоб выйти не прямиком, а обходным маневром… Правильно я кумекаю, командир? – повернулся к Огородникову, изложив свой стратегический план. Огородников улыбнулся и встал:
– Поживем – увидим. А теперь спать, спать, товарищи. А то я гляжу – никакого порядка.
Рано утром, едва забрезжил рассвет, вернулись из Улалы парламентеры. По одному их виду можно было понять, что из переговоров ничего не вышло. Каракорумцы не стали разговаривать, а предъявили ультиматум: если совдеповские отряды не уйдут с территории округа, против них поднимется весь алтайский народ. Парламентеры попытались возразить: дескать, весь-то народ нельзя восстановить против Советской власти. Но их грубо оборвали, сказав, что они являются не парламентерами, а совдеповскими агитаторами – и заперли в чулане с крохотным оконцем, выходившем в какой-то тесный и темный двор.
Парламентеры потребовали встречи с Гуркиным. Пришел подполковник Катаев и вежливо объяснил, что Гуркина сейчас нет в Улале, он в отъезде. Тогда парламентеры потребовали, чтобы их немедленно освободили и дали возможность вернуться в Бийск. На что подполковник Катаев так же вежливо ответил: «Вот выясним, действительно ли вы те, за кого себя выдаете, тогда и освободим».
А ночью кто-то открыл чулан, и парламентеры под покровом темноты покинули Улалу…
Каракорум-Алтайская окружная управа обратилась в губсовет с заявлением: «Два дня назад, 7 мая, Бийским совдепом были командированы в Улалу в качестве парламентеров граждане Бушин и Прокаев, которые, явившись в управу, тотчас повели агитацию против выделения Горного Алтая в самостоятельный округ. Вообще Бийский совдеп, вопреки воле и решению съезда инородческих и крестьянских депутатов Горного Алтая, грубо попирает принципы Октябрьской революции, признавшей самоопределение народов не на словах, а на деле. Доводя это до вашего сведения, просим указать Бийскому совдепу на недопустимость подобных действий и предложить ему впредь не вмешиваться в дела округа, так как дальнейшая дезорганизаторская работа совдепа может повлечь за собой народные волнения, посеять рознь между инородческим и русским населением».
Бийский совдеп немедленно и во все волостные управы телеграфировал: «Каракорум Советской властью не признается, ибо не защищает интересов бедноты. Организуйте защиту революции на местах».
Каракорум-Алтайская управа потребовала от губсовета срочного вмешательства: «Высылайте в Улалу своих комиссаров. В противном случае наши партизаны отказываются разоружаться».
Бийский совдеп вторично телеграфировал: «Каракорум Советской властью не признается!»
Стало известно: Мыюта занята каракорумцами. Волостной Совет разогнан. Несколько человек арестовано…
Дальнейшее промедление становилось опасным, и объединенный отряд под командованием Огородникова и Селиванова (Михайлов и Нечаев с частью красногвардейцев были отозваны в Бийск) двинулся на Шебалино.
Слова Митяя Сивухи оказались пророческими, и авторитет его сразу подскочил.
– Стратег! – посмеивался Чеботарев. – Тебя бы в самый, раз начальником штаба…
– А ты не скаль, не скаль зубы-то, – строжился Митяй. – Придет ишшо время – и моя голова сгодится.
Отряд вытянулся во всю длину улицы – передние уже были на выезде из села, а задние только спускались с пригорка, минуя церковь.
– Подтянись! – скомандовал Огородников, скосив глаза на дом Лубянки на, мимо которого проезжали как раз. Команду его тотчас подхватили и передали по цепи. И в этот миг он увидел Варю. Она стояла у прясла, как будто ненароком здесь оказавшись, держалась руками за жердину и смотрела на него.
Огородников резко натянул повод, и конь, мотнув головой, сбился с ноги и пошел боком.
– Езжайте, а я тут на минутку… – сказал Селиванову и как-то странно моргнул глазами. Селиванов понимающе кивнул и, вскинув голову, громко и весело спросил, обращаясь к передним всадникам:
– Запевалы есть? А то уснуть можно.
И песня не заставила себя ждать.
Шли, брели да два гнеды тура…
Всадники засмеялись, заглушив слова песни.
– Отставить! – крикнул Селиванов. И было непонятно, чего он требовал: то ли смех прекратить, то ли песню эту «нестроевую», далекую от нынешней обстановки, велел отставить. И тут же другой голос, густой и сильный, раз дался, взмыл над головами, набирая высоту:
Вихри враждебные веют над нами…
Всадники подтянулись и выпрямились в седлах, кони зашагали веселей. Огородников же никого, кроме Вари, в этот миг не видел. Когда он подъехал ближе, не сводя в нее взгляда, Варя вдруг резко отшатнулась от прясла, готовая сорваться и убежать без оглядки. И Огородников, опасаясь и не желая этого, поспешно и негромко ее окликнул:
– Варя, погоди… погоди, Варя!
Она замерла, глядя на него странно блестевшими глазами, вся так и наструнившись, уронив руки вдоль бедер. И показалась еще красивее, чем в первую их встречу, мимолетно-короткую и случайную, когда и словом они не обмолвились… Варя была все в той же синей приталенной кофточке, и кофточка эта тоже показалась Степану необыкновенной.
– Варя!.. – окликнул он ее с каким-то сдержанным и радостным порывом. Она опередила его:
– Позвать отца? Он у Лукьяновых… я сейчас.
– Погоди, Варя, – остановил он ее, – не надо звать отца. Мне с тобой надо поговорить.
– Со мной? – удивилась она и недоверчиво переспросила: – Со мной?
– С тобой, Варя. Так уж вышло. Ты не сердись, – Степан подъехал вплотную к городьбе и совсем близко увидел пылавшее Варино лицо с чуть приметными ямочками на щеках и тонко изогнутыми бровями. – Послушай, Варя… – тихо сказал он, упираясь ногой в стремя и наклоняясь вперед, и в скупой сдержанности его голоса чувствовалось волнение. – Вот увидел тебя и не смог проехать мимо…
– А если бы не увидел?
– Увидел бы, – твердо он сказал. – Послушай, Варя… Если я еще заеду к тебе – не прогонишь?
Она ответила не сразу и каким-то враз осевшим, не своим голосом:
– Не прогоню…
Степан выпрямился в седле и, развернув коня, взмахнул поводом:
– Ну, тогда жди! Непременно заеду… Жди, Варя! – крикнул уже издалека. И, пригнувшись к гриве коня, помчался вслед за удалявшейся к лесу незнакомой Варе песней.
13
Обошли Мыюту слева, по горной тропинке, то и дело теряющейся в густых зарослях молодого травостоя. Метелки борщовника хлестали всадников по ногам, и они, срывая ломкие дудчатые стебли, очищали их и ели на ходу, аппетитно похрумкивая. Пучек нынче росло великое множество. И травы были хороши, ровные и густые. Митяй Сивуха вздыхал:
– Вот бы скотину куда загнать – не молоко, а мед бы нагуливали!..
– А ты, дядька Митяй, как утвердим окончательно Советскую власть, перебирайся в эти места, – посоветовал, посмеиваясь, Михаил Чеботарев. – Заживе-ешь!..
– Мне и в Безменове глянется… только б порядок навести.
– Наведем, дядька Митяй, наведем. Неужто сомневаешься?
– Отставить разговоры! – вполголоса приказал Огородников. И команду его тотчас передали по цепочке.
Вечером остановились в глубоком сумрачном распадке, верстах в трех от деревни. И командиры, спешившись, коротко посовещались. Решено было выслать вперед лазутчиков, чтобы разведать обстановку и действовать наверняка.
– Может, мне пойти – спросил Селиванов. – В Мыюте я уже бывал, председателя Совета знаю…
– Этого еще не хватало! – мотнул головой Огородников. – Нет, нет, Матвей Семеныч, ты комиссар и должен быть постоянно с отрядом. А пойдут… – поискал глазами кого-то среди бойцов. – Пойдут Романюта и Чеботарев. Где Романюта и Чеботарев?
Разведчики ушли потемну. И потянулись томительные часы. Огородников прислушивался к каждому звуку. Вкрадчиво шелестели над головой деревья. Пасмурное небо казалось низким и черным. И в этой густой дегтярной темноте крик филина, доносившийся из глубины леса, как из преисподней, был колдовски сумным и жутким. Теплый воздух, скопившийся с вечера в низине, постепенно выветривался и остывал, трава волгло отмякла – и в логу теперь стало, как в выстоявшейся бане, знобко и сыро. Огородников застегнул кожанку на все пуговицы, прислушался. От сильного напряжения звенело в ушах.
– Что-то долго их нет, – сказал Селиванов, останавливаясь рядом. – По времени пора бы уже вернуться.
– Подождем еще. Матвей Семеныч, я вот все хочу спросить тебя, – совсем о другом заговорил. – До войны где ты жил, чем занимался?
– А до какой войны-то? – усмехнулся Селиванов. – Столько уж войн было на моей памяти! И на Востоке, и на Западе…
– На Востоке?
– Ну да, в Порт-Артуре.
– Так ты и в Порт-Артуре успел повоевать?
– И в Порт-Артуре, в девятьсот четвертом, и в Галиции, в девятьсот четырнадцатом… Оттрубил я свое, Степан Петрович, под завязку. А после, как ранило, вернулся в Бийск. Работал в типографии.
– Свое, говоришь, оттрубил, а теперь чье трубишь?
– Теперь наше, – сказал Селиванов. И хотя лицо его в темноте смутно различалось, улыбка угадывалась по голосу. – Наше, Степан.
Они пошли, шурша сапогами по волглой траве, чувствуя сырость и холодок даже сквозь кожу подметок и голенищ. Рядом, в темноте, негромко переговаривались бойцы.
– И чего это нет лазутчиков наших? – сетовал низким глуховатым голосом, судя по всему, пожилой человек.
Другой голос помоложе и позадорнее:
– Загуляли. Вдовушек небось подыскали и спят себе на перинах… Ха-ха! – сочно засмеялся.
– Хватит зубоскалить! – вмешался третий, по голосу Огородников узнал Митяя Сивуху. – Нашли время…
Первый вздохнул:
– Эх, жаль, нету подозрительной трубы!
– Какой, какой трубы? – спросил молодой.
– Подозрительной, – повторил первый. – Какие у офицерья были. Глянешь – и все, как на ладошке.
– Не подозрительной, а подзорной.
– Подозрительной, – упрямо стоял на своем первый.
– Да замолчите вы, брехуны! – оборвал кто-то и потише добавил: – Командиры вон места себе не находют, а вам и горя мало.
– Отдыхайте, товарищи, – сказал Огородников, проходя мимо. – Да лошадей в темноте не растеряйте. А то тогда никакая подозрительная труба не поможет, – посмеялся вместе со всеми. Селиванов, шагая рядом, тоже улыбался и думал: с иным человеком живешь не один год, не один пуд соли съешь вместе, а понять до конца не можешь; а с иным и двух дней оказывается достаточно, как вот с Огородниковым, чтобы понять его и поверить без оглядки, от всей души. Рядом с такими людьми и свою жизнь понимаешь лучше. И мысли его словно бы передались Степану, вызывая в нем ответное чувство. Он остановился, тронув Селиванова за руку, и тихо проговорил:
– А я, Матвей Семеныч, знаешь, о чем подумал сейчас? – И снова умолк, задумался. Сказал еще тише: – Хочется человеческой жизни… нормальной. Мне ведь уже скоро тридцать, а я еще как следует и не жил…
– И какой же ты ее представляешь, эту жизнь? – спросил Селиванов.
– Справедливой. Это главное. Чтоб люди во всем были равны.
– Считаешь, возможно такое? Чтобы все были равны…
– А ты что же, не веришь в равенство? – удивился Огородников.
– Да ведь люди-то разные: одни умнее, проворнее, а другой ленивее да хитрее, один будет работать не покладая рук, а другой так себе… спустя рукава. Какое же тут равенство? – посмеивался Селиванов, умышленно обостряя вопрос.
– Это другое дело, – возразил Огородников. – Люди, конечно, разные, но связывать их будет общее дело, одна идея. А если ты умнее да проворнее других, не кичись этим, а на пользу общего дела направляй свой ум. Вот как должно быть!
– Должно или будет?
– Будет.
– Да-а, – мечтательно вздохнул Селиванов. – Красивую ты картину нарисовал.
– За то и боремся. Или не веришь?
– Верю, Степан, верю, – улыбнулся Селиванов, что чувствовалось по голосу. Потом спросил: – Скажи, ты женат?
– Пока нет, – виновато как бы даже ответил Огородников. – Некогда было, служба, война…
– Ну вот, стало, быть, и жизнь у тебя со всех сторон будет новая: вернешься вот домой, женишься, детей нарожаете… Видал, какая дочь у Корнея Лубянкина? Чем не жена будет?
– Не до женитьбы сейчас.
– Ну-у, ты это брось, жизнь – она всегда жизнь… Вкрадчиво шелестели над головой деревья, и сквозь проредившиеся облака проглянули звезды. Чуточку посветлело.
Разведчики вернулись ночью. Сказали, что в Мыюте больше трехсот каракорумцев, вооруженных винтовками, наганами, саблями… Имеется даже ручной пулемет «Шош» и целый воз патронов.
– Откуда такие сведения? – спросил Огородников.
– Сведения у нас верные, – ответил Романюта и негромко позвал кого-то из темноты: – Гилев…товарищ Гилев, подойди ближе.
– Гилев? Какой Гилев? – удивился Селиванов.
– Да я это, я Матвей Семеныч, тот самый… – отозвался подошедший человек. – Дела плохи, прямо сказать, аховые дела. Весь мыютинский совдеп арестован – и председатель, и секретарь, трое членов…
– А тебе как удалось избежать?
– Случайно. Один знакомый мужик укрыл в подполе. Ночью хотел я уйти в Шебалине, предупредить Плетнева. А тут и послал бог товарищей…
– Товарищей не бог послал, а мы послали, – поправил его Огородников. – Объясни толком: что там произошло?
– Так я и говорю: сижу в подполе и вдруг слышу голоса. Ну, Романюту, стало быть, я и узнал сразу…
– Откуда ты знаешь Романюту?
– Дак мы же вместе в милицию поступали.
– Гилева я тоже знаю, – сказал Селиванов. – Можешь не сомневаться, человек он проверенный. Неделю назад был послан из Бийска. Так что давайте не будем терять время, а пока не рассвело совсем, поднимем людей и двинемся на Мыюту. Как считаешь, командир?
Отряд разделили на три группы, одну из которых со стороны тракта повел сам Огородников. Другая, во главе с Селивановым, двинулась в обход, намереваясь выйти к селу с противоположного конца; а третья, под командованием Романюты, должна была ворваться в село со стороны Шебалино, как бы замыкая кольцо. Была еще четвертая группа, самая маленькая, состоявшая из нескольких человек, за старшего в которой оставлен был Митяй Сивуха, – группа коноводов. Правда, Митяю поручение пришлось не по душе, и он было даже вскинулся на дыбки, пытаясь оспорить решение командира. Однако Огородников резко его осадил:
– Боец Сивуха, где вы находитесь? Вам приказано сберечь в целости и сохранности боевых лошадей. Задание ясно?
– Дак чего ж не ясно… Как есть все ясно.
– Вот и выполняйте.
– Слухаю! А в случае отступления?…
– Отступления не будет.
– Понятно.
Митяй, взяв поводья нескольких лошадей, стал спускаться в низину, скрытую со стороны села нагромождениями скал. Другие коноводы последовали за ним. Вдоль этих же скал, по узкой, осклизлой от ночной сырости терраске двинулся отряд Огородникова. Отсюда до деревни оставалось не больше версты. И надо было пройти эту версту с великим предостережением, бесшумно, чтобы не обнаружить себя раньше времени, а, напротив, незаметно и тихо войти в село.
Знобкая предрассветная тишина казалась обманчивой. Когда спустились на тракт и достигли окраины села, небо над горами стало бледнеть, словно оттаивая; отчетливо проступали из рассветной мглы очертания домов и улиц, вытянувшихся вдоль речки. Вода тускло и холодно отсвечивала. И тихо было по-прежнему. Огородников слышал, как вздыхает в соседнем хлеву корова. Село еще не проснулось. Привалившись спиной к бревенчатой стене не то амбара, не то конюшни, он вглядывался в неровный, как бы подрагивающий полусумрак и думал о том, что через несколько минут тишина будет оборвана… И он все медлил, прислушиваясь к этой напряженной тишине, чувствуя, как нагреваются от его спины бревна, отрываться от них не хотелось. Но эта расслабленность была секундной. В следующую секунду Огородников нащупал в кармане гранату, достал наган и уж больше не выпускал его из руки. Оттолкнувшись спиной от стены, он вышагнул из-за угла. И в этот миг, словно из-под земли, выросла перед ним фигура человека. Огородников замер.
– Никишка, ты, што ли? – спросил кто-то хрипловато, с ленцой и протяжно зевнул. – Воротился уже?
– Угу, – приглушив голос и весь подобравшись, ответил Огородников.
– Курево е?
– Е, е… – буркнул Огородников, только сейчас заметив, что шагнувший к нему человек держит в руке винтовку, и догадался: часовой.
– Отсыпь трохи. Нутро горит.
– Щас… отсыплю, – сказал Огородников. – Только хлеб за брюхом не ходит…
Часовой приблизился. И Огородников коротким и ловким движением перехватил его винтовку. И тихо предупредил:
– Спокойно. Без паники. И чтоб ни единого звука. Тот, кажется, ничего еще не сообразил, а принял это за шутку:
– Да ты шо, сбесився? Пусти, земляк… – потянул к себе винтовку, но Огородников был сильнее. И тот понял, наконец, все – и остолбенел от ужаса. Потом его начало трясти:
– Набилизованный я, набилизованный… – твердил он взахлеб, чуть не плача. – Да шо ж це таке деется?
– Ну, ты, набилизованный, – тряхнул его за плечи Огородников, – возьми себя в руки. А не то я тебя и вправду шлепну, если не перестанешь по-бабьи голосить. Скажи лучше: в этом доме есть каракорумцы?
– Ни-и, туточки нема, – торопливо ответил тот. – А в цей хате, шо справа, и в цей, шо на задах, е. И тамочки тоже е, и тамочки…
– Спокойно, не спеши, – осадил его Огородников. – Говори по порядку. Пулемет где находится?
Подошел Михаил Чеботарев, спросил:
– Что за птица?
– Ворона, – усмехнулся Огородников и передал Михаилу отнятую винтовку. – Трофей. Возьми. А этого в заднюю цепь – и глаз с него не спускать. А то он прикидывается овечкой, набилизованный, а винтовку не хотел отдавать… Ну, пошли! – глубоко вздохнул и медленно, словно еще к чему-то прислушиваясь, поднял над головою наган. И в это время совсем близко, через дорогу, откуда-то из темных глубин пригонов и приземистых сараюшек, притулившихся друг к другу, донесся еще не совсем уверенный, как бы пробный, но все же достаточно сильный, протяжно-ликующий петушиный клик. Степан замер на миг с поднятым над головою наганом, чувствуя необыкновенную легкость и упругость в теле, точно враз освободившись от какой-то сковывающей тяжести, сбросив с плеч, как ненужную, мешающую одежду… Крик петуха прозвучал, как сигнал тревоги. Тотчас в разных концах деревни и на разные голоса отозвались другие певуны – и началась неудержимо-веселая, буйно-захлебистая петушиная перекличка.
Огородников выстрелил. И горы, как бы удвоив звук, тотчас вернули его раскатистым и громким эхом.
– Вперед! За мной, товарищи! – Огородников легко, почти не касаясь жердины, перемахнул прясло. Хлопнула где-то рядом дверь. А может, выстрел. Кто-то спрыгнул с крыльца, чиркнув прикладом винтовки о ступеньку, увидел бегущих по улице красногвардейцев, метнулся в одну, в другую сторону…
– Бросай оружие! – крикнул Огородников и выстрелил неприцельно, скорее для острастки. – Все отходы перекрыты… Бросай оружие!
Тот, не оглядываясь, кинулся напрямую, через огород, намереваясь, видимо, уйти к реке. Спешил. Но вдруг, словно на что-то натолкнувшись, остановился, сделал еще несколько шагов, снова остановился и медленно, как бы нехотя, повалился, осел между грядок…
«А-а-а-а!» – протяжно и мощно перекатывалось, неслось с другого конца деревни, откуда ворвался, должно быть, отряд Селиванова. Хлопали выстрелы. Поблизости где-то со звоном разлетелось стекло. Тяжелая бадейка оборвалась и с грохотом полетела в колодец. Огородников видел, как взметнулся к небу колодезный журавль.
«А-а-а-а!» – неслось теперь и со стороны шебалинского тракта. «Молодец Романюта!» – разгоряченно подумал Огородников. Действия Романюты были стремительны и расчетливы – группа его замыкала кольцо, отрезан каракорумцам отход к тракту. И каракорумцы заметались, поняли, что попали в ловушку. Сопротивление было отчаянным и недолгим. Иные сразу бросали оружие, не вступая в перестрелку, а иные готовы были драться и без оружия. Крики. Ругань. Стоны. Кто-то верхом на коне пытался проскочить, вырваться из окружения. По нему пальнули из двух или трех винтовок. Лошадь вздыбилась, опрокидывая всадника… Сильно запахло пороховой гарью.
Рядом с Огороди и новым чиркнула пуля, взбив на дороге фонтанчики пыли, он перепрыгнул через эти «фонтанчики», хотя и не было уже такой надобности, рванулся вправо, к стене дома, из-за которого, как ему показалось, бил пулемет. Но нет, стреляли из низкого, под соломой, пригончика. Пули вжикали, как шмели, одна ударила в угол дома и, отрикошетив, упала к его ногам… Огородников, пригнувшись, в два прыжка пересек ограду. Пулемет хлестанул теперь не поперек, а вдоль улицы, и двое бойцов, бежавших рядом, рухнули на дорогу, как подрубленные. Огородников, держа наготове гранату, шаг за шагом приближался к пригону. Пулемет на время умолк, а потом с еще большей яростью зачастил, ударил по дороге. «Сейчас я тебе заткну глотку», – подумал, а может, и вслух сказал Огородников и, выдернув чеку, швырнул гранату в темневшее за жердяными воротами узкое отверстие. И упал вниз лицом на кучу навоза. Рвануло так, что содрогнулась земля, чем-то тупым и тяжелым ударило по плечу. Огородников вскочил и увидел, что пригон разнесло. Шагнул по хрустнувшим обломкам жердин, споткнулся обо что-то мягкое – оказалось, овца, рядом еще одна, с разорванным животом… Он перешагнул через нее и чуть в стороне, за кучей обвалившейся соломы, увидел навзничь лежащего человека; одна рука его была сжата в кулак, другая тянулась и никак не могла дотянуться до пулемета – взрывной волной пулемет отбросило далеко. Огородников поднял его и осмотрел со всех сторон. Пулемет был цел. «Хорошая штука, – подумал Огородников. – Должно быть, тот самый «Шош», о котором говорили разведчики…»
Совсем уже развиднелось. Небо над горами порозовело. Стрельба прекратилась. И зыбкая, неустойчивая тишина воцарилась в деревне.
Пленных привели к волостному Совету. Построили. И Степан Огородников, шагая вдоль вялого и неровного строя, заглядывал в лица каракорумских гвардейцев, смиренно ждавших своей участи. «Туземный» дивизион состоял, однако, наполовину из русских. Пленные стояли понурившись, побито опустив головы, лишь некоторые, когда Огородников подходил, вызывающе и зло смотрели на него. Он обошел строй и остановился на правом фланге, увидев Кайгородова.







