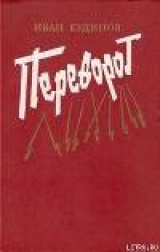
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
– Нет, – покачала она головой. – Это никогда не пройдет. Они все убили. Все! – Она отняла ладони от лица и впервые прямо и пристально взглянула на Гуркина. – Они сделали со мной все, что могли… Что же пройдет? Они убили Вадима Круженина… Убили на моих глазах. Где же тот старик с посохом, почему он не пришел и не выручил? Почему он не спас мальчика?…
Гуркин не знал, что ей сказать, что ответить.
– Вадим Круженин? Это профессора Круженина… Да, да, я помню этого юношу. Но как, как это могло случиться, где?
– Он с ними был. Но он не был таким, как они… Не был! Григорий Иванович, что происходит? Скажите.
– Отдохни, Танюша, – ласково и мягко он сказал. – А после мы обо веем с тобой поговорим. Решим, что делать. Через две недели в Томске начнет работу Областная дума. Я тоже приглашен. Вот и поедем вместе.
Принесли чай. А еще через несколько минут доложили, что доктор Донец арестован.
– Как арестован? – Гуркину показалось это невероятным. – Что за чушь! – не поверил он. – Быть этого не может. Узнайте точнее.
Ему сказали, что точнее быть не может: доктор арестован по личному приказу Сатунина и вместе с другими пленными отправлен обозом на Чергачан.
В тот же день из Улалы одна за другой были отправлены две телеграммы. Первая в Барнаул, в губземуправу:
«Четырнадцатого июля под лозунгом автономии капитан Сатунин объявил военную диктатуру. Каракорумуправа снимает с себя всякую ответственность. Сегодня Сатунин всем отрядом вышел на Чергачак, в сторону Онгудая, арестовав при этом врача Донца. Просим возбудить ходатайство перед центральным правительством об освобождении единственного в округе врача».
Вторая телеграмма в Онгудай Аргымаю Кульджину:
«Предлагаем немедленно распустить мобилизованных вами инородцев. Никакого содействия Сатунину не оказывать».
А спустя несколько дней уже самому Сатунину:
«Каракорумуправа с вашими действиями не согласна. Поднятый вами мятеж вводит в заблуждение инородческое население, а посему все ваши распоряжения Управа не исполняла и впредь исполнять не намерена. Г. Гуркин». И еще одна: «Онгудай, капитану Сатунину, 24 июля, среда. Предлагаем немедленно распустить образованный вами Военный совет – как самочинное образование. Каракорумская управа, избранная всем народом Алтая, ждет окончательного установления форм управления только от Учредительного собрания, но не силой оружия, как это делаете вы, а силой разума и законности. Если вы действительно любите Алтай и народ его, распустите вашу самочинную организацию, подчинитесь Временному Сибирскому правительству, под покровительством которого работает Каракорумская управа и весь алтайский народ. Председатель Каракорумуправы Г. И. Гуркин».
Ранним субботним утром, двадцатого июля, член управы Степан Гуркин отправился в Онгудай на выручку единственного в округе врача. Предприятие было рискованным, однако другого выхода не было: доктору Донцу грозила опасность – и надо было во что бы то ни стало его вызволить. Степан Гуркин выехал в сопровождении небольшого отряда каракорумских гвардейцев, полагаясь не столько на эти силы, сколько на свою «неприкосновенность» – как члена Военного совета, в состав которого был он введен несколько дней назад…
25
Телега поскрипывала и тарахтела на колдобинах и ребристо выступающих на дороге корнях, чиркала ступицами колес по пням, торчавшим по обочинам из травы – и от звуков этих, от этой монотонной и бесконечной тряски тело как бы задеревенело и налилось тяжестью. Рану разбередило. И Огородников не знал, как держать и куда девать левую руку: он ее то опускал вниз, защемляя коленями, то, придерживая правой рукой, прижимал к груди и покачивал слегка, точно баюкал. Во рту пересохло и сильно, до тошноты горчило.
Варя время от времени оборачивалась и, глядя на него тревожно-сочувствующе, спрашивала:
– Болит? Огородников через силу улыбался:
– Не очень. Вот здесь болит сильнее, – трогал рукою грудь.
Варя вздыхала. От жалости к Степану, попавшему в столь тяжкую беду, у нее у самой сжималось и ныло сердце.
– Потерпи, – ласково и тихо говорила она. – Понимаю, что больно, но ты потерпи, Степан, потерпи немножко. Огородников кивал:
– Потерплю. Я потерплю, Варя, ты не беспокойся. Ты мне лучше скажи: Корней Парамоныч обо всем знает?
– Обо всем-то он, может, и не знает, но догадывается… Зря ты сам-то к нему не пришел, – сказала Варя с легким упреком. – Думаешь, совсем он без головы, отец-то, не понял бы тебя?
– Может, и понял бы, не знаю. Только не имел я права рисковать. Нельзя мне было так сразу, без раздумья…
– А ко мне можно? – глянула влажно блеснувшими глазами.
– Тебе, Варя, я доверяю, потому что…
– Почему?
– Потому что дорогой ты мне человек. Тебе, Варя, за все, что ты сделала для меня, спасибо!
Он прикоснулся к её виску кончиками пальцев, и Варя, чуть повернув и склонив голову, прижалась к его большой горячей ладони. Потом выпрямилась и посмотрела на него внимательно:
– Получшало? Или все еще болит?
– Получшало, Варя, получшало.
Боль и вправду отпустила немного, утишилась, и он с облегчением перевел дух. Некоторое время ехали молча, думая каждый о своем, а может, об одном и том же, но каждый по-своему.
Варя сидела вполоборота к нему, одну ногу положив на телегу, а другую свесив, держа вожжи в обеих руках и время от времени подергивая, похлестывая ими кобылу и громко, как заправский возница, почмокивая губами. Рядом бежал рыжий, как и кобыла, тонконогий жеребенок, с такою же, как у кобылы, белой отметиной на лбу. Иногда жеребенок отставал далеко и шел, опустив голову, как бы нехотя, с ленцой, кобыла начинала беспокоиться, оглядывалась и тревожно-призывно подавала голос… Жеребенок тотчас отзывался звонким отрывистым ржаньем и махом догонял повозку.
– Ах ты, резвунчик! – ласково говорила Варя и легонько шлепала жеребенка по мягкому крупу. – Зачем пужаешь мамушку?
Дорога пошла ровнее. И то справа, то слева на опушках и в густо-зеленой чаще, неподалеку от дороги, проглядывали стеблистые мальвы, рдели кусты шиповника, а по закраинам согры, вдоль которой они ехали, чернела черемуха и крушина – и над всем этим витал пряный запах перестоявших трав и слежавшейся прошлогодней листвы… И чем дальше ехали, тем глуше и сумнее становился лес. Внезапно лес расступился, как бы выпуская их из своих объятий, и глазу открылась небольшая солнечная луговина, с темневшими на ней колодами ульев, пестрая вся, оранжево-белая от цветущих клеверов… Дальше, у кромки леса, виднелась бревенчатая изба, крытая на один скат, а еще дальше, чуть в стороне, стоял приземистый омшаник, рядом еще какое-то строение – и все это обнесено невысоким трехжердным пряслом. Большая рыжая собака выскочила из ограды с отчаянным лаем – и тут же умолкла, радостно завиляв хвостом. Узнала Варю. Появился и сам хозяин пчельника (а может, и всей тут таежной округи), высокий сухопарый старик, в белой холщовой рубахе, остановился у прясла и посмотрел на них из-под руки.
– Дедушка это, – шепнула Варя. И погромче, с шутливой интонацией в голосе: – Здоровьичка вам, Филофей Демьяныч!
– Слава богу, здоров, – ответил старик неожиданно густым и сочным голосом. Лицо его, обрамленное рыжей с проседью бородой, было розовым и крепким, почти без морщин. – Отец-от чего не приехал?
– Приедет скоро. А я тут тебе гостинцев привезла: серянок вот, соли… И гостя вот привезла, – добавила с улыбкой. Старик пристально посмотрел на Огородникова.
– Ну дак и милости просим, коли гости… Места всем хватит.
– А я что говорила? Все будет хорошо, – шепнула опять Варя и облегченно, радостно засмеялась. – Ой, медом пахне-ет, аж во рту засластило! Дедуня, а кормить нас будешь?
После обеда Варя и Степан походили немного вокруг заимки, по лесу. Ягодная была пора – и земляника еще не отошла, а уж и клубника подоспела, и костяника наливалась алым соком…
– Господи, как хорошо-то! – радовалась Варя. – Сколь ни хожу, ни гляжу, а все одно не могу наглядеться… Ой, погляди-ко, гриб! – воскликнула. Степан рядом с нею наклонился:
– Масленок.
Руки их столкнулись подле этого гриба, запутавшись в траве, и Варя тихонько засмеялась.
Рыжий Полкан, увязавшийся за ними, носился как угорелый, появляясь то здесь, то там, спугивая каких-то птиц, загоняя на деревья бурундуков и громко взлаивая, должно быть, от избытка чувств…
Степан и Варя дошли до ручья, журчавшего в траве, попили из него – вода была родниково-чистая и холодная до ломоты в зубах. Постояли, заглядывая в ручей, как в зеркало; рядом, почти слившись, заколебались в воде их отражения…
– Живая вода, – улыбнулась Варя. – Теперь мы долго-долго будем жить!
– Будем, – согласился Степан и осторожно, одной рукой, привлек ее к себе. Она прижалась к нему, слегка запрокинув голову и зажмурив глаза… Губы ее были прохладно-мягки, с привкусом родниковой воды.
– Господи, Степан, какой ты близкий! – шептала она горячо. – Только боюсь я, ох, как боюсь…
– Чего ж ты боишься? – удивился Степан.
– Боюсь что сегодня все-то у нас хорошо, а завтра ничего не будет.
– Не бойся, я никогда тебя не оставлю. Слышишь? Никогда. Поженимся вот – и всегда будем вместе.
– Да когда ж мы поженимся?
– А хоть когда… хоть сегодня.
– Как? Нешто так можно?
– Можно, Варя. Можно. Поженимся вот… Детей нарожаем. Сначала сына, потом дочку. А потом еще одного сына…
Варя засмеялась:
– Эко, распределил! А ничего еще и неизвестно. Время-то какое…
– Время, Варя, самое подходящее. Главное, чтобы желание у нас было обоюдным…
– Да есть, Степа, есть у меня желание-то… Ой, погляди-ка! – вдруг повернула она голову и повела глазами в сторону. И Степан посмотрел в ту же сторону. Неподалеку, наструнившись, стоял Полкан и глядел на них удивленно-прямо, с осуждением.
– Ах ты, бесстыдник!.. – сказала ему Варя. – Места в лесу тебе мало?
– Ну вот, – весело нахмурился Степан, – свидетели уже есть. Куда ж нам теперь деваться?…
Варя уехала под вечер, пообещав денька через два наведаться еще, и деду шепнула напоследок:
– Ты, Филофей Демьяныч, гостя тут не обижай. Да руку ему погляди… болит она у него.
– Ну, коли велишь… – согласно покивал дед. – Ты мне-ка лучше скажи, кем он доводится тебе, этот молодец?
– Ой, дедуня, я и сама еще не знаю, – заторопилась Варя. – Поговори со Степаном. Он тебе все и объяснит.
И остались они вдвоем.
– Ну, что, паря, холостяковать будем? – спросил Филофей Демьяныч. И чуть погодя попытался выведать: – Руку-то где повредил?
– Пустяшное дело, – мотнул головой Огородников. – Упал с коня, угодил на пень… Вот и поцарапал.
Когда же старик увидел рану, хмыкнул понимающе, головой покачав, и, ни слова не говоря, стал обихаживать руку – смочил тряпицу в настое красноголовника и ромашки, наложил свежий лист подорожника на рану и туго-натуго перевязал предплечье. Только потом позволил себе заметить:
– А пеньки, паря, тоже, видать, стреляют?
Провести его оказалось невозможно. Да и зачем обманывать человека, если ты решился доверить ему свою жизнь? И Огородников рассказал все, как было, ничего не скрывая. Старик слушал внимательно, построжев лицом.
– Да, паря, понужают нашего брата со всех сторон и в хвост, и в гриву… И долго так-то будет? Никакого порядка.
– Долго не будет, – пообещал Огородников. – Если мужики не станут отсиживаться по деревням… как вот я нынче отсиживаюсь. Главная сила, Филофей Демьяныч, еще не поднялась. А как подымется – тогда уж и на коня можно садиться…
– Это что же за сила такая? – поинтересовался старик.
– Так я ж сказал: мужики, которые сидят покуда, сидят и не в ту сторону глядят…
– Ну, а как же, паря, поднимете вы эту силу, коли мужику сподручнее своим, мужицким делом заниматься?
– А защищать Советскую власть – это, значит, не его, не мужицкое дело?
– Оно, конешно, – вздохнул старик. – Так завсегда: надо какие дыры заткнуть – тут и про мужика вспоминают. Это уж беспременно.
– А мужик пусть не ждет, когда им дыры начнут затыкать, а сам делает выбор: куда и с кем ему идти, за что бороться.
– Ну, а ежли, сказать к примеру, не за что ему бороться?
– Так не бывает, – твердо сказал Огородников. – И не должно так быть. Всякий человек имеет свой интерес. Ничего, испытают вот на собственной шкуре, что почем, тогда и думать начнут, и выбор сделают…
– Оно эдак, – согласился старик, словно и не он только что сомневался и возражал. – Пока жареный петух не клюнет.
– Клюнул уже, Филофей Демьяныч. Так что дальше-то нам отступать некуда. Нельзя.
Ночью Огородникову снились тяжелые, какие-то разрозненные, отрывочные видения – смесь того, что было с ним в действительности и чего не было… Будто идут они по широкому полю, толпа не толпа и строй не строй, и песни поют согласным и дружным хором.
Потом из дымного марева, будто из преисподней, появляется всадник на вороном коне, и Огородников без труда узнает в нем подъесаула Кайгородова, туземный дивизион скачет за ним с гиканьем и свистом… Сверкают сабли. Огородников рвет, рвет из кобуры наган – никак не может вырвать. А Кайгородов, смеясь и что-то крича, летит прямо на него – и нет сил сдвинуться с места. Он просыпается весь в горячем поту, с бьющимся где-то у самого горла сердцем, и некоторое время лежит неподвижно, не веря еще и в то же время радуясь уже, испытывая облегчение оттого, что цел он остался и выбрался из этой заварухи, можно сказать, невредимым. Но вскоре эта радость уступает место мыслям тяжелым и горестным, которые не отпускают его ни на минуту – даже во сне: как же ты, Степан Огородников, не сумел сохранить и вывести людей в безопасное место… А где оно сейчас, место безопасное, где?
Огородников лежит на жестком дощатом топчане подле окна, за которым, высветив стекла, нарождается новый день, еще не созревший окончательно, а только обозначенный на востоке светло-розовой полосой, продолговато-узкой, как сабельный шрам… Кажется, весь мир, от края и до края, во всем видимом и невидимом пространстве, рассечен надвое – и между этими двумя неравными частями, еще живыми и горячими, зияет свежая кровоточащая рана… Огородников отворачивается от окна. Однако от мыслей своих не отвернешься. Нет! А ведь могло быть иначе, думает, все могло быть не так, если бы не допустил он тогда просчет и не повел отряд на Березовку, а повел бы в обход… Он и хотел это сделать потом, но было поздно. А может, просчет был допущен раньше? Нет, никогда он себе не простит этого, никогда! Потому что он остался жив, а… Почему именно он остался жив, а другие погибли? Удачливее, проворнее, опытнее он других? Или больше других жить хотел? А разве другие не хотели? Мучительными, тяжкими были эти раздумья. Но еще более тяжким было незнание: что там сейчас и как? Где Двойных? Бачурин, Селиванов? Почему не вернулся в условное место Павел? И что с учительницей, ушла ли она из Безменовки? Что с другими, кто уцелел? Нет, нет, он верил, что окончательная победа – впереди. Но в том, что жертвы эти не напрасны, Огородников не был сейчас уверен: в том-то и дело, что напрасны! Ведь если бы не этот его просчет… Но революция зиждется не только на умных и точных расчетах, а, к сожалению, на таких вот ошибках и просчетах, – подумал он вдруг, как бы пытаясь найти себе оправдание, себе и всему, что случилось. – Иначе все шло бы как по маслу. И не было бы сейчас по всей Сибири, а может, и по всей России, такого жестокого и кровавого разгула, не было бы чехословаков ни в Новониколаевске, ни в Бийске, не было бы ни сатуниных, ни кайгородовых…
Кто сказал, что революция победит легко и бескровно? А никто не сказал, а сам он думал так, Степан Огородников, потому что хотел и очень спешил, торопился победить.
Огородников поднялся и еще раз посмотрел в окно, за которым все ярче разгорался день – и над лесом, по гори зонту, уже не сабельной раной виделся красный разлив зари, а расплескавшимся в полнеба алым полотнищем… Огородников почувствовал острый холодок внутри, где-то под сердцем, словно бы не в природе что-то преобразилось, а в нем самом, в его душе.
И тогда он поднялся окончательно, оделся и вышел во двор. Трава была волглой и тяжелой от росы. Он шел по ней, высоко поднимая ноги. Звенели и свистели на все лады птицы, благословляя новый день. Огородников прошел немного и увидел Филофея Демьяныча. Распахнув омшаник, он выносил и ставил одну к одной новые колоды…
– Прибавленья ждете? – догадался Огородников.
– Две семьи уже отроились, – сказал старик. – Кабы другие не приспели.
– Давайте помогу.
Огородникову захотелось поработать. Да и рука теперь меньше беспокоила: кость оказалась целой, а кожа и мякоть на молодом теле срастались быстро. Старик, однако, не одобрил его рвения:
– Ты, паря, не егозись. Побереги руку. Она тебе ишшо пригодится.
Днем приехал Корней Лубянкин. Огородников ждал Варю, а приехал Корней. И новости привез невеселые. Сатунин и до Шубинки добрался. Всего и пробыл-то один день, а натворил – за год не расхлебаешь… Корней не мог спокойно говорить, голос у него дрожал, срывался:
– Средь бела дня разбой учинил. Сусеки под метелку. Лучших лошадей позабирали. А кто несогласный был – того секли нещадно и не глядели, баба то или мужик… – Корней перевел дух, посмотрел на Степана, потом на Филофея Демьяныча. – Попить бы чего. Нутро горит.
Старик ушел в избу. А Степану вдруг вступило в голову: не стряслось ли чего с Варей? Но опасения оказались напрасными.
– Да ничего с ней не стряслось, – поморщился Корней. – А вот Гнедка забрали.
– Дак ты куда глядел? – возмутился старик. Он только что появился, держа в руках ковш с медовухой. – Такого коня отдать!..
– А ты б не отдал? – глянул сердито Корней и, взяв ковш у него из рук, жадно припал, большой острый кадык заходил у него по шее, как поршень, густые капли стекали но подбородку. – А ты б не отдал? – выдохнул, опорожнив ковш. – Кабыть прижмут к стенке да за горло возьмут…
– Это ж надо, такого коня лишиться! – совсем расстроился старик. – Эдак с тебя последние портки сымут, а ты молчи…
– И сымут! А ты как думал? Не только портки… – Корней резко повернулся и задрал подол рубахи. – На, полюбуйся. Видал, как разукрасили?
Спина его вдоль и поперек была исполосована, сплошь в кроваво-синих набухших рубцах. При виде столь неожиданной картины старик смутился и даже сник:
– Дак это хто тебя эдак?
– Дед Пыхто, – раздраженно сказал Корней, осторожно опуская рубаху.
– Вот лихоимцы! – возмутился старик. – Дак это за што они тебя эдак, Корнеюшка?
– А за то… Как говорено, за свое же жито та й была побита!
– Вот наказание, так наказание, – вздыхал Филофей Демьяныч, вконец расстроенный. – Сроду не думал, што после царя власть пойдет по рукам – то одне завладеют, то другие перевернут… Никакого порядка.
– Порядок самим устраивать надо, а не ждать, когда манна с неба посыпется, – сказал Огородников. – А переворот, Филофей Демьяныч, был в России один: в октябре прошлого года. Все остальное – видимость одна.
– Это как видимость?
– А так: временно все это, без якорей. Они вон и правительства свои не иначе как временными называют. Вот и кумекай, что к чему.
Корней курил, молча слушая, потом сказал:
– А если, к примеру, вот здесь переворот учинился? – постучал себя кулаком по груди. – Тогда как?
– Тогда это хорошо, если так, – улыбнулся Огородников. – Это значит, Корней Парамоныч, что самосознание в тебе просыпается. И я, по правде, очень этому рад.
– Какая там радость! – махнул рукой Корней. – А новостей я тебе могу и других подкинуть…
Давай. Что еще за новости?
– Мобилизация добровольная объявлена, – курнув и выпустив изо рта дым, сообщил Корней.
– Мобилизация да еще добровольная – это как? – не понял Огородников. – Откуда у тебя такие сведения?
А вот отсюда… – Корней достал из кармана брюк многократно сложенную газету и протянул Степану. – Погляди, может, я чего не понял…
Огородников развернул газету «Алтай», нашел крупными буквами набранное «Военное объявление», пробежал несколько строчек, пытаясь уловить смысл, вернулся к началу и прочитал вслух:
– «Сибирское Временное правительство…» Вот и я говорю: временное! – усмехнулся и начал снова: – «Сибирское Временное правительство во имя спасения Родины и светлого будущего процветания неисчерпаемо-богатой Сибири, призывая граждан выполнить свой долг перед страной, приглашает каждого верного сына родины вступить на службу в Сибирскую добровольческую армию, чтобы стать истинным защитником исстрадавшейся нашей матери-Родины. Принимаются в армию все граждане не моложе восемнадцати лет, не запятнанные нравственно…»
Огородников дочитал до конца, еще раз бегло просмотрел текст и глянул на Корнея:
– Ну, и как ты воспринимаешь это?
– А бес его батьку знает! – мотнул головой Корней. – Сказывают, добровольческая армия таких, как Сатунин, не одобряет.
– Кого ж она одобряет? И против кого собирается воевать? Об этом ты не думал? Не для того ж ее создают, чтоб сводить счеты с Кайгородовым да Сатуниным… Тут и слепому видно, – тряхнул газетой Огородников, бумага сухо зашуршала в его руке. – Ну, а другие как отнеслись к этому призыву?
– По-разному.
– Так. Небось и добровольцы уже объявились?
– А то как же!
– Много?
– А я не считал… кабыть не мое дело.
– Вот тебе и кабыть, чтобы себя не забыть! – Огородников задумался, а надумав что-то, повеселел. – Послушай, Корней Парамоныч, а не поехать ли нам в Шубинку вместе? Сегодня, сей же час, не откладывая на завтра.
– Зачем? – насторожился Корней.
– Соберем вечерком надежных мужиков да парней, поговорим по-хорошему. Разберемся, что к чему. Нельзя откладывать. Понимаешь, Корней Парамоныч, нельзя!
Корней заколебался:
– А не опасно? А ну как опять Сатунин вернется? – Сатунин дважды в одно место не возвращается. Во всяком разе предусмотрим и этот вариант. А бездействовать сейчас и того опаснее. Нет, нет, надо ехать.
– Смотри, как бы хуже не было.
– А это, Корней Парамоныч, и от тебя зависит, – многозначительно заметил Огородников. – Вот и давай вместе подумаем.
– Ну-к што ж, коли так, давай подумаем, – поколебавшись, согласился Корней. – Кабыть и надумаем што…
– Ты пойми одно: нельзя допускать, чтобы люди, не подумавши, в эту армию вступали, добровольно голову свою толкали в петлю…
***
Однако в Шубинку ехать по такой поре не посоветовал Огородникову и Филофей Демьяныч. «Ты, паря, голову побереги, не суй понапрасну, она ишшо сгодится…» И велел Корнею: «А мужики нехай сюды приедут, какие надумают… Здеся поговоритя и обмозгуетя все».
Так и сделали. Однажды вечером съехались на заимку Филофея Демьяныча шубинцы, человек двадцать мужиков и молодых парней. Расселись кто где – на лавке вдоль передней стены, на скамейках и низком голбце, подле печки, а то и прямо на полу, поближе к выходу… Тут же были и два Корнеевых сына-погодка (Огородников впервые их видел) – девятнадцатилетний Федор, жилистый и высокий, похожий, как две капли, на деда своего филофея Демьяныча, и восемнадцатилетний Василий, Варин близнец, ростом пониже старшего брата, но сбитый покрепче и пошире в плечах. Братья стояли у двери, подпирая плечами косяки, как часовые, и не спускали глаз с Огородникова. Должно быть, наслышаны были о нем, а может, знали или догадывались о том, что вскоре быть им шуряками…
Время было позднее. И Корней запалил семилинейку, убрав нагар с фитиля, надел «пузырь» и придвинул лампу поближе к Огородникову, сидевшему за столом, под божницей.
– Вот, мужики, какую светлую жизнь я вам устроил, – пошутил Корней, чувствуя торжественность момента и в то же время испытывая неловкость от непривычки быть в центре внимания. Поэтому и суетился излишне, хватаясь то за одно, то за другое, что было ему несвойственно, и говорил больше обычного – хозяин как-никак должен, стало быть, развлекать… У него даже лоб вспотел от старания. И он облегченно вздохнул, когда поднялся Огородников и, опершись одной рукой о столешницу, начал говорить.
– Это хорошо, товарищи, что вы собрались вместе. А собрались мы, сказать но правде, в самую трудную для Советской власти минуту. Скрывать этого незачем, потому как вы и сами все видите. Контрреволюция кое-где взяла верх. Чехословаки заняли многие сибирские города, в том числе и Бийск. В Горном Алтае бесчинствуют банды Сатунина, Кайгородова и прочих других карателей. Многие из вас уже на собственной шкуре испытали их руку. Но это только цветочки, а ягодки впереди. И если мы будем сидеть сложа руки, выжидаючи, доведется нам вкусить и всю горечь этих самых ягодок… Это я вам говорю от всей души. И от имени большевистского комитета, который хотя и перешел на нелегальное положение, но оружия не сложил, а продолжает готовиться к решающим боям. – Огородников обвел внимательным взглядом собравшихся тут мужиков и парней шубинских и продолжал ровным и твердым голосом, понимая, что многое нынче будет зависеть от его твердости и непоколебимой уверенности. А поговорить и посоветоваться с вами, товарищи, хотелось вот о чем… – Взял со стола газету, которую днем привез ему на заимку Корней. – Вот здесь объявление напечатано – насчет добровольного вступления в Сибирскую армию… Читали? – Мужики молчали. – Неужто не читали? – удивился Степан.
– Дак чтецы из нас никудышные, – ответил за всех сидевший на голбце мужик. – Но слыхать, конешно, слыхали, о чем там балакают. Слава богу, хоть не силком тянут, а желающих зовут…
– И много среди вас желающих?
– Много не много, а есть, – уклончиво сказал мужик. – Как-никак обмундировка, харч казенный да еще и жалованье в придачу. Шестьдесят целковых рядовому, семьдесят пять отделенному – не фунт изюму! А фельдфебелю и того больше… Как же не быть желающим!
– Дак ты, Егор, кабыть уже фельдфебель? – пошутил Корней Лубянкин. Дружно посмеялись. Мужик, однако, не смутился:
– А я Корней, отделенным пойду. Семьдесят пять рубликов – оне ведь тоже на дороге не валяются… Да и то сказать: хошь или не хошь, а служить все едино придется.
– Смотря кому служить, – заметил Огородников.
– Отечеству, знамо, – нашелся мужик. И, поразмыслив чуть, добавил: – Ну, и правительству, само собой.
– Какому правительству? Мужик опять подумал чуток:
– А тому, которое на данный момент находится у власти.
– Значит, тебе все равно кому служить? И против кого воевать – тоже псе равно?
– А куды денешься? Призовут – и пойдешь как миленький. На то она и власть.
– Ну-у, брат Егор, если все так будут рассуждать, как ты рассуждаешь, революцию мы и вправду похоронить можем! – мягко, но с упреком сказал Огородников. – И декрет о земле, подписанный собственноручно товарищем Лениным, о той самой земле, которую Советская власть безвозмездно передала трудовому крестьянству, тоже потеряем. Все потеряем! А что взамен?
– Дак новый закон о земле, говорят, теперь будет, – подсказал кто-то осторожно.
– Ага, держи карман шире, будет!
Да есть, есть, мужики, такой закон, – вмешался опять Егор. – Самолично видел в такой же вот газетке…
– Верно, – подтвердил Огородников. – И я тоже видел этот «закон», подписанный господином Вологодским. А что в нем говорится, в этом «законе», об этом вы помните? Или не помните? Вернуть прежним владельцам все бывшие их земли – вот что там сказано и черным по белому написано, в том самом «законе о земле». То есть вернуть земли обратно богачам и помещикам.
– Да какие тут у нас помещики?
Помещиков, конечно, в Сибири нет. – согласился Огородников. – Но мироедов и кулаков хватает. Вот они-то заинтересованы в том, чтобы ваш брат, крестьянин, поменьше думал, а без раздумий бы и как можно скорее вступал в эту самую «добровольческую» армию, которая будет защищать прежде всего и в первую очередь их интересы, а не ваши. Вот как все это выглядит. А вовсе не так, как иным кажется…
– Можа, так, а можа, и не так, – усомнился Егор. Кисет соскользнул у него с колен, табак просыпался, и он, опустившись на корточки, неторопливо его собирал. – Надо поглядеть.
– Да хватит тебе придуриваться! – одернул его кто-то. – Тут сейчас не до смешков, о деле надо говорить.
– А я об чем? Только хочу знать, о каком деле ты баишь? Ась? – дурашливо приложил к уху ладонь. – Не слышу чего-сь.
– Язык у тебя, что помело! – не выдержал, рассердился Корней. – Помолчи. Дай другим сказать.
– Товарищ хочет знать о деле – это правильно, – вступился за Егора Огородников. – А дело у нас одно сегодня: отстоять Советскую власть. Другого дела покуда нет. Вот я вас и хочу спросить: а вы, товарищи шубинцы, готовы к этому или не готовы? Или, как и раньше, кое-кто из вас, – глянул на Корнея, – будет идти на поводу у провокаторов и врагов революции? Тут вот в объявлении сказано, – опять взял газету в руки, поискал глазами нужное. – Ага… вот что тут сказано: «Принимаются в армию все граждане не моложе восемнадцати лет, не запятнанные нравственно…» Видали! Вот каких чистеньких желают они заполучить в свою армию. А скажи мне, Егор, – повернулся к мужику, сидевшему на голбце, – не знаю, как тебя но батюшке…
– Дак с утра вроде был Тихонович…
– Скажи мне, Егор Тихонович, как на духу: считаешь ли ты себя запятнанным нравственно?
– Это как? – не понял Егор.
– Ну, если сказать иначе, есть на тебе грехи несмываемые?
– Ни в коем разе! Несмываемых нет, – поспешно ответил Егор, чем вызвал дружный смех. Огородников продолжал серьезно:
– А вот они, – кивнул на братьев Лубянкиных, стоявших по-прежнему у двери, – или вот они, – обвел взглядом других мужиков и парней, – они чем-нибудь запятнаны?
– Боже упаси! Покуда нет, – опять за всех расписался Егор.
– Ну так, может, среди вас найдутся такие, которые пожелают себя запятнать? – Вопрос был странный, и никто пока не мог понять, к чему клонит Огородников, какой подвох скрывается за этим вопросом.
– Да кому ж такое в голову придет? – усомнился Корней. – Кабыть не враги себе.
– Вот и я так же думаю, – кивнул Огородников. – А раз так, советую вам оставить всякую мысль об этой армии, – ткнул пальцем в газету. – И сами не вступайте и других отговаривайте. Чтобы не запятнать себя на всю дальнейшую жизнь. Согласны? А коли так, давайте поговорим, товарищи, еще об одном неотложном деле…







