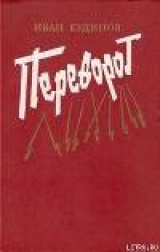
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
***
Растянувшись на версту и развернув знамена, полк двигался на Смоленское. И Огородников, понимая душой и сознанием всю важность этого наступления, подумал, что надо бы все же бесшумнее двигаться, соблюдая большую предосторожность. Потом его отвлекла от этих мыслей возникшая вдруг песня – он услышал знакомый мотив и слова, звучавшие негромко, вполголоса, совсем рядом, и поискал глазами певца:
Белоногие да златорогие,
Они шли, брели на Киян-остров…
Огородников придержал коня, вслушиваясь и удивляясь: песню эту никто, кроме Митяя Сивухи, не пел, и она после его гибели стала уже забываться… И вдруг снова зазвучала, точно вернулась издалека, возникла из травы и деревьев вот этих, стоявших вдоль дороги, из самого воздуха, густого и жгучего, вернулась и зазвучала, как прежде. Огородников узнал голос брата, и он поразил его какой-то глубокой, невысказанной печалью. Хотя и не было в голосе Павла ни уныния, ни растерянности, а была только печаль, печаль и твердая вера в правоту этой песни, суровом, бесконечной и чуточку загадочной, как и сама жизнь.
Вот и Митяя уже не было, а песня его жила…
«Да, да, – подумал Огородников, – в этом, наверное, и есть высшая справедливость, что песни живут дольше людей. Но как хочется, чтобы и люди научились жить долго! – Эта странная мысль поразила его, и он еще подумал, решив для себя: – Когда-нибудь научатся. Только не слишком ли дорого приходится платить за эту науку?»
Где-то, не доходя до Старой Белокурихи, чуть в стороне от тракта, на проселке, конный разъезд полковой разведки перехватил две подводы со странными ездоками – по три человека в каждой кошевке,[10]10
Дорожные сани, легкие, обитые по бокам кошмой или тонкими дощечками, нередко резные, покрашенные…
[Закрыть] шесть мужиков, явно не здешних, одетых добротно, в черных тулупах…
Разведчики спросили, кто они и куда направляются. Один из тех, которые сидели в передней кошевке, рослый и широкоплечий, отвечал спокойно и с некоторым даже вызовом:
– Едем в Бийск. Вот это, – кивнул на человека, сидевшего в кошевке и утопившего голову в огромный воротник тулупа, – это представитель американской миссии… неприкосновенная личность. Так что прошу не задерживать нас. Это чревато последствиями…
Разведчиков, однако, «чреватые последствия» не смутили, и они решили на всякий случай подводы задержать, которые и ехали-то на Бийск не по тракту, а путями окольными. Тотчас и командиру полка было доложено о задержании двух подвод с шестью ездоками, один из которых – иностранец.
– Иностранец, говорите? – переспросил Огородников. И засмеялся, вспомнив, как месяца три назад, под Сваловкой, задержали они Третьяка, приняв его за иностранца. – А с чего вы взяли, что он иностранец?
– Говорят, что представитель какой-то американской миссии, – отвечали разведчики. – Хотели мы с ним поговорить, да он ни бельмеса по-русски…
– Да? – удивился Огородников и, подъехав к передней подводе, спросил: – Кто такие, куда направляетесь?
– Едем в Бийск, – отвечал все тот же широкоплечий человек. – Сопровождаем представителя американской…
– Откуда? – перебил Огородников. – Откуда вы его сопровождаете? И как этот представитель оказался на территории Советской республики?
– Он ученый… очень крупный, – уже не так уверенно отвечал широкоплечий. – Интересуется целебными водами… в частности, белокурихинским радоном… Очень знаменитый человек.
– Ладно, – решил Огородников. – Коли он такой знаменитый – пусть с ним разберутся в штабе дивизии.
И вскоре представитель американской миссии предстал перед начдивом. Увидев перед собой богатырски сложенного человека, в огромной собачьей дохе, в лохматой лисьей шапке, с маузером на боку, заметно смутился, оробел и несколько даже сменился с лица.
– Ну? – сказал Третьяк, поглядывая остро и пристально из-под низко надвинутой шапки. – Значит, как докладывают разведчики, по-русски ни бельмеса?… Вот незадача, язви тебя! Ну, так говорите, если такое дело, по-английски – послушаем. – И вдруг построжел, сдвинув густые брови, шагнул вперед, приблизился вплотную, лицо к лицу, с «американцем» и негромко, но четко и ясно спросил:
– Who are you?[11]11
Кто вы такой? (англ.)
[Закрыть]
Тот вздрогнул, поднял на Третьяка полные растерянности, страха и холодной ненависти глаза.
– I am reprezenter of American missien on Russia,[12]12
Представитель американской миссии в России (искаж англ.)
[Закрыть] – ответил сбивчиво, осекся и замолчал.
– What do you say? Repeat![13]13
Что вы сказали? Повторите! (англ.)
[Закрыть] – переспросил Третьяк и засмеялся. – А что это вы, господин «американец», говорите на таком «диалекте» – смесь английского с вятским? Такого языка я не встречал ни в одном американском Штате… Кто вы? Надеюсь, этот язык вам понятен? Тот молчал.
– Ну что ж, разберемся после, – сказал Третьяк. – Разберемся, можете не сомневаться. – И насмешливо добавил: – Good-bye![14]14
До свидания! (англ.)
[Закрыть]
Позже выяснилось, что выдававший себя за представителя американской миссии – не кто иной как поручик Кирьянов, один из самых жестоких карателей, пытавшийся скрыться от возмездия за свои кровавые дела и бежавший в Бийск, под защиту колчаковских войск… Но скрыться ему не удалось.
***
В конце девятнадцатого года развернулись ожесточенные бои красных партизан с колчаковцами по всему Алтаю – степному и горному. Северо-восточнее Барнаула, в салаирской черневой тайге, мужественно противостояла регулярным белогвардейским частям Чумышская дивизия Матвея Ворожцова (известного по партийной кличке Анатолий), бывшего военного летчика, юго-западнее вела наступление армия Ефима Мамонтова, к ней вскоре примкнули дивизии Громова, Захарова, Архипова… А на юго-востоке, по левобережью Катуни, действовала Первая Горно-Алтайская партизанская дивизия Ивана Третьяка, в состав которой входило уже одиннадцать полков, насчитывающих в своих рядах восемнадцать тысяч человек.
Между тем белогвардейцы все еще удерживали в своих руках Бийск, считая его главным опорным пунктом на юге Западной Сибири. Бийск был удобен во всех отношениях: он связан с Барнаулом и Новониколаевском не только железнодорожным, но и водным путем – но Оби. А главное – отсюда начинался Чуйский тракт, дававший выход в Монголию. Лучшего пути в случае отступления не придумаешь! Колчак не раз подчеркивал в своих приказах важное значение этой магистрали, требовал неукоснительно, чтобы Чуйский тракт на всем своем протяжении – шестьсот верст – контролировался правительственными войсками.
Вот этим путем и решил воспользоваться штабс-капитан Сатунин. После некоторого перерыва он снова заявил о себе, дал знать срочными телеграммами, направленными в Улалу, Шебалино, Алтайское, Онгудай, Кош-Агач и лично Аргымаю Кульджину: «Верховный правитель приказал мне спасти Горный Алтай. Он дал мне средства, вооружение, артиллерию и теплое обмундирование. Орлы Алтая, я иду к вам! Собирайте дружины, которые я приведу в боевой порядок. Оповестите любимых туземцев, что знамя Каракорума в надежных руках. Атаман-капитан Сатунин».
Видимо, «атаман-капитан» решил еще раз попробовать сыграть на козырях, затронув (как уже было не раз) национальные чувства «любимых туземцев», дабы привлечь их на свою сторону. А там – как бог на душу положит!..
И двинулся по Чуйскому тракту, таща за собой огромный обоз с оружием и награбленным добром.
Весть о продвижении Сатунина в глубь Алтая, по тракту, быстро разнеслась в горах и дошла до штаба партизанской дивизии.
Третьяк созвал экстренное заседание. Медлить было нельзя. И 1-й полк получил задание – выступить наперехват, чтобы не дать уйти за пределы Алтая одному из самых изощренных и жестоких карателей и ярых врагов Советской власти.
Рано утром, еще до рассвета, полк Огородникова выступил и двигался, лишь с короткими остановками, целый день, до вечера, а потом и всю ночь…
Сатунин между тем достиг деревни Топуча и решил сделать передышку, чувствуя себя здесь в полной безопасности. Он знал, что основные силы партизан находятся сейчас на казачьей линии, под Чарышской, почти за двести верст. Однако атаман просчитался – и это обошлось ему дорого.
Полк Огородникова, преодолев за сутки сто восемьдесят верст, рано утром подошел к Топуче. Крутые горы и густой пихтач скрывали партизан, делая их невидимыми со стороны деревни, в то время как деревня сверху была, будто на ладони. Можно пересчитать все дома, виден каждый человек, проходивший по улице, каждый звук доносился отчетливо и ясно.
Деревня уже проснулась. Горланили петухи, мычали коровы. Пахучие дымы поднимались над крышами домов, тянулись вверх и медленно растекались и таяли в поднебесье, под самым носом у партизан…
– Щами па-ахнет! – протяжно и внятно сказал кто-то, шумно втягивая ноздрями сыроватый утренний воздух. – Похлебать бы маленько.
– Погоди, похлебаешь… – насмешливо пообещал другой.
Огородников узнал по голосу своих шуряков, братьев Лубянкиных, Федора и Василия, подошел ближе и увидел рядом с ними Павла.
Они стояли рядом, держа в руках поводья, и копи жадно рвали сухое былье, торчавшее из-под снега, перекатывая во рту вместе с удилами.
– Как настроение, орлы? – спросил Огородников, останавливаясь.
– Орлы и есть, – ответил старший из братьев Лубянкиных, Федор, худой и длинный, как жердь. – Вон куда залетели. Как отсюда полетим?
– Страшновато? – усмехнулся Огородников. Федор новел плечами:
– Не впервой! Гор мы не видели, что ли?
– А чего медлим? – спросил Павел. – Упустим время – чего хорошего?
– А чего хорошего – не зная броду, лезть в воду? Отдохнем. Оглядимся. И лошадям нужна передышка. На-ка вот взгляни, что там внизу творится, – снял бинокль с шеи и протянул брату.
– А я и так вижу. Телеги вон, штук двадцать, целый обоз. Солдаты разгуливают без всякой опаски. Самое время прихватить их врасплох.
– Прихватим, никуда они теперь не уйдут от нас. Разведка вот вернется…
– А мне и без разведки ясно, что это Сатунин. Совсем уже рассвело.
Вернулись разведчики. И Кужай Тобоков, ходивший старшим, коротко доложил:
– Сатунин.
– Почему так уверен? – спросил Огородников. – Видел самого атамана?
– Нет, не видел, – мотнул головой Тобоков. – Мужика встретили за деревней, за сеном ехал. Он и рассказал: атаман, говорит, со вчерашнего вечера пирует да женщинам молодым допрос учиняет… Кермес его задери!
– А силы у него какие?
– Две сотни солдат да тридцать офицеров. Пулеметов много, оружия всякого… А нападения они, поди-ко, и не ждут, – прибавил другой.
– Вот и хорошо, что не ждут, – сказал Огородников и обвел взглядом стоявших рядом партизан. – Ну, что, товарищи? Как говорится, бог не выдаст – свинья не съест! Пошли! Наступать будем с двух сторон. Чеботарев и Тобоков – слева, а мы с другого фланга. Главное – внезапность. Ударим, как гром с ясного неба!.. – А небо и впрямь было ясное, голубое, и день обещал быть морозным.
– Пошли! – еще раз сказал Огородников, закидывая ременный повод на шею коня и ставя правую ногу в стремя. Вдруг повернулся и внимательно посмотрел на Павла, уже сидевшего в седле. Хотел что-то сказать, передумал, помедлил еще секунду, затем рывком сел в седло и развернул коня:
– Вперед!
И уже не видел, кто скачет рядом, а кто позади, летел, чуть пригнувшись, по крутому каменистому склону, который чем ближе к селу, тем ровнее и положе становился. Встречный ветер холодил лицо, высекая из глаз искры. Тело сделалось тугим и упругим. Земля гудела под копытами коней. И протяжное многоголосое «ура» катилось вниз, по склону, грозно и неотвратимо нарастая и приближаясь к селу, где уже началась паника и суматоха – солдаты выскакивали из домов, метались по улице, бежали в разные стороны, будто не находя выхода. Тяжелая, неудержимая лавина скатилась с горы, сшибла, смяла их, не давая опомниться. Ударили с двух сторон – деваться некуда.
Выстрелы.
Крики.
Ругань.
Захваченные врасплох сатунинцы сдавались, бросая оружие. Но сам атаман каким-то чудом прорвался и ускользнул, ушел из села, отстреливаясь, с небольшой частью своего отряда. Когда бросились за ним в погоню, вдруг резко и хлестко ударили пулеметы почти в упор, наискось и поперек улицы.
Огородников увидел, как чья-то лошадь вздыбилась, дико заржав, и рухнула, опрокидывая и подминая под себя всадника. Показалось, что это был Павел, но не было времени задержаться и посмотреть. Мелькнуло поблизости разгоряченно-красное лицо Кужая Тобокова. Промчались братья Лубянкины… И тут же пулеметным огнем сбило еще двух всадников.
– Спешиться… спешиться, черт бы вас побрал! – закричал Огородников, осаживая коня и соскакивая с него. Пули вжикали по-шмелиному, и он, пригнувшись, перебежал улицу и упал за какой-то камень. Пулеметы стегали крест-накрест, не давая поднять головы. И теперь ясно было, что стреляют из дома.
– Обойти со двора! – приказал Огородников. Когда же попробовали это сделать, попали под такой же хлесткий и яростный огонь. Трое бойцов, пытавшихся обойти дом с тыла, вынуждены были отползти назад, а четвертый так и остался лежать в ограде…
– Грамотные, сволочи! – выругался кто-то рядом с Огородниковым. – Круговую оборону заняли.
– Сейчас мы их выкурим, – сказал Огородников и несколько раз выстрелил из нагана, целясь в окно. Партизаны открыли ружейную пальбу. Зазвенели, посыпались разбитые стекла.
Около двух часов засевшие в доме пулеметчики отстреливались, не желая сдаваться. Только после того, как удалось подползти ближе и метнуть в окна несколько ручных бомб, пулеметы захлебнулись и смолкли… Партизаны ворвались в дом.
– Вот и все, – сказал Огородников, столкнувшись в ограде с Чеботаревым. – Ну?
– Порядок, – так же коротко ответил Чеботарев.
– Сатунина упустили. Какой же порядок?
– Далеко не уйдет. Почти весь отряд здесь остался. Куда он один?
– Старый волк и без стаи опасен, – возразил Огородников, глядя, как братья Лубянкины, Федор и Василий, выводят из дома двух пленных, разгоряченно-потных, без фуражек, с красными и злыми лицами, еще не утративших, казалось, выражения тупой и отчаянной непримиримости. Один из них показался Огородникову знакомым, и он хотел было сказать об этом Чеботареву, но Михаил опередил его:
– Ты посмотри… это же Федотка Брызжахин! Вот сволочь!..
Они подошли. Остановились лицом к лицу.
– Федот – и все тот? – переиначив поговорку, сказал Огородников. – Везет нам на встречи с односельчанами. Недавно Барышев явился, а теперь вот…
Брызжахин вскинул голову и зло прищурился:
– Жаль, что ты мне раньше не встретился! Тогда бы я иначе с тобой поговорил!..
– А у меня с вами всегда один разговор, – спокойно и чуть насмешливо оглядел его Огородников. – Другого не дождетесь.
И коротко махнул рукой: ведите.
Когда же Федор и Василий отдалились, конвоируя пленных, он удивился тому, что нет рядом с братьями Лубянкиными Павла.
– Послушай, – быстро и тревожно взглянув на Чеботарева, спросил он, – а где Павел? Что-то не видно его…
– Павел? – как бы припоминая, где он и что с ним, чуть замешкался Михаил. – Да ничего страшного… ранен.
– Ранен? Сильно?
– Может, и сильно. Да ты не волнуйся. Бергман сделал ему перевязку. Вроде… – осекся, посмотрел виновато.
– Что с Павлом? – побледнев, тихо спросил Огородников. Чеботарев протяжно вздохнул и наклонил голову. И Степан понял: случилось страшное что-то и непоправимое.
Вспыхнула перед глазами (еще и не успела погаснуть) картина только что отгремевшего боя, отзвуки которого еще стояли в ушах – яростная пулеметная дробь, сухой треск оконных стекол, взрывы ручных бомб… И чей-то вздыбившийся и с диким ржанием рухнувший конь, подминающий под себя всадника…
***
Семеро погибших бойцов в этот же день были похоронены в братской могиле, неподалеку от села, на бугре. Огородников произнес прощальное слово.
– Революция не забудет вас, дорогие товарищи! – печально и твердо говорил он, и эхо тотчас повторило его голос, возвращая издалека.
Пахло землей и подтаявшим вокруг ямы снегом.
По Степан так и не смог поверить в смерть брата. Казалось, не Павел, а кто-то другой, лежал в ряду погибших, отчужденно и холодно сомкнув губы… И он это – и не он… «Вот и съездил в Томск… – с горечью от застрявшего в горле кома подумал Огородников. – Хотел Татьяну Николаевну привезти… Теперь уже никогда… Никогда!..»
В тот же день, под вечер, за селом – только с другого конца, подальше от глаз, похоронили еще шестьдесят трупов – убитых в бою сатунинцев. Положили их в общую яму, продолговатую и глубокую, в каких закапывают павший от эпидемии скот, и молча, поспешно зарыли.
***
Только в полдень, когда достигли перевала и разбитая, заснеженная дорога, сузившись до размеров тележной колеи, круто пошла вверх, Сатунин остановил загнанно хрипящего коня и некоторое время сидел неподвижно, опустив поводья и глядя перед собой на серо-коричневые глыбы камней, громоздившихся слева и справа. Снизу, из головокружительной глубины, тянуло холодом, как из распахнутого погреба, и росшие там, на дне скалистого ущельного провала, деревья нацелены были вверх острыми верхушками, словно частоколом длинных партизанских пик… Так подумалось.
Провальная глубина и острые пики деревьев притягивали и манили к себе, дыша какой-то загадочной неотвратимостью, и атаман долго не мог отвести глаз от этой завораживающей пропасти…
– Все! – сказал он наконец резким и каким-то надтреснутым голосом. – Спешиться!
И сам первым высвободил ноги из стремян и слез с коня, мокрые опавшие бока у которого ходили ходуном, как кузнечные мехи, а с отвислых губ клочьями падала желтоватая пена.
– Все! – еще раз сказал атаман. – На этих скакунах теперь далеко не уедешь. Отъездились.
Конь пошатывался. Мосласто-прямые и тонкие в бабках передние ноги его подламывались, и он едва стоял. Не лучше выглядели и остальные двадцать семь лошадей – все, что осталось от летучего сатунинского отряда. Двадцать семь всадников, спешившись, стояли подле своих лошадей, выжидающе глядя на атамана.
Сатунин вскинул тяжелую, тыквообразную голову и коротко скомандовал:
– Построиться.
Измученные и загнанные не меньше лошадей люди неохотно отошли на несколько шагов и построились в две шеренги. Только унтер-офицеру Найденову не хватило «пары», и он стоял на правом фланге один, как, впрочем, и полагалось ему стоять, главному подручному атамана.
– Утешать вас не собираюсь, – резким и надтреснутым голосом сказал Сатунин. – И обещать вам легкой жизни тоже не могу. Побили нас, как видите, основательно… Как псов шелудивых. Но, как говорится, за одного битого двух небитых дают. – И выдержал паузу. – Нам бы сейчас быстрее добраться до Аргымая Кульджина. Аргымай поможет. И я надеюсь еще… – Он не договорил, обернулся к стоявшему задом к пропасти коню и увидел, что конь храпит и медленно валится набок. Сатунин, почти не раздумывая, чуть развернувшись, плечом толкнул его что было силы в грудь, конь попятился, елозя копытами задних ног по камням, сорвался, мелькнув огненно-рыжей гривой, и почти бесшумно исчез…
Произошло это столь мгновенно и неожиданно, у всех на глазах, что трудно было поверить в случившееся. Только что стоял конь, под седлом, наборная серебряная узда поблескивала на солнце – и нет его, пустота. Лишь одиноко и зловеще на фоне ослепительно синего и холодного неба торчит маленькая узкоплечая фигурка атамана, с тыквообразной головой и слегка оттопыренными ушами, отчего кажется, что фуражка держится не на голове, а на ушах.
– И я надеюсь еще вернуться в эти края и проехать на белом коне по дорогам Алтая! – как ни в чем не бывало продолжал атаман, повысив голос почти до крика. «Зачем он кричит? – устало и равнодушно подумал Найденов. – И так все ясно…»
– Дальше пойдем пешком. Лошадей найдем по дороге… – объявил атаман. – Неволить никого не буду. Решайте сами. – Он помедлил чуть. – Кто дальше не пойдет со мной – три шага вперед!..
Наступила тягостная заминка. Сатунин ждал, уставившись холодными немигающими глазами на стоявших в строю людей. Было тихо. И невыносимо душно, несмотря на мороз.
– Решайтесь. Неволить я вас не буду, – повторил Сатунин.
И тогда один за другим нерешительно и медленно, с оглядкой, вышло из строя сначала семь человек, потом еще трое…
– Все? – спросил атаман и оглядел их с усмешкой.
После этого вышли еще двое и пристроились к тем десяти. – Ладно. Решено – значит, решено. Еще пять шагов вперед – арш!..
Вышедшие из строя и образовавшие новую шеренгу послушно отсчитали пять шагов – и оказались таким образом лицом к пропасти, а затылком к оставшимся позади…
– Сволочи! – тихо проговорил Сатунин. – Решили шкуру свою спасти? Не выйдет! – И повернулся к Найденову. – Расстрелять их, унтер. Всех до одного. Исполняйте.
Найденов не пошевелился.
– Ты что, унтер? – побледнел Сатунин и зло прищурился. – Может, и ты с ними заодно? Так иди, иди к ним! Да я вас… – рванул пистолет из кобуры. Грянул выстрел. Сатунин вздрогнул, выронив пистолет, и удивленно посмотрел на унтер-офицера Найденова, стоявшего шагах в пяти от него и державшего в поднятой руке наган. «Когда же он успел его достать?» – подумал Сатунин и усмехнулся, но это скорее не усмешка была, а гримаса, исказившая и без того некрасивое, почти безобразное его лицо. – Сволочи… – прохрипел атаман и повалился навзничь, стукнувшись головой о камень.
Снизу все так же тянуло холодом, а небо над горами вдруг стало тускнеть…
Найденов поднес дуло нагана к губам и зачем-то подул в него:
– Так-то вот, Дмитрий Владимирович… Отъездились! – И резко повернулся, окинул взглядом стоявших неподвижно и как бы онемевших людей. – Можете и меня хлопнуть. Если у кого рука подымется. – Никто не двинулся с места. – Дорога у нас теперь у всех одна, – добавил Найденов. – Выбора нет. Так что и время терять не стоит. Что скажете?
Никто не ответил.
Найденов подождал еще немного и воспринял это молчание – как согласие.
– Ну что ж, – вздохнул облегченно, – тогда пойдемте. Даст бог, до Уймона сегодня доберемся. А там видно будет…
– Похоронить бы атамана, – предложил кто-то осторожно.
– Пусть его звери хоронят! – сказал Найденов и посмотрел на Сатунина, лежавшего боком к обрыву; глаза атамана неподвижно, остекленело глядели в небо, из полуоткрытого и чуть покривившегося рта сочилась и стекала на подбородок струйка крови… Найденов носком сапога коснулся его плеча, уже слегка задеревеневшего, брезгливо поморщился и вдруг резким, коротким и сильным движением толкнул его, перенося ногу с носка на пятку, потом еще и еще сильнее – тело атамана податливо сдвинулось, тыквообразная голова мотнулась над пропастью и, как бы перетянув, повлекла за собою бренные останки того, кто совсем еще недавно был в силе и наводил страх на других…
Земля, каменное крошево, сухие листья зашуршали, посыпавшись вниз.
– Звери его похоронят, – повторил Найденов и, медленно повернувшись, пошел но дороге, на перевал, не оглядываясь и не интересуясь – идут за ним остальные или не идут.







