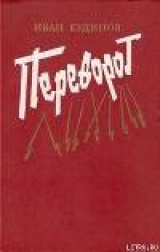
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Однажды, войдя в палату, она услышала невнятный, хрипло-горячечный голос Павла – он бредил. Таня подошла к нему, поправила съехавшее одеяло, смочила угол полотенца и осторожно приложила к сухим, потрескавшимся его губам. Он затих на секунду, повернув голову к стене, прерывисто и часто дыша. Потом стал метаться и что-то говорить.
– Зажгите… лучину зажгите! – хрипел он, с трудом выталкивая из горла слова. – Татьяна Николаевна… читайте… прошу вас, читайте! Я посвечу вам…
Таня вздрогнула, услышав свое имя, слезы подступили к горлу, душили ее, и она не в силах их сдерживать, выскочила в коридор. Слава богу, никто не заметил ее слез.
Потом она работала с утроенной энергией и старательностью, совсем забыв об усталости. И если случалось, что надо и некому было остаться на ночное дежурство, она с поспешной готовностью и без раздумий соглашалась. А когда (все же силы человеческие не беспредельны) приходилось дежурство кому-то передавать и ждать потом своей очереди целые сутки, а то и больше, она волновалась и беспокоилась, не находя себе места. А вдруг Павлу стало хуже? Это «вдруг» окончательно выбивало ее из колеи, лишало покоя. И она бежала потом в больницу, вся внутренне сжавшись, боясь и ожидая самого худшего, и успокаивалась только тогда, когда входила в третью палату и видела, что Павел, как и прежде, лежит на своей угловой кровати… Она подходила к нему, с надеждой всматривалась в его лицо, словно бы отгороженное какой-то непреодолимой завесой.
Но сегодня лицо Павла показалось ей спокойнее и бледнее обычного. Должно быть, жар спал, и на лбу у него выступила испарина. Таня осторожно промакнула полотенцем, вытерла ему пот. Павел встрепенулся, медленно и тяжело разомкнув веки, и посмотрел невидяще, как сквозь туман. Веки его дрожали, и глаза, точно прозревая, остановились на ней, не выражая, однако, ни удивления, ни каких-либо других чувств… Таня замерла в ожидании: сейчас, вот сейчас он узнает ее, обрадуется, назовет по имени, как называл в бреду, и она, жалея и боясь этого одновременно, вся напряглась и даже приложила палец к губам, как бы предупреждая: молчи!.. Но он никак на это не прореагировал и не заметил, кажется, ни выразительного ее жеста, ни взволнованно-ожидающего ее взгляда, устало закрыл глаза и отвернулся к стене.
Потом, спустя много дней, когда кризис миновал и они смогли поговорить, Таня спросила его об этом. И Павел сказал, что он узнал ее, конечно, сразу, как только увидел, но у него не хватило сил обрадоваться и что-нибудь сказать.
На исходе третьей недели в больницу неожиданно явились двое военных. Николай Глебович, предчувствуя недоброе, несколько растерялся и встретил их настороженно:
– Чем обязан столь высокой чести?
Военные держались твердо и с некоторой даже самоуверенностью:
– Нас, интересует бежавший из-под стражи преступник…
– Позвольте, господа, – удивился Николай Глебович, – в нашей больнице находятся только больные.
– И тем не менее мы обязаны проверить, – настаивал один из военных, молодой и решительный, судя по всему, старший по должности и званию.
– Каким же образом вы собираетесь это делать?
– Во всяком случае, не без вашей помощи, доктор. Покажите нам для начала списки… или, как там у вас, регистрационные записи, желательно за последний месяц. Надеемся, это вас не особенно затруднит?
– Нет, отчего же… списки я вам покажу.
Проверка в общем-то закончилась ничем, хотя одна запись проверяющих насторожила: «Неизвестный». Они переглянулись между собой, как бы молчаливо о чем-то сговариваясь, и все тот же молодой и решительный человек поинтересовался, ткнув в эту запись:
– Что это значит?
– Это значит, что больной был доставлен в тяжелом состоянии, – ответил Николай Глебович, не выдавая ничем своего беспокойства. – А документов при нем не оказалось…
– Стало быть, без документов?
– Болезнь, батенька мой, интересуется мало – есть у вас документы или их нет.
– Понятно, – многозначительно кивнул тот. – Но слово «неизвестный», как я вижу, было зачеркнуто, а сверху вписана фамилия: Бучмин. Как это понимать?
– Очень просто. Больной пришел в себя – и назвал фамилию.
– Назвал фамилию… И вы уверены, что назвал он свою фамилию?
– У нас больница, а не военная комендатура.
– Понятно. А могли бы мы увидеть… этого Бучмина? Николай Глебович как будто заколебался, и это сразу насторожило проверяющих:
– Вас что-то смущает, доктор?
– Да. Больной Бучмин находился в тифозном отделении, и мне, господа, не хотелось бы подвергать вас ненужному риску.
– Вы сказали – находился. А где же сейчас находится… Бучмин?
– Этого я не знаю. Два дня назад мы его выписали.
– Понятно, – сказал молодой военный и насмешливо-предупреждающе добавил: – А если это не так? Смотрите, доктор, с этим шутки плохи…
Позже, когда опасность миновала, Николай Глебович понял, как опрометчиво он поступил, подвергая себя (да и не только себя) риску. Но что ему оставалось делать? Другого выхода не было, не видел он тогда другого выхода. Теперь надо было положение «исправлять», чтобы избежать повторного риска и не ставить под удар ни себя, ни других. И в тот же день Павел Огородников, находившийся в больнице под фамилией Бучмина, был выписан. Впрочем, выписан он был задним числом, дабы никаких улик и подозрений не оставалось.
Таня встретила его в условленном месте – за мостом, на берегу Ушайки. Сиреневые сумерки уже легли на воду, густели.
– Ну вот и хорошо, – смущенно сказала она, глядя на похудевшего и сильно изменившегося после болезни Павла. И он тоже был взволнован и смущен не меньше. Одно дело – видеться там, в больнице, на глазах у всех, и совсем другое теперь – с глазу на глаз. – Придется вам пожить некоторое время у нас… пока не поправитесь окончательно.
– Да я уже поправился.
– Нет, нет, – возразила Таня, – спешить не надо. Нужно как следует окрепнуть. Папа говорил, наверное, что выписали вас раньше срока – иначе было нельзя. Вы что же, не хотите у нас побыть? – пристально посмотрела на него, и Павел смутился еще больше:
– Нет, почему же… очень хочу! Только нельзя мне долго задерживаться… Сами понимаете.
– Понимаю, – кивнула она. – Вот окрепнете, наберетесь сил – тогда и разговор будет другой. А сейчас… Скажите, Павел, как же вы все-таки оказались в Томске? – спросила вдруг без всякого перехода. Павел ответил не сразу, видно, нелегко было даже и мысленно, памятью возвращаться к тому, что пришлось ему пережить за эти последние три-четыре недели.
– Нас привезли поначалу в Новониколаевск, – сказал он. – Несколько дней продержали в запертом вагоне – без пищи, без воды… Вонь. Жара. Никто из нас и не надеялся уже выбраться оттуда живым. Потом вагон подцепили к составу и куда-то повезли. Так вот и оказались в Томске…
– Ну, а дальше? – нетерпеливо спросила Таня, когда он умолк.
– А дальше… дальше такое, скажи кому – не поверят Да я и сам до сих пор не могу поверить. Такое случается только раз в жизни и то не с. каждым… Ну вот, – помедлив, продолжал, – отделили нас зачем-то человек тридцать и поместили в каком-то доме… Конвоиры стоят в дверях, а мы сидим вдоль стен, прямо на полу. Время идет, а мы сидим. Будто забыли про нас или решили взять на измор… Ну, я не выдержал: хоть бы, говорю, покурить дали. Сколько можно морить? Конвоир усмехается: «А до ветру не хочешь?» – И смотрит на меня с прищуром, потом с другим конвоиром переглянулся, будто о чем-то сговариваясь, и снова ко мне, пальцем подзывает. «Ладно, – говорит, – иди покури…» – И на дверь глазами показывает. Смотрю на него и не знаю – шутит он, издевается надо мной или всерьез предлагает. «Иди, иди, – подмигивает и легонько к двери подталкивает. – Иди-ка, паря, покури…»
Ну, я и вышел. Сначала в коридор – никто не останавливает. Потом на крыльцо… Тихо. Стою и не знаю, что делать дальше. Куда идти, в какую сторону? Может, вернуться, не искушать судьбу? Не вернулся. Но и уйти далеко не смог. Конечно, если бы не эта хворь, давно бы я на Алтае был, в горах, – помолчал, перевел дыхание. – Может, и Степана бы разыскал. Помните, приходил я тогда к вам, ночью… переполошил, наверно, вас и перепугал до смерти? Вот с тех пор я и не видел Степана, не смог добраться до того места, где он меня ждал… Попал в лапы карателей. Убежал. И снова попал. Оказался в бийской тюрьме, а потом и в эшелоне… А теперь вот… эта болезнь.
– Кто знает, может, эта болезнь и спасла вас, – успокоила его Таня. – Нет худа без добра.
– Может, и спасла, – согласился он. – Если бы не заболел – не оказался бы в больнице и не встретил бы вас… Это правда.
– Вот видите! – коротко улыбнулась она. – А вы жалеете… Не устали? – вдруг спросила, резко повернув разговор. – Теперь уже недалеко. Вон за тем переулком – и наш дом.
– Да я не устал, не беспокойтесь… С вами, Татьяна Николаевна, я и на край света дойду! – неловко пошутил и смутился, выказав невольно этой шуткой истинные свои чувства. Она опять улыбнулась, взглянув на него:
– А вы, оказывается, поэт.
– Какой там поэт, – вздохнул Павел. – Правду говорю. Теперь мне, Татьяна Николаевна, уже ничего не страшно. Мне теперь кажется, что я трижды с того света воротился…
– Значит, жить после этого будете долго, – сказала Таня. – Долго и хорошо.
– Согласен. Только чтоб и вы были рядом… И чтоб вам было тоже хорошо. Всегда.
Она с той же грустной улыбкой посмотрела на него:
– Господи, если бы это было возможно!..
34
Ранним июльским утром, когда огородниковский отряд находился в Шубинке, дозорные остановили при въезде в село двух мужиков на подводе. Один из них, алтаец, лет сорока, сухой и весь черный, как осенний гриб, сидя в передке и держа вожжи в руках, правил лошадью, а другой – солидный, толстоплечий бородач, восседал позади на охапке свежескошенной травы, с еще неувядшими головками клевера…
– Кто такие? Куда путь держите? – спросили дозорные. Бородач глянул из-под густых ползучих бровей и ответил важно:
– Мне к поручику Залесскому. Вот бумага сопроводительная, – дотронулся рукой до кармана, бумагу, однако, не показал. – Полковник Хмелевский самолично подписал.
Дозорные переглянулись.
– А зачем тебе к поручику?
– Стало быть, надо, коли говорю, – ответил бородач. Держался он слишком, пожалуй, смело и самоуверенно. – Ваше дело проводить, а не задавать лишних вопросов.
Дозорные снова переглянулись.
– Ладно, – сказал один из них. – Проводим тебя к поручику. – И, усевшись на телегу рядом с алтайцем, не проронившим за это время ни единого слова, легонько подтолкнул его в плечо. – Поехали.
Подле штаба, который размещался в доме Лубянкина остановились. И дозорный, велев подождать, пошел доложить. Задержался недолго. Вернулся и позвал:
– Ходи. Поручик ждет тебя…
Бородач, озираясь, вошел в дом, увидел сидевшего за столом человека, плечистого, в выгоревшей до белизны гимнастерке без погон, остановился в нерешительности – вид сидевшего за столом чем-то его насторожил.
– Проходи, чего остановился, – проговорил тот, не поднимая головы. – С каким делом пожаловал?
Бородач крякнул смущенно:
– Мне к поручику Залесскому… самолично.
– Ну, я и есть поручик… Что надо?
– Поручик, а без погон… – усомнился бородач.
– Старые износились, а новых еще не завели. Интенданты хреновые у нас. Ладно, не будем время терять. Выкладывай, что у тебя.
Бородач, поколебавшись, достал бумагу, приблизился и – делать нечего – протянул, но в какой-то миг отдернул руку, словно ожегся, однако сидевший за столом перехватил ее и положил перед собою.
– Так, – поднял голову наконец и посмотрел на стоявшего в двух шагах от него и зорко следившего за каждым его движением бородача. Тот был ни жив ни мертв.
Лицо побледнело, потом вспыхнуло так, что мочки ушей просвечивали.
– Огородников? – растерянно отступил. – А я гляжу…
– И я тоже гляжу, – с усмешкой сказал Степан. – Вот и свиделись, Илья Лукьяныч Барышев. Или не рад встрече со своим односельчанином? Та-ак, – глянул в бумагу, лежавшую перед ним, – значит, приехал получать контрибуцию с шубинских мужиков. Не менее тридцати голов скота, как тут указано, – снова глянул в бумагу. – Надеялся на поддержку поручика Залесского… Правильно я понял?
Барышев растерялся вконец:
– Полковник Хмелевский обещал возместить затраты…
– Это какие же такие затраты? – поинтересовался Огородников. – Уж не те ли, которым щедро пользовался штабс-капитан Сатунин? И чем это, скажи на милость, провинились перед тобой безменовские и шубинские мужики? – поднялся и вышел из-за стола, остановился напротив Барышева, который, поняв безвыходность своего положения, беспокойно заморгал, заюлил глазами. Огородников усмехнулся. – Удивляюсь, такой хитроумный хозяин, все небось рассчитал на десять лет вперед, а тут просчитался и так по-дурацки влип… Как же это, Илья Лукьяныч? – жестко и прямо смотрел на Барышева. – Контрибуцию приехал собирать… Мало за свою жизнь обирал, грабил, напоследок еще раз решил пройтись? Это мужики должны взять с тебя контрибуцию. За все, что перетерпели от тебя, за все свои убытки, за пролитую кровь…
– Ничьей крови я не проливал, – вскинулся Барышев, но не было в нем прежней спеси и самоуверенности.
– Врешь! – оборвал его Огородников. – А Михей Кулагин, которого насмерть забили на твоих глазах и по твоей указке? А Татьяна Николаевна, светлейшей души человек, которую по твоей же указке забрал Сатунин и надругался… Врешь, Барышев, все это на твоей совести! А мои родители, отец с матерью, сожженные заживо, – разве дело не твоих рук?…
– Отца твоего и матку я не трогал… – слабо защищался Барышев.
– Нет, Барышев, за все тебе придется ответить. За все!
– Вы что же… судить меня собираетесь?
– А ты как думал?
– Прав таких не имеете.
– Имеем. Име-ем, Илья Лукьяныч! И не только судить, но без суда и следствия – по законам военного времени…
– Это произвол.
– Считай, как хочешь. Все. Уведите арестованного! – крикнул в дверь. И постоял посреди комнаты, глядя вслед Барышеву, тяжело и медленно шагнувшему через порог.
Потом и сам вышел на крыльцо. Вздохнул глубоко, облегченно. Подошел Чеботарев, посмеивается:
– Вот это гость так гость пожаловал! А что делать с алтайцем?
– С каким алтайцем? – не понял Огородников.
– Который с Барышевым приехал, работник его новый.
– Работник? Ну, так отпустите его на все четыре, – подумав, сказал.
– А он уходить не желает. Мне, говорит, мал-мало тоже воевать за Советскую власть хочется. Бодыйка Тудуев говорит, меткий стрелок…
Огородников сошел с крыльца, остановился.
– Ну, так и зачислите его в отряд, если он сам изъявляет желание. Тем более что явился он не с пустыми руками, а на собственном коне.
– Конь-то барышевский, – хитро прищурился Чеботарев.
– Был барышевский, а теперь – Бодыйки Тудуева. Контрибуцию надо платить.
***
Отряд Огородникова, избегая прямых встреч с отборными частями полковника Хмелевского, в конце июля вышел на казачью линию. Здесь он надеялся наладить связь с другими повстанческими отрядами, которые, по слухам, действовали вблизи деревень Малый Бащелак и Сваловка. соединиться с ними, если, конечно, сваловские и малобащелакские партизаны пойдут на это – и общими усилиями попытаться взять станицу Чарышскую…
Однако случай, происшедший накануне, круто и неожиданно повернул события. Вечером, когда отряд остановился на хуторе, верстах в шести от Сваловки, прибежал посыльный боец и сбивчиво доложил:
– Товарищ командир, там лазутчиков задержали… двух мужиков и одного иностранца.
– Иностранца? – удивился и не поверил Огородников. – Откуда ему тут взяться, иностранцу?
– А хто ж его знаеть… – развел руками боец. – Поглядите сами.
Огородников, крайне заинтересованный, быстро вышел из дома, пересек ограду, густо поросшую гусиной травкой, сухой и жесткой к середине лета, и подле амбара, стоявшего в глубине двора, увидел незнакомых людей. Один из них заметно выделялся огромным ростом и прямо-таки богатырским сложением, возвышаясь над всеми остальными на целую голову, а более того одеждой своей необычной обращал на себя внимание: был он в широкополой велюровой шляпе, слегка надвинутой на лоб, в узких темно-коричневых гетрах; добротный пиджак, а точнее, френч из грубого сукна, со множеством карманов, карманчиков и всевозможных застежек выдавал в нем человека нездешнего… «И вправду иностранец, – решил Огородников. – Но откуда он взялся?» Бойцы, плотным кольцом окружавшие задержанных, увидели командира и мигом расступились, и он шагнул в образовавшийся проход, приблизился к человеку в шляпе и посмотрел на него строго – вопросительно. Тот не отвел взгляда и ничем не выказал своего беспокойства.
– Кто такой? – спросил Огородников, забыв на какое-то время об остальных задержанных. – По-русски говоришь?
Человек улыбнулся чуть приметно и, потрогав шляпу, слегка сдвинул ее со лба:
– Говорю. И довольно сносно. Во всяком случае, не хуже, чем по-английски. Вас, наверное, смущает моя экипировка?
– Экипировка ваша интересует меня меньше всего. Кто вы такой?
– Третьяк, – представился человек в шляпе и гетрах. – Иван Яковлевич Третьяк. Могу предъявить документы.
– Если можете, предъявите, – сказал Огородников и, взяв протянутую ему бумагу, развернул одну, другую, внимательно и долго изучал, вчитываясь и время от времени вскидывая глаза и взглядывая на пленного с еще большим, все возрастающим удивлением. – Вы что же… из Америки приехали на Алтай?
– Да, – подтвердил Третьяк, – из Америки.
– Ого! – присвистнул кто-то из бойцов, стоявших тут и с любопытством наблюдавших за этой сценой. – Прямым ходом, што ли?
– Пет, браток, не прямым. Добираться пришлось через Японию, Корею, Маньчжурию… Плыли в трюме китайского парохода через весь Тихий океан.
– Как же вы оказались в Америке? – спросил Огородников.
– О, это длинный рассказ! Целая одиссея…
– И долго вы там пробыли?
– Одиннадцать лет.
– Чем же вы занимались в Америке? – Огородников вертел в руках бумаги, не зная, что с ними делать, как поступить – вернуть хозяину или оставить пока при себе.
– Проще сказать, чем я не занимался, – ответил Третьяк, и лицо его сделалось озабоченно-строгим. – Первые годы работал на каменоломнях – в Скенектади. Потом слесарем на паровозостроительном заводе в Бричпорт-Кенедик. Был дворником, грузчиком, безработным… – Он усмехнулся. – Есть и такое занятие в Америке. Потом переехал в Сан-Франциско… Но это уже после того, как свершилась у нас Октябрьская революция.
– Где это… у вас?
– У нас в России, – твердо сказал Третьяк, чуть сузив глаза, и кивнул на бумаги, которые Огородников все еще держал в руках. – Или не доверяете моим документам?
– Всякие бывают документы, – уклончиво ответил Огородников, помедлил еще немного и спрятал бумаги в карман. – Ладно, поговорим после. А эти кто такие? – вспомнил о двух других задержанных, терпеливо и молча стоявших чуть в стороне.
– Это мой отец, – сказал Третьяк, повернувшись к пожилому, лет шестидесяти, человеку. – Яков Леонтьевич… А это брат Александр. Живут в станице Чарышской…
– А здесь как оказались?
– Хотели встретиться с партизанами. Понимаю ваше недоверие, но это действительно так.
– Так ли?
– Так, так, – подал голос старик. – Из Чарышской мы, из Чарышской. Хоть и жили в последнее время на пасеке…
– Понятно, – усмехнулся Огородников. – Отец и брат из Чарышской, а вы, стало быть, – глянул на Третьяка, – из Сан-Франциско? Понятно, господин… или как там у вас в Америке?
Третьяк ответил сдержанно:
– У нас там, в «Союзе русских рабочих», в котором я состоял, обращались друг к другу не как к господам, а как к товарищам. А вы принимаете меня не за того, кто я есть. Очень жаль!
– Ничего, разберемся, кто вы есть, – пообещал Огородников и отвернулся, как бы тем самым показывая, что разговор окончен. – Отведите задержанных, – приказал. – Место в амбаре найдется?
– Найдется, товарищ командир.
– Пусть отдохнут. Да накормить не забудьте, – бросил уже на ходу. Третьяк, глядя ему в спину, спросил:
– Когда же вы нас освободите?
– А вот когда возьмем Чарышскую – тогда поглядим.
Однако Чарышскую взять не удалось. И повстанцы, понеся ощутимые потери, отступили к Малому Бащелаку. Здесь и произошел случай, круто изменивший отношение к Третьяку, который все еще содержался на правах пленного. Один из бойцов сваловского отряда оказался недавним жителем станицы Чарышской, он и рассказал, увидев Третьяка: «Дак это же брательник Лександра Яковлевича, чарышского учителя, он и есть… мериканец, стало быть.
Он как приехал в станицу, так и почал собирать вокруг себя мужиков: вы, грит, ни хлеба, ни тягла не давайте колчакам. А как не дашь, коли силком берут? Станишный атаман есаул Шестаков однова упредил учителя, сам своими ушами слыхал: ты, грит, скажи своему брательнику, штоб его большевицкого духу в Чарышской не было, а не то… сам знаешь!.. Вот Иван-то Яковлевич и скрылся. А тут гляжу – под стражей. Как же это вышло, товарищи? Своего же брата – и под арест…»
Вскоре Третьяк был освобожден.
Вечером, после ужина, Огородников стоял в ограде, курил самокрутку. Сумрачно было и тихо. Стыло, как льдинки, поблескивали звезды в вышине, и приятным холодком обдавало лицо. Дверь соседнего дома в это время протяжно скрипнула, и на крыльцо вышел человек, постоял, словно в раздумчивости, спустился не спеша по ступенькам и направился прямиком, на огонек папироски… И пока он спускался с крыльца, пока шел, пересекая ограду, а затем улицу, заметно было, как он сильно прихрамывает.
– Не помешаю? – спросил густым, низким голосом. Огородников узнал Третьяка.
– А-а, это вы… Давайте, давайте, к нашему шалашу! – И поинтересовался, когда тот подошел: – Что с ногой?
– Пустяки, – ответил Третьяк. – Старая простуда, как видно, сказывается.
– Какие ж это пустяки! – возразил Огородников. – Лечить надо. Завтра покажите Бергману. – И добавил для пущей убедительности: – Фельдшер у нас хороший. Он тут одного алтайца в три дня от чирьев избавил… Как рукой сняло. Курите, – протянул кисет.
– Не балуюсь.
– Баловством считаете?
– Не баловство только то, что природой в человеке заложено, – сказал Третьяк. – Вода, пища, сон – это естественная необходимость. А курение – баловство.
– Счастливый вы человек, – улыбнулся Огородников. – А тут забота: где табаку взять, бумаги раздобыть…
– Курите трубку, – посоветовал Третьяк.
– Пробовал – вкус не тот. Да-а, – вздохнул протяжно, – значит, курение – баловство? А убивать друг друга – это в людях тоже природой заложено?
– Революции вызваны, как я думаю, не природой, а социальными неравенствами, то есть как раз тем, что чуждо и противоестественно природе…
– Понятно, – кивнул Огородников. Они помолчали, вглядываясь в темноту. – Скажите, Иван Яковлевич, а как вы все же оказались в Америке, если не секрет?
– Теперь какой секрет. А в Америку я не сразу попал. Сначала в Германию поехал, пробыл там несколько месяцев. Потом польские друзья – эмигранты помогли мне раздобыть паспорт на имя Волынского, вот с этим паспортом и отправился я за океан… Да, брат, велика земля, да порядка на ней пока еще мало, как говорил товарищ Володарский…
– Кто такой… Володарский?
– Большого ума и чистейшей совести человек. Ему я обязан очень многим. А познакомился я с ним три года назад, когда вступил в «Союз русских рабочих». Организация наша была крепкой, имела даже свою газету – «Голос труда». Газета печаталась в Нью-Йорке, а распространялась почти по всей Америке. Многие из нас, рабочих, были ее распространителями, многие сотрудничали с ней, и Володарский очень крепко помогал нам в этой работе… – Третьяк помолчал и со вздохом закончил: – Жаль, что нет уже больше этого человека. Погиб.
– В Америке?
– Нет, в России. Два года назад товарищ Володарский вернулся на родину, был активным участником Октябрьской революции. Потом возглавил в Петрограде отдел печати и пропаганды. И пропаганда эта пришлась, как видно, не по нутру эсерам, вот и решили они убрать товарища Володарского… А метод у них один – террор. Да, брат, велика земля, да порядка на ней пока еще мало…
– Ничего, наведем порядок, – сказал Огородников.
– И я так же думаю. А в чужедальние страны отправились мы не на прогулку, – как бы вернулся к изначальному разговору, – и не для того, чтобы шкуру свою спасти, а для того, чтобы сохранить и накопить силы для новой борьбы… Такая вот, брат, одиссея! – тронул Огородникова за плечо. – Родился-то я не здесь, – добавил чуть погодя, – а в белорусской деревне Ракошичи Кайдановской волости… Это потом, когда я уже был в Америке, семья наша переселилась на Алтай. Приехали искать Беловодье, – тихонько засмеялся. – Так вот и я здесь оказался.
– Понятно, – пыхнул папироской Огородников, высветив на миг лицо. – И чем же вы дальше, если не секрет, думаете заниматься?
– Занятие нынче у нас одно, – ответил Третьяк, – защищать и строить Советскую власть. А если примешь в свой отряд – будем решать эту задачу вместе.
– Давай вместе, – согласился Огородников, затянулся длинно и добавил. – Нам бы перво-наперво полковника Хмелевского разбить, а потом и за Сатунина с Кайгородовым взяться…
– А если они объединятся и ударят сообща?
– Сатунин с Кайгородовым? Никогда!
– Почему?
– Да потому, что кошка с собакой не паруются.
– Возможно, и так. Но лично я не исключал бы и этого варианта. Скажи, а как у вас налажена связь с другими партизанскими отрядами? – вдруг спросил.
– Слабо, – признался Огородников. – Действуем пока разрозненно. Да и сил маловато. А тут вот еще хлеба поспевают, и партизаны один за другим, в одиночку и целыми группами уходят. Управимся, говорят, с уборкой, тогда воротимся и опять будем воевать…
– И вы их отпускаете?
– А куда денешься? Не отпустишь – сами уйдут.
– Ну, а враги как на это смотрят? – поинтересовался Третьяк. – Полковник Хмелевский небось ждет, когда вы хлеб уберете… или не учитывает этого обстоятельства?
Огородников не забыл своего обещания. И на другой день Бергман осмотрел ногу Третьяка. Безменовский фельдшер, примкнувший к отряду весной, уже успел проявить себя с наилучшей стороны, пользуясь среди партизан большим уважением – особенно вырос его авторитет после того, как избавил он алтайца Бодыйку Тудуева от чирьев. Но когда он в три дня вылечил и буквально поставил на ноги Третьяка – то было уже чудо невероятное. Третьяк не знал, как и благодарить фельдшера. А Бергман почему-то обиделся:
– Какое чудо? Выходит, по-вашему, Иван Яковлевич, я обыкновенный шарлатан?
– Да что вы, что вы, товарищ Бергман! – воскликнул Третьяк. – Вы прежде всего – необыкновенный медик. И я, благодаря искусству и старанию вашему, снова чувствую себя хорошо.
– Ну что ж, – сказал Бергман, – стало быть, новое средство оправдало себя, и я не ошибся в нем.
– Новое средство? Что за средство? – заинтересовался и Огородников. – Выкладывайте, выкладывайте, Давид Иосифович, свои секреты: чем и как вы исцелили товарища Третьяка?
– Серебром исцелил.
– Как это… серебром? – насторожился Огородников.
– Обыкновенно. Хотя в двух словах тут не объяснишь. – Бергман извлек из кармана какой-то бумажный пакетик, наподобие крохотного конвертика, развернул его и показал. – Видите? Вот это и есть серебро, вернее сказать, костное серебро.
Огородников наклонился и, сдерживая дыхание, чтобы ненароком не сдуть с ладони фельдшера этот пепельно-серого цвета порошок, с интересом разглядывал его, не находя, впрочем, ничего в нем особенного.
– Костное серебро… что это такое? И где вы его раздобыли, в каких аптеках? Товарищ Бергман, не делайте из этого секрета! Как командир я должен знать все.
– Всего знать никому не дано, – улыбнулся Третьяк. – Наука всегда была загадкой, особенно для нас, людей простых смертных. Надо полагать, и нынешний случай непростой.
– Да нет, – с искренним простодушием возразил Бергман, – способ лечения серебром как раз очень простой. Хотя в двух словах и не объяснишь. Может, помните, Степан Петрович, – повернулся к Огородникову, – безменовские бабы называли меня куриным палачом?
– Нет, не помню.
– А я помню! – подал голос Чеботарев и, вышагнув из-за чьих-то спин, приблизился, несколько смущенный тем, что так неожиданно и непрошено вмешался в разговор. – А я помню, Давид Иосифович, за что вам дали это прозвище, – глянул с усмешкой на фельдшера. – Куры у вас были все до единой хромые. И слух по деревне прошел, будто вы их сами калечите…
– Верно, – подтвердил Бергман. – Слух соответствовал истине.
– То есть как соответствовал? – удивился Третьяк. – Вы что же, ноги им ломали?
– Приходилось.
– Да зачем же? Кур-то зачем вы увечили? Бергман вздохнул, подумал и сказал:
– Во имя науки, Иван Яковлевич. Третьяк засмеялся:
– Выходит, гуси в свое время Рим спасли, а куры спасли меня?
– Вот именно! – живо и радостно подтвердил Бергман. – И спасут, избавят от недуга не одного еще человека. Тут ведь загадки никакой, – пояснил он. – Когда сломанная нога у курицы начинает срастаться, подкармливаешь курицу серебряным порошком, который, во-первых, чудесным образом способствует срастанию, а во-вторых, образует на месте срастания хрящеобразный бугорок… Ну так вот: после того как курицу забьют, «бугорок» этот срезается и тщательно перемалывается. Так вот и получается костное серебро…
– И все? – удивился Огородников. – Но как вы додумались до этого, товарищ Бергман?
– Додумался не я, способ лечения серебром существовал с давних времен, потом был забыт. А я вот вспомнил… вот и вся моя заслуга.
– Нет, вы посмотрите, и он еще пытается умалить свои заслуги! – воскликнул Огородников и весело посмотрел на Третьяка, потом снова на фельдшера. – Товарищ Бергман, объявляю вам благодарность за ваш чудодейственный порошок… и за отличную службу революции.
***
В середине августа командиры повстанческих отрядов, действовавших в районе Казачьей линии, собрались в Малом Бащелаке на первое совместное совещание. Вопрос был один: усиление и расширение партизанского фронта. Но как это сделать, с чего начинать – толком не знали. И причину последних своих неудач видели в одном: малочисленность отрядов, слабое вооружение партизан.
Разговор получился горячий, нервный. Одни предлагали выжидать. Другие не соглашались: «Промедление нынче смерти подобно». Что же делать? – спрашивали друг друга, не находя ответа, и этот вопрос как бы повисал в воздухе.
Третьяк был приглашен на совещание в качестве «вольнослушателя», как он в шутку заметил, но слушателем он оказался внимательным и серьезным. И чем больше он слушал выступления и споры командиров, тем больше убеждался в том, что выхода из создавшегося положения они не видят, не находят и, по всей вероятности, так и разойдутся, ни до чего не договорившись и не приняв никакого решения.
Тогда Третьяк попросил слова.







