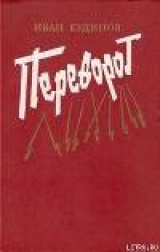
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
– Ну вот и встретились опять! – сказал Степан. – Неймется тебе, подъесаул, никак не можешь смириться с тем, что к старому нет и не будет возврата.
– Время покажет, – усмехнулся Кайгородов, и две косые складки на его щеках, от раскрыльев носа к подбородку, как два сабельных шрама, густо побагровели. – Время все поставит на свои места… Все и всех.
– Поставит, – кивнул Огородников. – Только вот люди, которых ты погубил, господин подъесаул, уже никогда не встанут. Так что придется тебе отвечать по всей строгости революционного закона.
– Революция – это беззаконие. Как же вы собираетесь нас судить?
– Можешь не сомневаться, получишь по справедливости.
– Я маленькая сошка и выполняю свой долг, как совесть подсказывает…
– Всякая сошка свою борозду прокладывает. А насчет твоего долга – разберемся. Посмотрим, кому и сколько ты задолжал…
14
На другой день после мыютинских событий состоялся разговор по прямому проводу между заместителем председателя Барнаульского губсовета Казаковым и председателем Каракорум-Алтайской управы Гуркиным.
– Что у вас происходит? – спросил Казаков. – Чем вызваны эксцессы на Алтае?
– Отряды Бийского совдепа продолжают бесчинствовать, – ответил Гуркин. – Везде, куда они приходят, начинаются насилия и грабежи.
– Какие грабежи? – усомнился Казаков. – Кстати, Шатилов, бывший министр Временного сибирского правительства и нынешний член вашей управы, где сейчас находится? Есть сведения, что он в Улале.
– Это неверные сведения. Нет Шатилова в Улале.
– А господин Анучин, вдохновитель и организатор Каракорума, не там ли сейчас?
– Анучина тоже нет.
– Понятно. Неделю назад в Березовке и Шубинке в результате спровоцированного конфликта было убито несколько красногвардейцев…
– Двое было убито, – уточнил Гуркин. – И трое взято в плен. Только по счастливой случайности с нашей стороны жертв не было.
– Поздравляю. А что произошло в Мыюте? Нам стало известно, что жертвы там были с обеих сторон.
– Да. Кажется, были.
– А не кажется вам, что это слишком далеко зашло?
– Мы не раз предупреждали Бийский совдеп, требовали не посылать в пределы округа свои летучие отряды, но к нашим требованиям Бийск не прислушивался.
– Сколько ваших людей участвовало в этой операции?
– Около ста человек.
– У нас есть сведения, что больше трехсот.
– Нет, около ста человек. Может, туда пришли еще какие-то люди… Не знаю.
– А как они вооружены, ваши гвардейцы? Нам известно, что, кроме винтовок, есть у вас пулеметы и даже артиллерия.
– Артиллерия – что это такое? Нет у нас никакой артиллерии. Гвардейцы вооружены винтовками, дробовиками, вилами…
– Понятно. А против кого они воюют, ваши гвардейцы? И в чьих интересах, кому это выгодно – разжигать вражду, сеять рознь, между русским и инородческим населением? Разве у них не один общий враг – недобитая контра, буржуазия?
– Наши отряды состоят из беднейшего населения.
– Вот это и обидно, – сказал Казаков. – Политический авантюризм тем и опасен, что вводит людей в заблуждение.
– Какие меры будут приняты? – спросил Гуркин.
– Самые решительные. Сегодня в Мыюту выезжает следственная комиссия. Есть еще вопросы?
– Пусть Бийск не вмешивается в дела округа. И не вторгается в его пределы…
– А как же защищать Советскую власть в Горном Алтае от контрреволюции?
– Каракорум-Алтайская управа не отделяет себя от Советской власти.
– Пока это только слова. А на деле совсем другое…
***
После разговора с Барнаулом Гуркин вернулся в управу мрачный и подавленный, прошел в свой кабинет, сел за стол, облокотившись и подперев ладонями подбородок. «А на деле совсем другое, – вспомнил и мысленно повторил слова Казакова, брошенные в конце разговора. – А на деле… Весна-а! – вдруг подумал, глядя в окно, и глубоко вздохнул. – Сейчас в горах цветет белая ветреница – кандышная мать… Или уже отцвела? Как время бежит!..»
Он так ушел в себя, что не заметил вошедшего следом Донца. А тот не спешил напоминать о себе, молча и выжидательно поглядывал на Гуркина со стороны. «Опять он впал в ипохондрию, – думал доктор. – И вывести его из этого состояния нелегко. Беда в том, что занимается он не своим делом…»
Тем временем Гуркин, словно в подтверждение этой мысли, взял карандаш, придвинул к себе лист бумаги, скользнув взглядом по тексту, перевернул чистой стороной и, коротко взглядывая в окно, несколькими штрихами набросал рисунок… Неожиданно, будто спохватившись, прервал это занятие, положил карандаш, резко отодвинул бумагу, перевернув ее рисунком вниз, и только сейчас заметил Донца.
– Не помешаю? – спросил доктор. Взял со стола рисунок и долго его рассматривал. – Завидую я вам, Григорий Иванович, вашему дару, умению так топко схватывать и переносить на бумагу…
Гуркин усмехнулся:
– Умение, Владимир Маркович, это не талант, а ремесло. И рисовать сходно – достоинство не великое.
– Но я имею в виду ваш талант.
– А-а! – поморщился и махнул рукой Гуркин. – Не тратьте слов попусту, прошу вас.
– Почему же? Факт общеизвестный.
– Общеизвестный… – задумчиво и недовольно повторил. – А известно ли вам, доктор, что за последние полтора года художник Гуркин не написал ни одного приличного этюда?
– Мне это известно. Но это ни о чем не говорит.
– Это, милейший Владимир Маркович, говорит о том, что выше «Хан-Алтая» мне уже не подняться. А впрочем, и этой вершины не достичь…
– Не могу с вами согласиться. Просто вы сегодня не в духе, потому и видится вам все в черном цвете. Это пройдет, поверьте, говорю вам как доктор. И хочу дать вам один совет… – пристально смотрел на Гуркина. – Вам, Григорий Иванович, надо изменить нынешний свой распорядок. Да, да, решительно перестроить. Вы художник и вам необходимо иметь хотя бы один свободный день в неделю, чтобы заниматься живописью. Ибо от этого во многом зависит состояние вашего духа…
– Ладно, ладно, оставьте вы это… – прервал его Гуркин. – О состоянии своего духа я сам позабочусь. А может, Владимир Маркович, вы заинтересованы в том, – глянул в упор, – чтобы художник Гуркин отдалился от основных дел в управе и не мешал вершить их другим?…
Донец выпрямился, как бы отшатнувшись, и слегка покраснел:
– Это вы зря, Григорий Иванович… Ничего, кроме добра, я вам не желаю. Это вы зря… – не на шутку обиделся.
– Ладно, ладно, – смягчился Гуркин. – Давайте впредь не возвращаться к этому.
Гуркину казалось иногда, что доктор слишком злоупотребляет своим положением и ходит за ним неотступно, как тень, избавиться от которой, как бы она тебе ни мешала, невозможно. Впрочем, в последнее время доктор Донец, кроме прямых своих обязанностей по здравоохранению, исполнял еще и обязанности секретаря управы и оказывал на Гуркина немалое влияние. Поговаривали, что доктор Донец обладает гипнозом и тем самым подчиняет себе Гуркина, диктуя свою волю. Причем делал он это столь умело и с таким тактом, что создавалась видимость, будто последнее слово принадлежит Гуркину. Иногда так и было. Но случалось, что Гуркин проявлял невиданное упорство – и тогда даже доктор Донец со своим гипнозом оказывался бессильным. Вот и сегодня Гуркин выказал характер. Поводом послужила бумага, которую принес на подпись подполковник Катаев. Гуркин взял в руки отпечатанный на машинке текст:
– Что это?
– Обращение к населению Горного Алтая, – ответил подполковник. Гуркин внимательно и долго читал. Донец подошел ближе и, заглядывая через его плечо, быстро пробежал по тексту: «Всем волостным и сельским комитетам! Всем гражданам Горного Алтая! Доводим до вашего сведения, что в пределы округа вновь вошла банда грабителей и насильников, которая действует с благословения Бийского совдепа. Военный отдел Каракорум-Алтайской управы призывает всех, кто может держать в руках оружие, встать на защиту дорогого Алтая. Имеющим оружие и лошадей надлежит безотлагательно явиться в Улалу. Не имеющим таковые немедленно будут предоставлены…»
– Где ж вы наберете столько лошадей? – спросил Гуркин, словно в этом и заключалось главное.
– Аргымай обещал дать. За лошадьми, Григорий Иванович, дело не станет.
– А почему обращение написано от имени военного отдела?
– Это можно поправить.
Гуркин, кажется, не расслышал последних слов, и довод этот как бы остался втуне, не возымев действия.
– Нет, – сказал он, помедлив, – это обращение я не подпишу.
– Но почему? – несколько растерянно спросил подполковник и повернулся к Донцу, как бы ища у него поддержки. Донец, однако, остался безучастным – то ли момент выжидал, не чувствуя себя готовым к активному вмешательству, то ли не хотел преждевременно вмешиваться, чтобы не испортить дела.
– Я не хочу напрасного кровопролития, – сказал Гуркин.
– Но как же иначе? Отношения с Бийским совдепом крайне обострены.
– А вы решили обострить их еще больше?
– Не мы, Григорий Иванович, а совдеповцы всячески усложняют эти отношения. Разве события в Мыюте не подтверждают этого?
Гуркин хмуро смотрел куда-то в сторону.
– Идти на поводу у военного отдела я не намерен.
Сказано это было резко, пожалуй, даже грубо. Подполковник вспыхнул и едва сдержался, чтобы не ответить такой же грубостью, однако вовремя спохватился.
– Простите, Григорий Иванович, но речь идет о защите интересов алтайского народа, и я не вижу другой возможности защитить эти интересы.
– Ну, коли не видите, стало быть, и не знаете, как их защитить. Тогда и поспешность ваша неуместна.
– Мне, как военспецу, тактика и стратегия борьбы давно ясна… Скажу одно: всякая нерешительность в нынешней обстановке чревата опасными последствиями.
– Тактика и стратегия у нас одна, – холодно возразил Гуркин. – Там, где можно избежать кровопролития, надо его избегать.
– Каким же образом намерены вы отстаивать автономию Горного Алтая? И как в таком случае прикажете понимать лозунг: «Алтай – для алтайцев!» Лично я вижу в этом идею борьбы.
– Идея борьбы, Всеволод Львович, не в том, чтобы к месту и не к месту размахивать дубинкой, – вмешался Донец.
– Но и не в том, чтобы сидеть сложа руки. Такая идея мне непонятна.
– Правильно. Правильно! – энергично повторил Донец. – Сидеть сложа руки обстановка не позволит. Однако ж и тактика, о которой изволили вы заговорить, должна быть разумной. Тут я полностью согласен с Григорием Ивановичем. А у вас что? Что это за формулировки? – взял со стола обращение, подержал на ладони, точно взвешивая. – Не слова, а булыжные камни.
– Простите, но я не писарь, а офицер. И слова подбирать – не по моей части. Возможно, и есть там какие-то неточности. Вполне возможно, – согласился. – Только сегодня не формулировки важны, а действия. Действия, господа! – вырвалось непроизвольно. – Честь имею.
Он шагнул к двери, но не вышел, круто повернулся и посмотрел на Гуркина:
– Мне казалось, что все это в наших общих интересах, в интересах народа…
Гуркин поморщился:
– А вам не кажется, что слишком много вы говорите об интересах народа? Смею вас заверить: мне интересы моего народа понятны и дороги не меньше, чем вам. Вот из этих интересов, уверяю вас, Всеволод Львович, – глянул на подполковника, – и, Владимир Маркович, – перевел взгляд на доктора, – и вытекает моя позиция: избегать напрасного кровопролития.
– Это невозможно! Война без кровопролития не бывает.
– О какой войне вы говорите?
– Говорю о войне, которая только начинается. И война эта будет не на жизнь, а на смерть, – сказал подполковник. – А как же иначе расценить мыютинские события? – уже в который раз говорил он об этом. – Совдеповцы не считаются с вашими национальными интересами. Так что же делать: ждать? Чего?
– Только что я разговаривал по прямому проводу с Барнаулом, просил губсовет принять срочные меры.
Подполковник усмехнулся:
– И что губсовет… обещал помочь? В какой форме?
– Завтра в Мыюту прибудет комиссия.
– И вы уверены, что эта комиссия не оправдает действий Бийского совдепа?
– Завтра я сам поеду в Мыюту.
– Вы? – удивился Донец – А вот этого делать, Григорий Иванович, ни в коем случае нельзя. Риск совершенно неоправданный. А если такая необходимость есть, ехать должен кто-то другой.
– Нет, поеду я сам.
И как потом ни пытались отговорить его, Гуркин остался непреклонным и решения своего не изменил.
15
Зыбкие полосы света просачивались сквозь щели неровных досок, студено розовело небо над вершинами гор, отчетливо видных в проеме сенника. А снизу, от настывшей за ночь земли, тянуло прохладой и пахло дегтем. Огородников поднялся, с хрустом потянувшись, и подошел к проему. Базлали петухи во всех концах деревни. Всхрапывали кони, привязанные к городьбе. Несколько бойцов смазывали втулки колес и оси телег, о чем-то негромко переговариваясь. Как будто ничего не случилось, а все вчерашнее – кошмарный сон. И утро такое тихое и ясное, что, кажется, в самой изначальности его нет ничего, кроме добра и света… «Откуда же тогда берется зло и неправда, если сама природа этому противится?» – думает Огородников.
И эта мысль еще не раз придет к нему, особенно в те минуты, когда прибывшая комиссия начнет выяснение причин, вызвавших вооруженное столкновение… Огородникову эти причины ясны – и он считает свое участие в работе комиссии лишь формальной необходимостью. Раз надо – значит, надо.
Комиссия состоит из трех человек, прибывших из Барнаула, и заседает в небольшой комнате волостного Совета, председатель которого Савелий Мыльников, освобожденный из-под ареста каракорумцев, находится здесь же, сидит, как гость, в сторонке и без конца смолит самокрутки, прикуривая одну от другой… Глаза у него красные, с набрякшими веками, вид усталый, подавленный, и говорит он тихим усталым голосом:
– Никаких противозаконных действий, о чем докладывал тут подъесаул Кайгородов, мы не совершали…
– Кайгородов не докладывал, а давал показания, – мягко поправляет председатель комиссии, член губисполкома Фадеев, бритоголовый, добродушного вида человек. – Мы хотим понять, Савелий Акимыч, причину возникшего конфликта.
– А это, товарищ, Фадеев, не просто конфликт, – вставляет Огородников, – а непримиримая борьба с врагами революции.
Фадеев коротко взглядывает на него и коротко кивает:
– Да, да, конфликт не простой.
Тут же еще два представителя Барнаула: инструктор губсовета Лапердин, худощавый, резкий, несколько даже нетерпеливый и горячий человек, о таких говорят – рубит сплеча; и следователь губревтрибунала Линник, напротив, спокойный, сдержанный, таким, вероятно, и полагается быть судебному следователю. Голос у него ровный, твердый, каждое слово будто взвешено и вымерено семь раз. И хотя формально комиссию возглавляет Фадеев, фактически все дело ведет Линник. Он и сидит за председательским столом, невозмутимо-строгий, в полувоенном френче; очки в металлической оправе придают ему вид некоторой загадочности и даже недоступности. Изредка он снимает очки и тщательно протирает носовым платком, и тогда в строгом и бледном его лице, как бы обезоруженном, проглядывает какая-то детская беззащитность. Очки как бы дополняют его характер.
– Скажите, товарищ Мыльников, – обернулся он к мыютинскому председателю, – каким образом вас арестовали? И какие при этом были предъявлены обвинения?
– А никаких, – вздохнул Мыльников. – Кончилась, говорят, ваша власть, освободите место. И поставили председателем Арюкова, он у них всегда на подхвате…
– Кто это заявил – о перемене власти?
– Кайгородов. Ну и без Короткова, этого кровососа, конечно, не обошлось.
– Понятно, – Линник снял очки, протер и снова надел. – Давайте послушаем Короткова. Пусть войдет.
– Короткое! – позвал стоящий у входа красногвардеец. – Кто тут Коротков? Входи.
Коротков не вошел, а как-то боком протиснулся в дверь и боком же встал поодаль, то ли не решаясь, то ли не желая подходить ближе, сцепив на животе большие пухловатые руки.
– Прошу садиться, – пригласил Линник. Короткое поколебался несколько, прошел все же и сел на табуретку боком к столу, оказавшись таким образом лицом не к следователю, а к Мыльникову, что, как видно, ему не понравилось и он, развернувшись, сел прямо.
– Скажите, гражданин Короткое, – спросил следователь, – каковы отношения были у вас до прихода каракорумцев с местным Советом?
– Это с Мыльниковым, што ли? – покосился тот на мыютинского председателя и, усмехнувшись, покашлял в кулак.
– Разве я не ясно задаю вопрос? Не с Мыльниковым, а с мыютинским Советом, – уточнил Линник.
– А никаких, – вскинул голову Коротков. – Потому как я еще в марте отписался к Каракорумскому округу. А Мыльников, стало быть, не признавал этого и требовал с меня налоги.
– И вы платили?
– А куда денешься, если грозят арестом.
– И какая сумма была внесена?
– Три тыщи семьсот двадцать пять рублей и тридцать копеек.
– Смотри, какая точность! – удивился Лапердин. И поинтересовался: – Считаешь, несправедливо тебя обложили?
Коротков покосился на Лапердина, точно но голосу и внешнему виду пытаясь определить, какое он тут положение занимает, этот человек, и сдержанно покашлял в кулак:
– А то справедливо? Они у меня, деньги-то, не на грядках растут…
– Моя воля, я бы с тебя не три тыщи, а все десять сдернул, – не выдержал Мыльников.
– Известное дело, сдернул бы, – насмешливо-зло согласился Коротков. – Своего нет, дак хоть чужим поживиться…
– Гражданин Коротков! – прервал его Линник. – Говорите по существу. Обложение было сделано исходя из реальных ваших доходов, и никаких нарушений я здесь не вижу.
– Две шкуры с одного вола не дерут.
– Говорите яснее.
– Ясно и говорю: отписался я к округу стало быть, и все повинности должен отбывать там, а не в совдепии…
– Поглядите на него, какой умник – вскинулся опять Мыльников. – Да ты не две, а три шкуры дерешь с мужиков, живодер проклятый!
– Товарищ Мыльников, – постучал согнутыми пальцами по столу Линник, – прошу без эмоций… по существу.
– А это и есть по существу, – повернулся к следователю Мыльников. – Он знаете, что удумал нынешний весной, этот живодер? Кончилась в потребительской лавке соль, вот он и воспользовался этим, а иначе сказать, решил руки на этом погреть… И погрел… Снарядил подводы и привез из села Алтайского без малого сорок пудов соли. Там по тринадцать рублей за пуд платил, а в Мыюте продавал по сорок. Во как!
– То есть втридорога? – напомнил о себе Фадеев. – Гражданин Коротков, вы не отрицаете этот факт?
– Отрицаю! Они думают, соль досталась мне даром. А я подводы гонял туда-сюда, лошадей маял, сколько труда положил…
– А сколько барыша положил в карман? – усмехнулся Мыльников. – Керосин по восемь рублей фунт продавал. Совести у тебя нет.
– За керосин мужики меня благодарили, – не сдавался Коротков. – Потребиловка ваша пустыми полками мужиков-то привечала, а у меня завсегда можно было разжиться…
– Разжился ты, а не мужики. А когда прижали тебя немножко, тут ты и кинулся отписываться в округ.
– Не я один кинулся.
– Знамо, не ты один.
– Вы свободны, гражданин Коротков, – вдруг объявил Линник, как бы пресекая ненужные препирательства. И видя, что тот медлит в нерешительности, добавил: – Пока свободны. Когда понадобитесь, пригласим.
Потом один за другим входили мужики, опасливо озираясь. Говорили разное. Одни жаловались на Кайгородова, который вместе с новым председателем Арюковым кого силой, а кого обманом заставили отписаться в Каракорум: угостят водкой или бражки ковш поднесут, а после той бражки хочь што подпишешь.
– И многие расписывались таким образом? – спросил Фадеев.
– Дак по глупости и спьяну, товарищ комиссар, – виновато опускали глаза мужики. – Разве ж то законно?
– Голову на плечах надо иметь, – подсказал Лапердин.
Другие высказывали недовольство: отродясь такого не бывало, чтобы в одном селе – две власти. А теперь выходит: половина села к совдепу, а другая – к Каракорумскому округу. Разве ж то дело?
– Советская власть одна, – сказал Фадеев. – Вот перед ней и держите ответ.
Потом явился старик Евтифеев, по-петушиному задиристый, в цветастой ситцевой рубахе и латаных-перелатаных холщовых портках, вправленных в какие-то немыслимые опорки; картуз лихо заломлен, от лакированного козырька остался лишь уголок, что и придавало старику комически-ухарский, петушиный вид. Держался он без робости, вызывающе даже. Сел на табуретку, поставив меж колен кривой березовый батог, достал табакерку, взял из нее щепоть табаку и, задрав голову, шумно втянул сначала одной ноздрей, потом другой, замер в такой позе, словно к чему-то прислушиваясь, и громко чихнул. Потом еще… Нюхательный табак у него, по всему видать, был крепкий.
Огородников посмотрел на Фадеева, Фадеев, посмеиваясь, на Линника, тот пожал плечами: ничего, мол, не поделаешь, придется подождать. Наконец, старик Евтифеев ссыпал в табакерку с ладони остатки табака, спрятал табакерку и обвел взглядом находившихся тут людей.
– И хто ж у вас будет за старшого?
– Говорите, мы вас слушаем, – сказал Фадеев, как бы тем самым дав понять, что старшим по положению является тут он, член губсовета, к нему и следует обращаться по всем главным вопросам. – Что вы хотели нам сообщить?
– Жалобиться я пришел, – заявил старик.
– На кого жаловаться?
– А на Ваську Гилёева, коий сбёг третьеводни, – ответил старик и, поморщившись, еще раз запоздало чихнул.
– Будь здоров! – пожелал ему Фадеев. – И за что ты решил жаловаться на Гилева, чем он тебе досадил?
– Изгалялся он, Васька-то, над людьми, – старик опять поморщился, губы его задрожали, покривился рот, но на этот раз он сдержался, не чихнул, только посопел, раздувая ноздри. – Изгалялся как есть, – глубоко вздохнул. – Бегал по деревне с берданкой и всем грозил: вы, грит, раньше перед кем на дыбочках ходили? Перед исправником да приставом. А нонеча слухайте меня. А не будете, грит, слухать, засажу в каталажку и будете у меня как миленькие сидеть! – Старик опять вздохнул. – Выходит, нонеча тот и начальник, у кого оружие в руках?
– Нет, – возразил Фадеев, – это неверно. Для того мы и приехали, чтобы установить правду. Ну, а вас лично чем он ущемлял, этот Гилев?
– Помереть не дал.
– Как помереть?
– А так, дышал я, прости господи, уже на ладан, лежал безо всяких движениев – так скрутило… Чую, каюк! Призвал старуху: кликай, грю, батюшку, срок, одначе, приспел… Ну, стало быть, батюшка и явился вскорости, исповедал меня, соборовал. Лежу я на лавке, под божницей, свечки горят, петухи под окном кукарекают, а я, стало быть, лежу и жду своего часа… Дождался, распротудыт-твою в аршин!.. – выдохнул шумно и глаза его увлажнились, так, должно быть, тронул его собственный рассказ. – Думал, явилась карга, а приперся Васька Гилев. И прямешенько ко мне: вставай, грит, старый хрыч! А как я встану, ежли соборовался уже и жду своего часа? А он бердану из руки в руку перекинул, будто на артикулах, и штыком, штыком в меня целит… Это как, грит, помирать, ежли ты с обложеньем ишшо не ращитался? А ну, грит, вставай такой-растакой, а не то я, грит, оружие применю. И ну чикать у меня перед носом, порох я почуял, ну и вскочил…
– А зачем вскочил-то? – насмешливо поинтересовался Огородников. – Тебе ж все равно помирать – вот и помирал бы…
– Дык я ж своей смертью хотел, а он меня, Васька-то Гилев, за шиворот да из избы, да ишшо вдогонку штыком… Веришь, нет ли, а я три дня дык ни сесть, ни лечь – во как угостил, супостат, распротудыт-твою…
– А не брешешь про штык-то? – спросил Лапердин.
– Чего мне брехать, чать, я не пес брехливый.
– Когда это было?
– Дык ден семь тому, почитай, неделя.
– А ну снимай, – потребовал Лапердин.
– Кого сымать? – не понял старик.
– Портки. Будем смотреть колотые твои раны. И если все так и есть, как ты говоришь, не поздоровится Гилеву.
Старик заколебался, с опаской поглядывая на Лапердина. Тот был серьезен.
– Дык чего их глядеть… затянуло, поди, чать, и следов никаких. Чего глядеть? Вона латка на заду, старуха зачинила… – И он привстал, показывая эту латку. Все дружно засмеялись. Даже, Линник, невозмутимо сидевший за столом, не удержался от улыбки.
– Какая латка-то, какая латка? – сквозь смех спрашивал Лапердин. – Там у тебя этих латок дюжина… Да тебе благодарить надо красногвардейца Гилева, который спас тебя, можно сказать, от смерти. Сам говоришь: на ладан уже дышал. А теперь вон, гляди, гоголем ходишь.
– Дык я спроть того ничего не имею.
– А против чего ты выступаешь?
– Дык обложенье ж не всем по карману. А Гилев того не берет в толк, ему лишь бы чем ни попало размахивать…
– Разберемся, – пообещал Фадеев. – А ты небось тоже к Каракоруму приписался?
Старик Евтифеев достал табакерку:
– Не, гражданин-товарищ, я сам по себе…
Днем Огородников встретил брата. И тот ему сообщил:
– Дядька Митяй подарок тебе приготовил.
– Какой подарок?
– Увидишь сам, – загадочно посмеивался Пашка. – Ну, чего там комиссия решила? – поинтересовался. – Долго вы там еще будете цацкаться с этим Кайгородовым?
– А ты чего предлагаешь?
– По мне, так и разговаривать с ним не о чем. Пашка за эти дни еще больше, кажется, раздался в плечах, возмужал, но синевы в глазах поубавилось.
– К стенке его – и баста.
– Больно горяч. Смотри мне, не разводи анархию, – предупредил. – А то не погляжу, что брат…
– Да ну вас! – махнул рукой Пашка. – Затеяли разбирательство… А чего разбираться? Все ясно.
Когда подходил к дому, где они с Селивановым квартировали, Огородников увидел Митяя Сивуху, державшего под уздцы вороного жеребца. Собравшиеся тут бойцы громко разговаривали, смеялись. Огородников остановился поодаль, молча наблюдая за этой картиной. Жеребец бил копытами землю, круто изогнув шею, атласная кожа на его спине мелко подрагивала. Митяй с трудом его удерживал.
– Это что за выездка? – спросил Огородников. – Где взяли коня?
– Леквизировали у врага Советской власти, – доложил Митяй и дружески, по-свойски подмигнул. – Это ж Кайгородова жеребец.
– Вижу. Где вы его взяли?
– Инородец один сховал, а мы обнаружили…
– Бери, командир, – сказал кто-то из собравшихся здесь бойцов. – Грех такому коню стоять без дела.
– Вот и я говорю! – обрадовался поддержке Митяй. – Добрый конь. Нехай теперь послужит революции…
«Так вот какой подарок приготовили мне», – подумал Огородников, не в силах отвести взгляда от жеребца. Представил себя на миг в седле на этом чистокровном скакуне из табунов Аргымая. И вдруг презрительно отвернулся и строго сказал:
– Отведите коня обратно. И чтоб я больше не видел такого самовольства. А повторится – пеняйте на себя.
***
Огородников спустился к реке, умылся, блаженно покрякивая и отфыркиваясь. Речка Сема делала тут крутой поворот и влетала в деревню на полном скаку, яростно вспененная и неудержимая… Степан присел на камень и долго смотрел на причудливые извивы водяных струй, как бы вытекающих одна из другой и тут же одна с другой сливающихся. Вода вспыхивала так, словно свет падал не сверху, а шел из глубины, отчего окраска воды менялась постоянно. Он пытался уловить момент этой вспышки, но глаз не успевал – и вспышка оставалась где-то за пределами постижимого, а виден был лишь отраженный свет. Тайная сила воды давно привлекала и завораживала Степана Огородникова – был ли то крохотный лесной ручеек или вот эта река, с причудливой игрой воды и света, были ли то крутые морские волны, движение которых загадочно и непредсказуемо… Природа сотворила мир по каким-то своим законам, постигнуть которые непросто. И человек, вопреки всему (а может, и не вопреки), пытается построить свой мир. Каким он будет? – думал Огородников, глядя на реку. Конечно, мир этот как таковой пока не существует. Он только зарождается – и его надо выпестовать, за него надо драться, кровью платить…
Шум реки не отвлекал Огородникова. Отвлекало что-то другое, и он никак не мог понять, откуда этот посторонний, мешающий звук. И только когда обернулся – увидел сбегавшего вниз, по склону, Михаила Чеботарева, кованые сапоги которого резко стучали, высекая из камней искры… Огородников поднялся ему навстречу. Михаил, еще не добежав до него, негромко, с придыханием сказал:
– Селиванов велел передать: гости явились.
– Какие гости?
– Гуркин приехал. И какой-то комиссар из Омска.
– Гуркин? – удивился Огородников и, ни о чем больше не спрашивая, быстро пошел вверх по склону, на ходу приводя себя в порядок, – застегнул ремни, поправил кобуру.
Селиванов огорошил его новостью.
– Приказано отвести отряд.
– Куда отвести? Кто приказал?
– Комиссар Центросибири Соболевский.
– Это который из Омска? – догадался Огородников. – Когда же он успел отдать приказ?
– Пока ты купался… Огородников шутки не принял:
– Ты что, уже разговаривал с ним?
– Да так… на ходу.
– Приказы на ходу не отдаются.
– Смотря какая обстановка…
– Ну, и какая же… по мнению Соболевского?
– Об этом он тебе сам скажет. А что это ты так активно настроен против Соболевского? Еще и в глаза его не видел…
– Не против Соболевского, а против приказов, которые он отдает на ходу… А Гуркин зачем приехал? Кайгородова вызволять?
Селиванов помедлил.
– Послушай, Степан, давай не будем делать поспешных выводов.
– Хорошо, не будем. Послушаем, что скажет комиссар Центросибири.
Увидев же комиссара, Огородников удивился и несколько даже разочаровался: приготовился к встрече с представителем солидным и важным, а перед ним стоял совсем молодой, по-юношески ладный, подтянутый человек. Хотя, как выяснилось позже, ни по возрасту своему – двадцать шесть лет, ни, тем более, по своему партийному стажу – член партии большевиков с одна тысяча девятьсот десятого, Соболевский не был юноша, а был зрелый, закаленный боец. Он улыбнулся Огородникову, протянув руку, и весело сказал:
– Так вот ты какой! А я тебя представлял несколько иначе…
– И я вас, товарищ комиссар, тоже другим представлял, – признался Огородников. И они задержали руки несколько дольше, чем полагается для рукопожатия, глядя друг другу в глаза. – Это правда, что есть приказ об отводе отряда из Мыюты? – спросил Огородников, расслабляя ладонь и не отводя взгляда. Соболевский отпустил его руку, но взгляда тоже не отвел:
– Давайте обсудим этот вопрос.
– Разве приказы обсуждаются? – язвительно прищурился Огородников. «А впрочем, – тут же подумал, – и выполняются не все. Прошлым летом вон какие грозные приказы отдавал Керенский кронштадтским морякам, а что из этого вышло? Так что поглядим по обстановке…» Вслух же прибавил: – Можно и обсудить.
И только сейчас заметил сидевшего подле окна человека, скуластое и смуглое лицо которого, с резкой и жесткой линией рта, обрамленного сверху коротко стриженными усиками, показалось ему знакомым, хотя видел он его впервые… И он тотчас догадался: Гуркин. Испытав при этом чувство некоторого замешательства – слишком уж неожиданным и рискованным был приезд председателя Каракорумуправы. На что же он надеялся? Во всяком случае, держался Гуркин спокойно и уверенно, слишком даже уверенно, как будто всем своим видом говоря, что он у себя дома и, будьте любезны, с этим считаться. «Ну что ж, – подумал Огородников глядя Гуркину прямо в лицо и как бы принимая вызов, – и мы тоже не в гостях». А вслух повторил: – Можно и обсудить.







