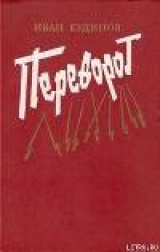
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
– Едим, да свой.
Романюта вспыхнул, будто ему кипятком в лицо плеснули, но опять сдержался и голоса не повысил:
– Своя у тебя только шкура. Куда путь держишь?
– Домой. Куда ж мне еще? В Загайново.
– Значит, в Загайново? – как бы уточнил Романюта. – А потом куда? Дальше-то, говорю, куда направишься?
– Дальше мне итить некуда, – ответил Кержак, и на бледном его лице корявины обозначились еще резче. – Дальше-то Загайнова куда мне… А вам-то чего… чего надо от меня? – вдруг взорвался, еще больше побледнев. Романюта помедлил и сказал:
– Разберемся. А теперь вставай и пошли.
– Никуда я с вами не пойду. Прав таких не имеете…
– Имеем. Имеем, Кержак.
– Да не Кержак я, не Кержак, а Самохин… Самохин моя фамилия! – выдохнул он почти шепотом, как-то враз сникая.
– Ладно, – кивнул Романюта. – Разберемся, кто ты есть – Кержак или Самохин. Пошли. Не вынуждай нас применять силу.
Солнце пробилось сквозь толщу облаков, и зыбуче-легкий, мреющий дымок пошел от мокрой, набухшей земли. Но пока добирались до штаба, препровождая беглеца, тучи опять сгрудились, и плотная сумрачная тень легла на дома и улицы. Такой неровной, изменчивой была нынче погода.
В штабе находились в это время Бачурин, Михайлов и Огородников. Романюта доложил все, как было и есть, по порядку. Кержак стоял тут же, у порога, сняв с плеча мешок, но не выпуская его из рук.
– Фамилия? – спросил Бачурин. Кержак поднял голову и посмотрел вопросительно: голос начштаба был холодно-спокойный, жесткий и ничего хорошего не предвещал.
– Самохин… моя фамилия. А Кержак – это прозвище.
– Меня прозвище твое не интересует. Что у тебя в мешке?
– Дык запасная обмундировка: гимнастерка, портянки…
– Запасливый мужик, – усмехнулся Михайлов. – Портянки не забыл прихватить. А куда собрался бежать?
– Домой… в Загайново. Делов ноне много…
– Делов теперь у тебя никаких, – загадочно и жестко, все тем же холодно-спокойным голосом сказал Бачурин и, чуть поморщившись, махнул рукой. – Уведите его с глаз. – И когда Кержак повернулся и, закинув мешок на плечо, шагнул к двери, Бачурин вдогонку ему добавил: – А мешок оставь. Запасная обмундировка тебе больше не понадобится…
Кержак обернулся и удивленно-растерянно посмотрел на Бачурина.
– Оставь, оставь, – жестко повторил начштаба. Кержак неуверенно снял с плеча мешок, привязанный веревкою за углы, и аккуратно положил на стул подле двери. Помедлил, переступая с ноги на ногу, и тихо поинтересовался:
– Чего вы со мной собираетесь делать?
– Расстреляем, – сказал Бачурин. – Чтобы другим неповадно было.
Лицо Кержака передернулось, губы слегка покривились, и он вышел, не сказав больше ни слова и не поверив словам Бачурина. Решили попугать, думал он. Старослужащие говорили, что такое уже было: в деревне Шубинке так же вот мужикам пригрозили, вывели на крутояр, будто бы расстреливать, а после всех и освободили…
Не поверил Кержак и тогда, когда его поставили перед строем и зачитали приговор. Первый взвод был выстроен с подветренной стороны кирпичного склада, за которым С высокого берега виднелась Бия и вся заречная слобода. Кержак стоял в гимнастерке без ремня, чувствуя спиной тепло нагревшихся кирпичей, от реки же тянуло прохладой, и он ощущал ее лицом и грудью, вдыхал глубоко. И думал о том, что впредь будет умнее и не полезет на рожон… «Хватит, помытарили мужика, – думал Кержак, – Теперь, слава богу, не царский режим, приневоливать. У них свое, у меня – свое…»
Стоять ему надоело, и он, переступая с ноги на ногу, нетерпеливо поглядывал на бойцов первого взвода, делавших там какие-то приготовления. Скорее бы кончали эту канитель…
Не поверил он и тогда, когда комвзвода Романюта, сделав несколько шагов вперед, громко скомандовал, выкрикнул что-то, и несколько винтовок разом вскинулись и уставились черными отверстиями стволов прямо в Кержака… Где-то совсем близко пропел петух. Тальниковой свежестью тянуло от реки. Вдруг выглянуло солнце, ослепив Кержака. Он зажмурился. И в это время грянул гром. Земля качнулась и поплыла из-под ног. «Вот это да! – удивился Кержак, испытывая странную легкость во всем теле. – Солнце и гром…»
День только начинался, было тепло и тихо. После ночного дождя трава еще не просохла, сочно и зелено блестела.
Огородников поравнялся со складом, с подветренной стороны которого стояла подвода. Четверо бойцов из первого взвода подняли и укладывали в бричку тело Кержака, делая это неловко и грубо. И кто-то, не выдержав, сердито, вполголоса выговаривал:
– Да потише, потише вы! Чать, не бревно кладете…
Огородников отвернулся и быстро пошел.
20
«Нет, нет, – мысленно рассуждал он, как бы споря с самим собой, – иного решения быть не могло. Всякое иное решение – во вред революции. Эта жестокость оправдана и неоспорима. Но почему, почему так смутно и нехорошо на душе?»
Его окликнули. Огородников повертел головой, увидел наконец человека, спешившего ему наперерез. Чередниченко… Иосиф Николаевич?
– А я тебя не узнал, – сказал Огородников, останавливаясь. – Разбогатеешь.
– Представь себе, ты не ошибся! – весело подтвердил Чередниченко. Настроение у него, видать, было хорошее, и он этого не скрывал. – Разбогател уже. Не веришь? Ладно, сейчас убедишься. Дай отдышусь немного, – лицо у него красное, распаленное, усы лихо закручены, а в глазах загадочный блеск. – Черт побери, ты себе представить не можешь, Огородников, какое богатство привалило не далее как полчаса назад…
– Какое богатство? – заинтригованно смотрел на него Огородников. – Откуда?
– Наследство получил. О-о! – воскликнул Чередниченко, коротким и быстрым движением поправляя ремни на плечах. – Представь себе: кроме винтовок и бердан, имеются теперь у нас пушки. И не одна, не две, а целых три… даже четыре! Разве это не богатство?
– Но откуда они взялись, пушки? – все еще не верил Огородников.
– Оттуда, – неопределенно взмахнул рукой Чередниченко. – Хочешь, покажу тебе свое наследство?
Они пересекли обширный пустырь, заросший бурьяном, прошли переулком и вскоре оказались на Успенской, неподалеку от рынка. Место здесь было шумное, оживленное. И рынок, несмотря на военное положение, работал вовсю. Шла бойкая торговля разноцветной пестрядью, другими всевозможными товарами… и свеженькими, горячими новостями, которые, судя по всему, пеклись прямо здесь, на рынке.
– Слыхали, граждане? Деньги с будущей недели будут отменены…
– Быть не может такого! Это же гибель – без денег. Кто их отменит?
– Говорят, совдеп вводит в оборот свои талоны. Будут выдавать только по спискам.
– По каким спискам? Чушь! Совдеп и сам уже на ладан дышит.
– Слыхали? Чехи заняли Барнаул и Алтайскую, со дня на день нагрянут в Бийск…
– Господи, что же будет?
– Сладкие леденцы… леденцы сладкие. Кому леденцы? Медовые пряники… Брошки, сережки, перламутровые пуговицы… Подходи, подешевело, расхватали, не берут!..
И совсем рядом чей-то скрипучий, вкрадчивый голос:
– Имеется в продаже русско-чешский разговорник. Карманный. На двести слов. Весьма удобный. Осталось три экземпляра. Спешите приобрести. Цена умеренная…
– Сволочи! – рванулся было на голос в толпу Степан. – И разговорник уже заготовили… Ждут.
Но Чередниченко удержал его, остановил:
– Черт с ними! Пусть. Мы им заготовим кое-что другое…
Прошли мимо полотняного навеса, подле которого толпилось особенно много людей. Маленький, юркий, как юла, китаец показывал фокусы. Извлекал из широкого, необъятного рукава халата разноцветные ленты, собирал их, сжимал ладонями, потом подбрасывал вверх – и ленты на глазах изумленной публики превращались в настоящего, живого петуха, с большим ярко-красным гребнем. Петух опустился на плечо фокусника, хлопая крыльями, и огласил рынок победно-ликующим звонким кликом… Публика восторженно гудела, аплодировала. Огородникову тоже было удивительно.
– Ты гляди, что он вытворяет!
– Ерунда, – пренебрежительно махнул рукой Чередниченко. – Я тебе сейчас не такое покажу…
Рынок остался позади. Шум, постепенно стихая, отодвинулся. Узкая аллея старого, запущенного парка вывела к подъезду небольшого двухэтажного здания, принадлежавшего некогда военной комендатуре. Чередниченко остановился и хитро глянул на Огородникова.
– Ну? – взмахнул рукой, подражая рыночному фокуснику, ремни на плечах его туго натянулись и скрипнули. И Огородников, проследив за движением его руки, увидел прямо перед собой, шагах в десяти, черное жерло пушки… Глазам не поверил! Шагнул вперед, наклонился и потрогал рукой, словно желая удостовериться в натуральности этой пушки, провел пальцами по шероховатой, местами выщербленной поверхности ствола, ощущая твердость и теплоту нагревшегося на солнце металла.
– Ну? – повторил Чередниченко, посмеиваясь. – Убедился? Это тебе не путух из рукава, а пушка… И не одна. Вон погляди.
И Огородников увидел еще одну и еще – стволы покоились на каменных основаниях, наполовину вросших в землю, густо затянутых травой, трава торчала даже из самих стволов…
– Ну? – в третий раз спросил Чередниченко. – Полезные ископаемые! То-то и оно.
– Но это же только стволы… Как ты из них стрелять собираешься?
– Очень просто. Установим на привода молотильных машин, – пояснил Чередниченко. – Будут разворачиваться по всей окружности… Как башенные орудия на корабле. Все уже продумано.
– А снаряды?
– Зачем они?
– Как зачем? Не солью ж ты стрелять собираешься.
– Заготовим мешочки с порохом… Будут действовать по принципу запалов.
– Но чем ты все-таки стрелять собираешься?
– Железом.
– Каким железом?
– Обыкновенным. Соберем всякий лом, нарубим картечи… Представляешь, какого шуму наделаем!
Огородников, однако, не очень ясно себе представлял, как все это будет выглядеть на деле. Хотя сама по себе идея бывшего артиллерийского прапорщика – установить стволы старых, музейных можно сказать, пушек на привода молотильных машин – показалась ему забавной. Да и не только ему так показалось. Когда Чередниченко изложил свой план в штабе, Двойных и Михайлов горячо его поддержали:
– Правильно! Поставим пушки за городом, на бугре, и будем держать на прицеле железную дорогу, подступы к станции… Это ж какое подспорье! – Захар Яковлевич взглянул на Бачурина, сидевшего молча. – А как считает начштаба?
– Бутафория, конечно, – помедлив, сказал Бачурин. – Но делу не повредит. Можно попробовать.
Между тем положение осложнялось. Наскоро сформированные, необученные и плохо вооруженные красногвардейские отряды отправлялись под Черепаново, где уже стояли барнаульские боевые дружины. А со стороны Бердска, по железной дороге, двигался на них, ощетинившись орудийными стволами, чехословацкий бронепоезд. Надо было встретить и дать ему отпор.
И в горах зашевелились опять всевозможные недобитки – каракорумцы в Улале, а в Онгудае объявился какой-то летучий отряд штабс-капитана Сатунина… Кто он, этот Сатунин откуда – пока было неизвестно.
В начале июня он сам дал о себе знать – связался с Бийском по прямому проводу:
– Даю вам сутки на размышление.
– По поводу чего размышлять? – спросил Двойных.
– По поводу вашего краха. Ждете гостей? А это не гости, хозяева возвращаются…
– Ну что ж, – ответил Двойных, – встретим «хозяев» хорошим оркестром… Есть еще вопросы?
– Полномочия ваши, граждане большевики, истекают. Советую загодя перекрасить флаги.
– И в какой же цвет?
– Конечно, в белый. Другого цвета не признаем.
– Ошибаешься, штабс-капитан, насчет цвета, – как бы подвел черту Двойных. – Мы не для того революцию делали, чтобы в трудный час мерзавцам сдаваться.
21
Ранним утром, по холодку, «артиллерию» Чередниченко погрузили на платформу, и поезд, в котором ехал и отряд Степана Огородникова, добившегося наконец отправки на фронт, двинулся в сторону Новониколаевска, оставляя позади одну за другой знакомые станции – Уткуль, Загайново, Алтайская, Повалиха, Тальменка… Поезд шел без задержек и к вечеру, еще засветло, прибыл в Черепаново.
Здесь его встретил командующий Алтайским фронтом Иванов, невысокий, медлительный человек, с тяжелым квадратным подбородком. Огородников узнал его тотчас, как только увидел – недели две назад Иванов приезжал в Бийск по заданию губревкома; и он тоже, как видно, узнал Огородникова, но никак этого не выказал. Поздоровался сухо, официально. Спросил, какова численность отряда, как и чем вооружены. И несколько повеселел, оживился, узнав о том, что бийчане прибыли со своей «артиллерией».
– Это хорошо! Пушек у нас нет.
Однако никаких распоряжений с его стороны не последовало. Да и фронта как такового здесь, в Черепаново, по существу не было. Степан удивился:
– А мы считали, что чехословаки уже на подступах к Черепанову…
– Нет, чехословаки находятся пока за Евсиным, – пояснил командующий. – Дней пять уже стоим и ждем…
– Стоим и в ус не дуем, – едко заметил высокий, крест-накрест перетянутый ремнями человек. И подал Степану руку, представился: – Долгих Иван. Командир сводного барнаульского отряда.
– И никаких действий за пять дней? – не мог скрыть удивления Огородников.
– Если не считать сторожевого охранения, – ответил Долгих. Командующий недовольно покосился на него, лениво повернув голову, и слегка покраснел:
– Зря вводишь в заблуждение. Люди только что прибыли и мало осведомлены о действительной обстановке…
– А это и есть действительная обстановка.
– Штаб разработал детальный план обороны…
– Почему только обороны?
– А вы собираетесь наступать? – спросил командующий, нахмурился и добавил, как бы оправдывая бестактность своего вопроса: – Нам неизвестны силы противника, – обращался теперь не столько к Долгих, сколько к Огородникову. – Атаковать же вслепую – по меньшей мере неразумно.
– А выжидать? – возразил Долгих. – Сидеть и ждать, когда противник сосредоточится и обрушит все свои силы, какой в этом смысл?
Видимо, разговор на эту тему у них был не первый. Иванов не ответил, круто повернулся и пошел по перрону в сторону вокзала.
– Товарищ командующий! – догнал его и зашагал рядом Огородников. – Какие же будут распоряжения? Что нам делать?
Иван как будто не слышал вопроса, шел молча, не глядя на Огородникова. Степан переспросил.
– Разгружайтесь пока, – сказал наконец Иванов. – Задание получите. – И, чуть помедлив, добавил с легкой и сумрачной насмешкой: – Не спешите, успеете еще навоеваться…
Ответ командующего поразил Огородникова. Он остановился, растерянно глядя ему в спину, и не заметил подошедшего Долгих. Тот положил руку на его плечо, Огородников обернулся.
– Ну, – спросил Долгих, – какую картину он тебе нарисовал?
– Безрадостную, – ответил Огородников, поражаясь открытой неприязни Долгих к командующему. – Скажи, он что… случайный здесь человек, Иванов? Как же он здесь оказался? Кто он, откуда?…
Долгих пожал плечами.
– Бывший капитан инженерной службы. Говорят, хорошо строил когда-то мосты…
– Вот и строил бы мосты!
Долгих улыбнулся, тронув Степана за локоть. И они пошли по шаткому дощатому перрону, сквозь который там и сям пробивалась пыльно-зеленая жесткая трава.
– Покажи мне свои пушки, – попросил Долгих. – Это правда, что они еще при Петре Великом состояли на вооружении? Ну, и как они стреляют, петровские мортиры?
– Не знаю, – ответил Огородников. – Стрелять пока не приходилось.
***
Утром из Евсино донесли: несколько составов противника приближаются к станции. Что за составы, сколько? Штаб снова заседал, разрабатывал планы. А у Долгих возник свой план. Взяв несколько бойцов, он сел в паровоз и налегке, отцепив вагоны, помчался в Евсино, чтобы самолично разведать обстановку.
Доехали минут за пятнадцать. И вот он фронт – как на ладони. Местность за станцией ровная, поросшая лишь мелким и низким кустарником, и полотно железной дороги просматривается до самого горизонта. Далеко на этом открытом и ровном поле виднелись паровозные дымки. Долгих насчитал их пять, таких дымков – пять неприятельских поездов, растянувшись по всей видимой равнине, двигались на Евсино. А это значит, что при благоприятно сложившейся для них обстановке не далее как к вечеру, а то и раньше могут выйти они и на Черепаново… Теперь промедление могло стоить жизни. Долгих приказал машинисту возвращаться – и они, наддав пару, помчались обратно.
Тем временем отряд Огородникова и приданная ему «артиллерия» Чередниченко, получив задание прикрывать левый фланг между Евсино и Черепаново, вышли на исходный рубеж. Пушки установили на невысоком бугре – позади березовой перелесок, дальше поле, поросшее кустарником, а впереди железнодорожное полотно, по прямой до него не больше сорока саженей…
Взошло солнце. И поляна вспыхнула и занялась белым пламенем. Цвела ромашка. И так ее было много вокруг, так буйно и чисто она цвела, на этом бугре – некуда ногой ступить. Чередниченко, увидев, как лошади топчут и с хрустом ломают копытами цветы, несколько даже растерялся.
– Ты погляди! – сказал он шедшему рядом Огородникову. – Сколько цветов… Может, сменить позицию? Жалко топтать.
Огородников посмотрел на него и ничего не сказал Подошел к пушкам. Две из них были установлены рядом, третья чуть поодаль. Огородников придирчиво их осматривал, время от бремени поворачиваясь к Чередниченко:
– Не шибко высоко забрались?
– Нет, в самый раз. Траектория с этой точки отличная, – пояснил Чередниченко. – Кроме того… видишь поворот? Поезд непременно здесь притормозит, замедлит ход – вот тут мы его и угостим. Жахнем, как вон говорит товарищ Романюта, по кумполу. Все рассчитано.
– Ясно, – кивнул Огородников, направляясь к третьей пушке, сделанной рабочими механических мастерских и удивляясь несуразному ее виду: ствол пушки, установленный на колеса от жнейки, был слегка изогнут и смотрел куда-то в сторону и чуть вверх. – А это что за кичига? – спросил. – По кому вы из нее собираетесь палить?
– По аэропланам, товарищ командир, – весело ответил невысокий, коренастый боец, выглядевший рядом с этой пушкой не менее живописно: на нем была солдатская гимнастерка и синие плисовые шаровары, заправленные в сапоги. Огородников улыбнулся, узнав Тихона Мурзина, двоюродного брата Вари Лубянкиной.
– Ясно, – кивнул он и построжел. – Ну что ж, товарищи, шутка дело хорошее, только сегодня ждут нас дела не шуточные. Так что будьте готовы. – И, увидев Романюту, подбадривающе спросил: – Ну как, товарищи артиллеристы, жахнем по кумполу?
– Жахнем, как пить дать! – сказал Романюта.
Подул слабый ветерок, и поляна колыхнулась, белые волны пошли по ней из конца в конец. Сухо и жестко зашумела трава.
Романюта сорвал ромашку и ловко, двумя пальцами стал отделять белые продолговатые лепестки, приговаривая:
– Любит – не любит… к сердцу прижмет, любит – не любит… к черту пошлет! – Бойцы собрались вокруг него, сдержанно посмеиваясь, ждали, чем кончится этот наговор. – Любит! – объявил Романюта, оборвав последний лепесток.
– А ты, товарищ комвзвода, насчет чехов погадай, – попросили его. – Побьем мы их или не побьем?
– Насчет этого я и гадать не собираюсь, – сказал Романюта. – Побьем непременно. Не сегодня, так завтра. Иначе и не может быть. Все, товарищи. По местам!
Ветер то стихал, то снова подхватывался, и густой, неровный шум наполнял воздух. Со стороны Евсино доносилась перестрелка. Там, должно быть, вступили в бой сторожевые охранения. Алтайский фронт – одно лишь название – разворачивался медленно да и силами располагал он весьма незначительными. «Так что надеяться на поддержку сегодня не приходится», – думал Огородников.
Ждали противника с утра. Но он и к обеду не подошел, и к паужину не появился. И Огородников сильно обеспокоился, опасаясь наступления темноты, которая усложнит дело и не позволит вести прицельной стрельбы. Тогда противник может проскочить в Черепаново беспрепятственно, не понеся никакого урона, а это в планы обороняющихся не входило.
Опять подул ветер, зашумела трава по косогору. Но шум доносился теперь и со стороны Евсино, размеренно-ровный, все более слышный и нарастающий.
– Ну, братцы, кажись, идут! – Романюта поправил фуражку, шагнул к орудию. Артиллеристы заняли свои места – наводчики, запальщики, подносчики «снарядов»…
А шум все нарастал, приближаясь, и вот бронепоезд появился, наконец, из-за поворота. Пуская тугие сизые клубы пара, он сбавил ход. И в первый миг показался каким-то неуклюжим. «Под стать нашим пушкам», – подумал Романюта.
Бронепоезд, пыхтя и погромыхивая, медленно распрямлялся, подставляя бок, и весь теперь был как на ладони – со всеми своими башнями, бронеплощадками, боевой рубкой, расположенной между кабиной и трубой паровика… И эта труба особенно была заметной.
– То-овсь! – протяжным и низким голосом скомандовал Чередниченко, не спуская глаз с дымившей трубы и хорошо теперь видя, что паровоз движется не обычно, как это полагается, а толкая впереди себя платформу. – Вот сволочи, зад подставляют! – выругался Чередниченко.
– Ничего, достанем и до переда, – пообещал Романюта, и нетерпение отразилось на его лице. – Запалы!..
– Спокойно, – сказал Чередниченко, глаза его сузились, лицо побледнело и капельки пота выступили на лбу. – Спокойно. Пусть подойдут поближе. Броню его вряд ли пробьют наши «снаряды», и вот трубу… Романюта. видишь трубу?
– Ви-ижу!
– Давай по ней… чтоб грохоту побольше. Постарайся зацепить.
– Заце-епим!
Чередниченко вскинул руку, подержал ее над головой и резко опустил:
– Пли!
Вспыхнули запалы. Тугим ветром ударило в грудь, опахнув лицо. И в тот же миг раздался оглушительный грохот, скрежет и звон металла… Рядом кто-то, не выдержав, крикнул «ура». И Чередниченко увидел, что верхняя часть трубы напрочь снесена. Бронепоезд остановился, пыхтя и отдуваясь, из жерла покалеченной трубы со свистом вырывался пар.
– Молодцы! – похвалил Чередниченко. – С первого залпа.
Романюта, вскинув голову, беззвучно смеялся:
– Жаль, котел не разнесло… Вот было бы пару! Несколько солдат соскочило с платформы, суетливо осматривая полотно. В это время со стороны леса, где находился отряд Огородникова, открыли ружейный огонь. Один солдат нелепо взмахнул руками, падая, другие подхватили его и проворно ретировались. А от леса, через поле, вниз к железнодорожному полотну уже катилась человеческая лавина. Степан Огородников попытался с ходу атаковать бронепоезд. Но оттуда, опомнившись и придя в себя после первого замешательства, ударили пулеметы, подкосив и заставив залечь атакующих.
И тотчас оглушенный и как бы враз осевший бронепоезд, громыхнув и пробуксовав, сдвинулся с места.
– Заряжай! – крикнул Чередниченко, видя, как медленно и тяжело набирает он ход и как медленно и грозно разворачиваются короткие башенные стволы. «Семидесятки», – отметил про себя Чередниченко. Надо было во что бы то ни стало опередить, выиграть время и задержать бронепоезд на этом крутом и затяжном повороте. – Романюта! – крикнул Чередниченко, не выпуская из поля зрения двигавшийся и набирающий скорость состав, – Башню… головную башню постарайся зацепить. Давай, Романюта!
– Зацепим… по кумполу! – блеснул рыжими глазами Романюта, лицо его было красное, потное, в пятнах копоти.
– Пли! – вскинул и опустил руку Чередниченко. Белое нескончаемое поле колыхнулось перед глазами, ослепив на миг, и косо поплыло, пошло кругами… И еще в какой-то миг Романюта увидел, как вздыбленный ствол пушки развернуло на приводе, крутнуло в обратном направлении и отбросило в сторону. Комья земли шуршали, осыпаясь в траву. «Пушку разорвало», – догадался Романюта, качнувшись вперед. Но какая-то сила толкнула его назад, ударила так, что он враз ослеп и оглох, и упал навзничь, что-то крикнув или силясь закричать – и в этом долгом, бесконечном и беззвучном крике свело его рот. Он еще силился что-то сказать и с трудом пошевелил окровавленными губами, царапая и шаря рукой по траве, точно пытаясь найти опору, чтобы встать, и не находя… Чередниченко бросился к нему, наклонился, но тут же отпрянул, выпрямился и громко закричал:
– Санитары! Повозку… Где санитары?
Последние слова его потонули в грохоте и гуле проносившегося мимо бронепоезда. Обдало гарью, запахом железа… Снаряды рвались и там, где находился отряд Огородникова, и совсем близко, слева и справа. Кто-то рядом стонал и матерился. Чередниченко попытался еще установить порядок и кинулся к пушке, но пушка была опрокинута и привод вдребезги разбит. Тогда он рванулся к той, что стояла поодаль, на самом скосе, выкрикивая на бегу:
– Заряжай! По головной башне…
– Заклинило, товарищ командир, – сиплым и сдавленным голосом пояснил Тихон Мурзин. Чередниченко остановился, уронив руки, и тело его враз отяжелело, будто налилось свинцом.
– Что же вы так? – сказал он с упреком и посмотрел на пушку, ствол которой был повернут куда-то в сторону.
Момент был упущен.
– А трубу мы им все же покалечили… – сказал кто-то, словно оправдываясь.
– Трубу покалечили, – согласился Чередниченко. И вдруг вспомнил о Романюте и кинулся назад. – Отходим, товарищи, отходим! Спокойно, без паники… Раненых собрать.
– А убитых?
Он вздрогнул, резко обернулся, голос этот показался ему чужим и непонятным. Чередниченко остановился у разбитой пушки, рядом с которой в траве, среди ромашек, лежал Романюта. Несколько крохотных белых лепестков прилипло к небритой щеке – и эта холодноватая белизна уже разливалась по всему его лицу… Чередниченко зябко передернул плечами и отвел глаза.
– Собрать всех! – приказал. – Будем отходить к станции.
Почему к станции – было неясно. Бронепоезд чехословаков, отделавшись легким испугом и небольшими повреждениями, ворвется туда раньше – и может статься, что идут они на верную гибель. Имеют ли они право на такой риск? Чередниченко сказал об этом Огородникову. Степан, помедлив, ответил:
– Права на защиту Советской власти никто нас не лишал.
Вернувшись на станцию, Долгих разыскал командующего и доложил обстановку. Иванов слушал рассеянно, глядя куда-то в сторону. Долгих спросил:
– Что вы намерены предпринять?
Командующий хмыкнул, пожал плечами и медленно пошел по перрону. И только тут Долгих заметил, что на первом пути, напротив вокзала, стоит санитарный поезд…
– Что это значит! – спросил Долгих.
Иванов остановился и посмотрел на него, как на докучливо-надоедливого просителя, избавиться от которого вряд ли удастся. Сказал после некоторого колебания:
– Сторожевые охранения снять. Будем отходить на Алтайскую.
– Как? – изумился Долгих. – Отходить без боя? Не предприняв никаких усилий? А вам не кажется, что это похоже на бегство?
– Ваша щепетильность здесь неуместна, – поморщился Иванов.
– А ваша бездеятельность преступна!
– Товарищ Долгих! Вы забываетесь… Я прикажу вас арестовать. Исполняйте приказ.
Долгих резко повернулся и пошел в противоположную сторону, охваченный негодованием. Теперь он понял окончательно, что надежды на командующего нет никакой. Надо самому принимать решения, действовать на свой страх и риск. «Главное, – подумал он, – не поддаться панике».
Душно было, безветренно. Синевато-сизый воздух, пропитанный запахом креозота и угля, слоился над станцией, и к этим привычным запахам примешивались другие, наносимые со стороны – кисловато-острый, аммиачный запах горелого железа, пороха и селитры…
Бронепоезд чехословаков подошел со стороны Евсино под вечер. Двигался он медленно, будто на ощупь, и находился уже в версте от станции, не дальше. Отсюда встретили его частым ружейным и пулеметным огнем. Но это скорее для острастки. Оттуда, с бронепоезда, отвечали реже, как бы нехотя. Пули вжикали рядом, по-осиному тонко и нудно. Долгих не обращал на них внимания, как будто заранее зная о своей неуязвимости. И только одна мысль, вытеснив все остальные, неотступно его преследовала: «Как задержать бронепоезд? Хотя бы на час, на полчаса… Как?
Вряд ли это было реально. Бронепоезд был уже виден простым глазом. Не доходя саженей четыреста до семафора, он остановился как бы в нерешительности – двигаться дальше или подождать? Видно было, как на передней платформе копошились люди, разворачивая орудийные стволы. Что они задумали?
И прежде чем Долгих сообразил что к чему, оттуда грохнули пушки. Снаряд упал далеко за станцией, на пустыре, не причинив никакого ущерба. Однако второй снаряд разорвался в непосредственной близости, осколки просвистели над головой… Кто-то вскрикнул неподалеку, со стоном выматерился. Долгих кинулся к паровозу и приказал машинисту продвинуться вперед, убрать состав из-под обстрела. Хотя с такого расстояния противник мог легко пристреляться, бить прямой наводкой. Мелькнуло в голове: «Надо бы вывести со станции весь подвижной состав, чтобы не достался врагу… Но как успеть?»
Третий снаряд перелетел и разорвался далеко за станцией, но близко подле железнодорожного полотна. Стало ясно: чехи намеревались повредить железную дорогу за станцией, на выходе, тем самым отрезать путь к отступлению красных… Надо было что-то предпринимать в ответ. Но что? Что можно было предпринять? – уже в который раз спрашивал себя Долгих. Разобрать путь за станцией, со стороны Евсино, чтобы приостановить продвижение бронепоезда? Но это невозможно – чехи простреливают сейчас там каждый вершок полотна. Десятки других вариантов возникли в голове, но тут же он и отвергал их – как нереальные.
Вдруг его осенила догадка: атаковать бронепоезд в лоб, пустив навстречу ему паровоз. Главное тут – неожиданность. И если эта операция удастся – выход будет.
Долгих кинулся обратно. И увидел, что санитарного поезда уже нет на станции – лишь далеко за семафором, на повороте, покачивались его хвостовые вагоны… Командующий тоже уехал, оставив фронт обезглавленным. «Шкура!» – выругался Долгих, понимая всю сложность сложившейся ситуации. Где-то между Черепановым и Евсиным, по обеим сторонам железной дороги, находились отрезанными отряды бийчан и несколько сторожевых групп, если они еще уцелели… Связи с ними не было. А сюда с минуты на минуту мог ворваться чехословацкий бронепоезд, вслед за которым двигалось еще несколько составов. Теперь многое зависело от его, Ивана Долгих, находчивости и решительности. Нельзя было медлить ни секунды. Долгих разыскал начальника станции:
– Нужен паровоз.
– Какой паровоз? – не понял тот.
– Порожний.
– Зачем он вам?
– Коли говорю – значит, нужен. И немедленно!
– Но я не имею права без ведома службы тяги…
– Послушайте! – Долгих вырвал из кобуры наган и резко шагнул к начальнику. – Немедленно прикажите вывести паровоз на главный путь. Иначе я расценю ваш отказ как предательство…
Начальник побледнел и, не говоря больше ни слова, заспешил к депо. Вскоре паровоз, шумно пыхтя и отдуваясь, вышел и встал на главном пути. Усатый машинист, высунувшись из кабины, выжидательно и хмуро смотрел сверху. Долгих тоже смотрел на него, быстро прикидывая в уме: нет, нет, с этим машинистом дела иметь нельзя. Тут нужен проверенный человек, надежный. Он вспомнил, что такой человек есть, красногвардеец Ефим Попов – бывший железнодорожник. Долгих приказал разыскать его. И вскоре он явился, высокий, жилистый (таким выносливости не занимать), с густой светлой шевелюрой из-под фуражки.







