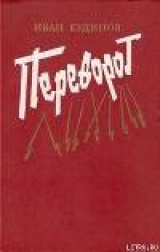
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
10
После хлесткого проливного дождя, прошедшего утром, дорога потемнела и взбухла. Кони шли оскальзываясь, ошметки грязи летели из-под копыт… Всадников было пятеро. Ехали не спеша, негромко переговариваясь. И вскоре достигли леса, свернули с тракта на проселочную дорогу, которая версты через три или четыре вывела их к деревне Шубинка.
Миновали поскотину, по-хозяйски открыв и закрыв за собой скрипучие жердяные ворота. И ехавший впереди на пегом коне всадник обернулся и сказал:
– Тихо-то как. Будто вымерли все.
– Вздремнули малость, – усмехнулся другой всадник, совсем молодой, с густым ломким голосом. Остальные, невольно подобравшись, натянули поводья.
Но тишина оказалась обманчивой. Едва миновали первые избы, как где-то неподалеку раздался глухой размеренный стук: похоже было, кто-то приколачивал доски. Потом с противоположного конца деревин донесся истошный визг поросенка, тявкнула собака…
Конники проехали еще немного и увидели слева, у третьего с краю дома, высокого бородатого мужика с молотком и доской в руках. Мужик тоже заметил приближающуюся кавалькаду, смотрел на верховых удивленно и несколько, пожалуй, растерянно.
– Здорово были, хозяин! – поприветствовал его всадник на пегом коне, подъезжая к ограде.
– Здорово, коли не шутишь. Всадник засмеялся.
– Плохо гостей встречаешь, Корней Лубянкин. А приглашал: будет путь – заезжай. Вот я и заехал.
– А-а, матрос, – узнал, наконец, и мужик всадника, подошел к пряслу, не выпуская из рук молотка и доски, искоса поглядывая на стоявших чуть в стороне остальных конников. – Степан Огородников… Каким ветром к нам?
– Попутным. А уговор наш, видать, позабы-ыл, Корней Лубянкин.
– Какой уговор?
– Плохая у тебя память. А кто ж хвастался, что лучших невест, чем у вас в Шубинке, нигде не сыскать? Вот мы и приехали.
– Ну дак… милости просим, коли приехали, настороженно отозвался Лубянкин. В это время из дома вышла девушка, замерла на миг, увидев незнакомых верховых, пружинисто сбежала с крыльца, стрельнув колюче-острым и насмешливым взглядом. И бросила на ходу:
– Тятенька, я к Лукьяновым, пряслицу заберу…
– Нашла заделье, – недовольно буркнул Лубянкин. И добавил вслед. – Да не засиживайся… Слышь, Варвара?
Девушка бежала по тропинке через огород, прямая и гибкая. Приталенная синяя кофточка плотно облегала плечи и спину, подчеркивая особенную стать девически-ладной ее фигуры. Степан смотрел на нее и мысленно гадал: обернется или не обернется? Если обернется – увидятся еще.
Девушка пересекла огород, приоткрыв узенькую калитку, повернулась и вскинула голову. Степану показалось, что она улыбается. Он тоже улыбнулся, глядя на нее, и на какой-то миг забыл о стоявшем рядом Корнее Лубянкине. Тот кашлянул, как бы напоминая о себе. Степан посмотрел на него, продолжая улыбаться, и эта улыбка была сейчас не совсем уместной.
– Такие вот дела… – сказал, слегка растягивая слова, и вдруг заметил прислоненные к стене дома обрезки тесин и забранное такими же тесинами, наглухо заколоченное окно. Степан смотрел и ничего не понимал: зачем это Корней Лубянкин заколачивает окна? – Лишние, что ли? – полюбопытствовал.
– Теперь много чего лишнего… Шкуру с мужика сдерут и скажут: лишняя.
– А при чем тут, скажи на милость, окна твои?
– При том… – сузил глаза Лубянкин. – При том, что нашего брата, мужика, любая власть норовит взять за глотку.
– Что-то не пойму тебя, объясни толком, – попросил Степан, – что стряслось, чем ты недоволен?
– А ты всем доволен?
– Нет, не всем. Вот и давай разберемся.
– Чего разбираться, небось и без меня все знаешь…
– Чего я знаю?
– А того… того, что совдеп отвалил налоги, каких и при царе не было. Слава богу, дождались новой власти!..
– Погоди, – остановил его Степан. – Какие налоги?
– Такие… не мазаные, сухие! – горячился Лубянкин, губы его обиженно тряслись. – Такие, что куры смеются, а петухи слезы льют…
– Вот и скажи, может, и я посмеюсь…
– Да уж посмеетесь, посмеетесь, когда мужика по миру пустите.
– Послушай, ты вроде и меня в чем-то обвиняешь? Если так, скажи прямо.
– Прямо и говорю. Думаешь, испугаюсь?
– Тебя никто не пугает. А коли спрашивают, говори толком, без всяких околичностей. А то заладил: налоги, налоги… Какие налоги-то?
– А ты вон иди по деревне, тебе скажут.
– Я тебя спрашиваю.
– Дак я и говорю: окна-то не я один заколачиваю. Собак начали вешать, скотину резать… Виданное ли дело – по весне скот изводить! А куда денешься? Тридцать рубликов с лошади, двадцать пять с коровы… Кур и тех обложили. Раскошеливайся, мужик!..
– Это что же, совдеп обложил такими налогами?
– А то кто ж!
– Странно. Я вчера только был в совдепе, разговаривал с товарищем Двойных – ни о каких налогах не было речи. Вам что, и листы окладные уже вручили?
– Листов пока нет, но сказали, что будут. Ясно было сказано: налогом облагаются не только лошади и коровы, но и всякая другая домашняя живность, мелкий скот… Даже собаки. Окна, ежели их больше четырех, тоже подлежат обложению. А у нас тут редко у кого меньше четырех. Во, додумались!
– Да уж додумались, – усмехнулся Степан, начиная кое о чем догадываться. – Значит, так: окладных листов никто еще в глаза не видел, а скот уже начали резать и окна заколачивать… И сколько же окон надо тебе заколотить, Корней Лубянкин, чтобы от налогов увильнуть?
– Сколько надо, столько и заколочу.
– Ясно. Послушай, а кто вас об этих налогах оповестил?
– Оповестили, стало быть… Степана, однако, ответ не удовлетворил.
– Ладно, ты не ерепенься, – миролюбиво он попросил, – а толком все объясни: откуда это пошло? Слухи про налог.
Лубянкин потер переносицу ладонью, припоминая, должно быть, откуда в самом деле пошел слух о непомерных совдеповских налогах. Вспомнил:
– Дак третьеводни приезжали так же вот верховые… Собрали народ и объявили, все как есть зачитали по гумаге…
– По бумаге? – покачал головой Степан, окончательно уяснив для себя ситуацию. – Обманули вас, Корней… Как тебя по батюшке-то?
– Парамонычем был с утра…
– Вот я и говорю, Корней Парамоныч, вокруг пальца вас обвели. А вы уши развесили и все приняли за чистую монету.
– Это как обманули… зачем?
– А затем, чтобы панику посеять в народе, – твердо сказал Степан. – Чтобы вызвать у вас недоверие к Советской власти, к делу революции. Понял теперь?
– Дак это, выходит, наговор насчет налогов-то? – растерянно поморгал Корней. – Как же теперь?
– А чего тебе горевать, – язвительно посмеялся Степан. – Окна ты заколотил, собак попрятал – с тебя и взятки гладки!
– Да будет тебе, не до смешков. Это же по всей деревне такая кутерьма…
– Ладно, – построжел Степан и, подумав, прикинув что-то в уме, сказал: – Соберем народ и объясним положение. Нельзя, чтобы такие слухи брали верх.
Дальнейшие события развивались необычно и с такою быстротою, что Корней Лубянкин и глазом не успел моргнуть, как ударили церковные колокола и поплыл, поплыл над селом тугой звон, всполошив шубинцев. Вскоре на небольшой площади собрались и стар, и мал, удивленно смотрели на стоявших у церковных ворот пятерых всадников. Гадали, переговариваясь вслух: «Кабыть война не началась… Ой, лихо, лихо! Объявють, должно, набилизацию. Да когда ж этому будеть конец?»
Слабый ветерок шевелил гривы коней, шелестели в церковной ограде старые тополя, и распуганные внеурочным звоном галки, покружив, опустились на их раскидистые верхушки.
Степан выехал вперед, чтобы его лучше видели, и, набрав полную грудь воздуха, шумно выдохнул:
– Товарищи! Граждане села Шубинка! Сегодня узнали мы новость, которая, как говорится, ни в какие ворота… Враги революции бессовестно обманули вас, ввели в заблуждение насчет налогов, которыми якобы обложил население совдеп. Сделано это было с дальним прицелом. Прежде всего для того, чтобы вызвать у вас панику и недоверие к Советской власти. И теперь вы творите, сами не ведая что: губите скот, заколачиваете окна… Зачем? – Он приподнялся на стременах и вдруг увидел Варю Лубянкину, стоявшую поодаль, чуть в стороне. «Ну вот и свиделись опять», – подумал Степан и уже не терял ее из виду, пока говорил, разъяснял шубинцам истинное положение. – Это наглая ложь врагов революции, товарищи. И я как представитель Бийского совдепа категорически прошу вас не верить всяким подобным слухам, не поддаваться на провокацию. Революция завоевала правду и свободу, и она, пролетарская революция, никогда не обманет народ, но никогда и никому но уступит своих завоеваний. Верьте этому, товарищи, и давайте решительный отпор любым и всяким провокаторам и врагам революции.
Степан кончил говорить и, натянув поводья, медленно поехал вдоль городьбы, краем глаза видя стоявшую все там же, чуть в стороне, Варю Лубянкину… Потом он увидел шубинского священника, выходившего из церковных ворот, маленького и растерянного (все ж таки под угрозой оружия пришлось звонить), в черной рясе с непомерно широкими и длинными рукавами, точно ряса была ему не по росту, с чужого плеча.
Проезжая мимо, Степан кивнул весело:
– Спасибо, отец Игнатий, сегодня ты послужил не только богу, но и революции…
Отец Игнатий голову наклонил и ничего не ответил.
Выехали из Шубинки пополудни. Прояснилось окончательно. Дорога просохла и взялась пылью. Жарко синело небо. И где-то в вышине протяжно и надлом но блеял барашек – бекас.
Степан ехал рядом с братом. Жара всех разморила. Ехали молча. Только один раз за все время, пока ехали от Шубинки до тракта, Пашка обронил:
– Ну и опростоволосились шубинцы… это ж надо – окна позаколачивать!..
– Приспичит, дак и двери заколотишь, – вступился за шубинцев Мишка Чеботарев. Разговор, однако, дальше не пошел, оборвался. Когда приближались к тракту, заметили стоявших на перекрестке верховых, человек тридцать, не меньше – конный отряд. Все пятеро, как по команде, натянули поводья и сбавили шаг, напряженно вглядываясь и стараясь понять, что это за кавалерия.
– Кажись, каракорумцы, – тихо проговорил Чеботарев и вопросительно глянул на Степана. – Что будем делать?
– Спокойно. Ничего делать не надо. Едем и едем. И сворачивать никуда не будем. Теперь уже поздно сворачивать. Во всяком разе будьте наготове, – предупредил Степан. – Что у них на уме – неизвестно.
Он первым подъехал к стоявшим на перекрестке конникам. Остановился. Похрапывали кони. Блеял в вышине невидимый барашек. Всадник на вороном жеребце отделился от основной группы, приблизился к Степану:
– Кто такие?
– А вы? – спросил Степан, глядя ему в переносицу, но видя всего, с ног до головы – от тускло поблескивающих шпор до резко изогнутых густых бровей; длинный, с чуть приметной горбинкой нос и две глубокие косые складки от раскрыльев носа к подбородку, как два сабельных шрама, несколько утяжеляли, но не портили лица – человек этот был, пожалуй, красив и, как видно, не из робкого десятка. И в лошадях, судя по всему, толк знал: жеребец под ним нетерпеливо переступал, пританцовывал, круто изогнув шею и мелко подрагивая атласной кожей… Степан невольно залюбовался, но тут же спохватился, выпрямился в седле, спокойно и твердо переспросив: – А вы кто такие?
– Боевое охранение Каракорумского округа, – ответил тот по-военному четко, и в голосе его, в осанке и в холодно-прямом, как бы сверлящем взгляде проглядывало плохо скрытое, а скорее вызывающе-открытое офицерское высокомерие. – Подъесаул Кайгородов. А я с кем имею честь разговаривать?
– Командир красногвардейского отряда Огородников перед вами.
– Командир отряда? – усмехнулся Кайгородов. – А где же твой отряд, товарищ Огородников? – Слово «товарищ» произнес он подчеркнуто, слегка растянув, и, не скрывая насмешки, оглядел четверых всадников, стоявших за спиной Степана. – Это и есть твой отряд?
– Нет, господин подъесаул, – в тон ему ответил Степан, выделяя слово «господин», – отряд находится там, где ему полагается быть… Без дела мы не мотаемся по лесам.
– Мы тоже без дела не мотаемся. А леса эти, вся территория, – Кайгородов повел рукой, описав в воздухе полукруг, – все это принадлежит Каракоруму.
– А Каракорум кому принадлежит? – спросил Степан. И заметил, как дрогнули в усмешке губы Кайгородова. Вопроса он как бы и не расслышал, пропустил мимо ушей и, выдержав паузу, проговорил с той же высокомерной интонацией в голосе и с некоторой даже ультимативностью:
– Советую вам подчиниться Каракоруму. Это в ваших же интересах. Чтобы потом не жалеть…
– Спасибо за совет. Но мы подчиняемся Советской власти и никакой другой не признаем. Что касается интересов, они, как я думаю, разные у нас с вами. Разные курсы у нас, подъесаул.
Они разъехались мирно. Однако Степан Огородников понимал и чувствовал, что в другой раз может не быть и не будет такого – все шло к тому.
Когда отряд каракорумцев во главе с подъесаулом Кайгородовым скрылся за поворотом, в низине, и пыль улеглась на дороге, Степан, похлопав мерина по лоснящейся потной шее, негромко скомандовал:
– Отря-яд, наметом вперед… арш!
И пятеро всадников, пригнувшись в седлах, поскакали в противоположную сторону.
11
Время шло, но ничто, казалось, не могло изменить привычных устоев города. Все так же, как и год и два года назад, на старой Базарной площади, в «железном» ряду, лавочник Махалов продавал крашеные сундуки, обитые узкими жестяными полосками, а в лавке Еремеева, на Пермской улице, можно было приобрести шевровые ботинки с галошами и швейные ножные машинки… Контора Линда предлагала зимние крытые повозки, а доктор Ваксман, как и прежде, вел прием по внутренним, кожным и венерическим болезням, применяя свой фирменный и загадочный препарат «сальварсан-914». Одинокие интеллигентные люди искали небольшую квартиру за умеренную плату, и газета «Думы Алтая» иронизировала по этому поводу: «Разве в Бийске сохранились еще интеллигенты?»
И слухи, слухи… Они, как снежный ком, пущенный с горы, мгновенно увеличивались, обрастая все новыми и новыми подробностями. Газеты с готовностью подхватывали и раздували еще больше, делая из мухи слона.
Эсеро-кадетский листок сообщал: «Петроград обречен на вымирание. Люди надают на улицах. Обуховский завод и некоторые другие предприятия выступили против Советов…»
А на другой день очередная новость: «Настроение в Москве антибольшевистское, за исключением замоскворецких заводов… Большевики обратились к немцам за помощью. Немцы согласились при условии оккупации Москвы, которая им нужна как операционный базис. Вся работа комиссии Дзержинского проводится теперь под контролем и руководством немецкого шпиона Мирбаха…»
Вот как!..
На улицах Бийска появились воззвания: «Граждане и солдаты! Вас обманули большевики – вместо хлеба дали вам в руки фиговый листок, вместо обещанного мира усилили против вас войну. Власть над вами и над Россией взяли бывшие каторжники, воры. Вот кому вы доверили свою судьбу и судьбу несчастной Родины! Большевики продались Германии, получив от немецкого штаба взятки: Ленин ежемесячно получает миллион рублей, Троцкий – 900 тысяч, Свердлов – 800, Каменев – 700… Дальше шли члены ВЦИКа, получавшие от 500 до ста тысяч рублей. Среди названных «председателей Сибири» фигурировал и Захар Двойных. Правда, сумма, которую он получал «от немецкого штаба», не указывалась.
Воззвание было подписано комитетом Учредительного собрания и открыто призывало к свержению Советской власти.
Призывы эти, «экстренные» газетные сообщения, зачастую опережавшие события и выдававшие желаемое за действительность, для врагов революции – как бальзам на старые, незажившие еще раны. Однако положение с каждым днем становилось сложнее. Вести одна хуже другой шли из Иркутска, Тюмени, из-за Урала: белочешские войска двигались по Сибири… Враги революции выползали из своих укрытий, поднимали головы. Все более враждебными становились действия Каракорум-Алтайской управы.
Двойных связался с Барнаульским ревкомом: что делать?
Предревкома Матвей Цаплин посоветовал: «Постарайтесь договориться мирным путем».
Однако последний случай перечеркнул все надежды на примирение. Три дня назад в Шубинку был направлен отряд из двадцати красногвардейцев для учета и реквизиции излишков хлеба. И вот каракорумцы при поддержке местных кулаков напали на красногвардейцев, один из которых был убит, один ранен и двое взято в плен. Поспешивший на выручку отряд Огородникова каракорумцев не застал.
Вечером того же дня состоялись переговоры по прямому проводу председателя Бийского совдепа с Улалой:
– Улала? Говорит Бийск. Кто у аппарата?
– Председатель Каракорум-Алтайской советской управы Гуркин, – ответила Улала.
– Советской? – усмехнулся Двойных, – Как же тогда понимать ваши действия?
– Наши действия вызваны необходимостью защиты своего народа от грабежей и насилия.
– Прежде всего, вы кулаков и баев защищаете, а беднота в подавляющем большинстве не понимает и не признает ваших действий.
– Это ложь! А если вы хотите избежать кровопролития, давайте проведем переговоры на равных условиях.
– Кровь уже пролилась. Разве вам это не известно? Что касается переговоров, мы готовы их вести.
– Будет ли приостановлено передвижение ваших отрядов по территории округа?
– Отряды будут высылаться до тех пор, пока вы не прекратите противодействие Советской власти.
– Кровопролитие спровоцировано вашим отрядом.
– А как оказался вооруженный отряд Каракорума в Шубинке?
– Наши отряды имеют задание не допускать произвола над населением в границах своего округа.
– Мы не знаем ваших границ, мы знаем границы Советской республики. И никакого двоевластия на ее территории не допустим.
– Оставьте угрозы. Каракорум тоже находится под покровительством Советской власти.
– Каракорум только прикрывается этими фразами, а на деле уже давно выступает против Советской власти. Повторяю: наши отряды не имеют права чинить насилия над кем бы то ни было, за это мы привлекаем виновных к строгой революционной ответственности. Но долг каждого рабочего и крестьянина – отвечать насилием на насилие, давать отпор тем, кто посягает на рабоче-крестьянскую власть, ибо в России (возможно, вы об этом забыли?) объявлена диктатура пролетариата. У меня все.
– Наш разговор будет передан Краесовету и губсовету?
– Наш разговор будет опубликован в советской газете «Бийская правда». Что вы еще имеете добавить?
Огородников встретил вышедший из Бийска в Шубинку красногвардейский отряд где-то на полпути, прискакав в сопровождении четырех всадников. Михайлов, увидев его, обрадовался и возмутился одновременно:
– Что это за выездка? Скачешь, как на параде. Да вас, как куропаток, перестреляют – и глазом не успеешь моргнуть.
– Такого мы не допустим, товарищ председатель реввоенсовета. Основные наши силы неподалеку, – махнул рукой вправо. – Оттуда все видно, как на ладони… Муха незаметно не пролетит.
– Ладно, ладно… Пролетела уже. Что же ты, командир носишься как рядовой разведчик, оставив отряд?
– Соскучился, Семен Илларионович. Дай, думаю, встречу самолично. Вон и начальника милиции давно не видел, – кивнул Нечаеву. – Тоже редкий гость в наших краях… Что слабо? – увидев, как несколько красногвардейцев с уханьем и смехом толкали в гору автомобиль, поинтересовался. – Не тянет?
– Да вот, – ответил Михайлов, – по ровной дороге идет неплохо, а в гору не хватает духу. Ну, что там, в Шубинке?
– Шубинка есть Шубинка, – загадочно проговорил Огородников. – Как говорится, на две руки: на левую и на правую… Так что смотреть надо в оба. Нам с вами идти?
– Нет, оставайтесь пока здесь. Подойдете позже.
– Понятно, – кивнул Огородников. – Эй, ребята, может, моего пегана впряжете? – крикнул красногвардейцам, все еще толкавшим автомобиль на крутяк. – Он враз выдернет вашу телегу…
– Твоего пегана впору самого тянуть.
Автомобиль в это время, прокатив юзом метра три, чихнул громко и загудел, задрожал всем своим металлическим нутром. Пеган испуганно отпрянул, едва не сбросив седока. Водитель автомобиля захохотал, помахав кожаными перчатками. Михайлов и Нечаев сели в машину, брезентовый верх которой был опущен, сдвинут назад, и два пулеметных ствола торчали над ним, как два указательных пальца… Автомобиль фыркнул, обдав стоявших сбоку людей вонючим дымом, и покатил по дороге.
Огородников пустил своего пегана с места в намет, разом догнав и обогнав натужно гудевший и лихорадочно дребезжавший на поворотах автомобиль.
– Что, слабо? – взмахнул рукой, как саблей, и засмеялся. – Слабо!
Вскоре его и след простыл.
12
Когда приехали в Шубинку, Михайлов распорядился сколотить деревянные подмостки и установить посреди села, на площади, примыкающей к церковной ограде. На них положили убитого красногвардейца, прикрыв изуродованное лицо белой холстиной, и два караульных встали подле с винтовками к ноге, хмуро и настороженно поглядывая на подходивших людей и тихо, вполголоса переговариваясь:
– Поди ж ты, какая жара, прямо пекло…
– И то сказать, сушь несусветная.
И хотя труп лежал под открытым небом, на свежем воздухе, запах от него шел непереносимо тяжелый, и караульные, чтобы отвлечься, старались не смотреть на него и разговоры вели посторонние… Но куда же денешься, если вот он, рядом!..
– Можа, зря его тут выставили? – сказал один караульный другому. – Закопать бы его, как полагается… а то ж вроде не по-христиански.
– Коли выставили, стало быть, надо, – возразил другой. – Нехай народ поглядит.
– Дак смердит же… нехорошо.
– Ох-ха! А дома, поди, ждуть мужика…
– Ждуть, а то как же… Нас вот с тобой тоже небось ждуть?
Люди подходили, останавливались поодаль, а кто и поближе и, постояв, молча удалялись, как бы уступая место другим.
Вороны кружили над церковной оградой, потом уселись на вершину старого тополя. Подул ветерок, взвинтив на дороге пыль, тронул покрывало, задрав уголок и обнажив светлые спутанные волосы и белый, как холстина, лоб красногвардейца… Один из караульных поправил покрывало, но тут же новый порыв подхватил его и задрал еще больше. Тогда караульный поднял из-под ног обломок камня и положил на уголок помоста, натянув холстину. И отвернулся, замер с винтовкой к ноге.
Вороны бесшумно снялись с тополя и улетели за реку.
Люди все подходили и подходили, собирались кучками. Тревожно было, душно. Ветер стих. И сизой морочью, словно пеплом, затянуто небо. Солнце едва проглядывало, лишь по горизонту багрово отсвечивали редкие перистые облака, и сам горизонт, как бы отсеченный от земли темной полосой леса, горячо плавился и кровенел…
– Нехорошее небо, – сказал караульный. Другой подтвердил:
– Смурное. Грозу, должно, натянет. Часа через два караульные сменились. Близился вечер. Тревога нарастала.
Двое парламентеров были отправлены в Улалу для переговоров с каракорумцами. Что выйдет из этих переговоров и что будет с парламентерами – никто не знал. Михайлов был против этих переговоров и ни за что бы на них не пошел, если бы не распоряжение председателя совдепа Двойных.
Деревня притихла.
По улице, к дому, где разместился штаб, красногвардейцы провели четырех арестованных. Среди них был священник, маленький, жалкий какой-то, в длинной рясе, волочившейся чуть ли не по земле. Рядом с ним шел Корней Лубянкин, заложив за спину тяжелые, набрякшие руки Проходя мимо подмостков, на которых лежал убитый каракорумцами красногвардеец, конвоиры и конвоируемые замедлили шаг, и священник, повернув голову, торопливо перекрестился… Лубянкин же прошел мимо, не расцепив рук и не повернув головы.
Мужиков обвиняли в том, что во время нападения каракорумцев они оказали им содействие – а значит, выступили против Советской власти. Убитый красногвардеец тому доказательство. Мужики вины не признавали, твердили одно:
– Мы не убивали.
– А кто убивал? Кто известил каракорумцев о том, что в Шубинке находятся красногвардейцы? Кто? – Михайлов допрашивал строго, скулы его набрякли, серые глаза сузились и потемнели. – Откуда у вас взялось оружие? Отвечайте.
– Какое там оружие… дробовики.
– А дробовики, по-вашему, не оружие? Или они у вас были солью заряжены?
Мужики сжились под его взглядом, отвечали сбивчиво, путано, добиться от них толком ничего так и не удалось.
– Запираются, вижу по глазам, – сказал Михайлов и стукнул слегка кулаком по столу. – Ну, я их заставлю говорить!
Кроме него и начальника милиции Нечаева, в небольшой горенке был еще член ревкома Селиванов, худощавый и молчаливый человек, лет сорока. Вопросов он почти не задавал, сидел и слушал, наблюдая со стороны. Сейчас же, когда арестованных увели и они остались втроем, Селиванов высказал сомнение:
– А может, не запираются? Может, им действительно нечего сказать?
– Как это нечего? – вскинулся Михайлов. – Ружьями размахивать они мастаки, а чистосердечно во всем признаться у них духу не хватает.
– Так ведь ружьями-то они размахивали, как выяснилось, не в момент перестрелки с каракорумцами, – возразил Селиванов, – а когда красногвардейцы пытались у них забрать хлеб…
– Не забрать, а реквизировать излишки, – поправил Нечаев и тем самым как бы определил свое отношение к этому неожиданному разногласию. – А мужики, по-моему, все-таки запираются. Надо им развязать языки.
– Каким же образом? Нечаев помедлил:
– Припугнуть их… расстрелом.
– Да вы что, в своем уме? – возмутился Селиванов.
– Я-то в своем.
– Это же незаконно.
– Законы революции, товарищ Селиванов, не исключают суровости.
– Но не жестокости.
– Если надо – и жестокости.
– Нет. Законы революции – это, прежде всего, справедливость. А вы предлагаете методы шантажа и запугивания. Разве вы это не понимаете?
– Понимаем, – хмуро кивнул Михайлов и еще раз кивнул. – Понимаем. А вы понимаете, что в момент, когда Советской власти грозит смертельная опасность, излишняя мягкость неуместна и даже вредна. Понимаете?
Последним допрашивали отца Игнатия. Он сидел, опустив голову, но отвечал на вопросы твердо и внятно, не выказывая растерянности.
– Давно, святой отец, в здешнем приходе служите?
– А с того самого лета, когда в Шубинке возвели божий храм.
– Когда ж его возвели?
– Почитай, лет двадцать тому.
– Так. А скажи, святой отец, каким образом каракорумцам стало известно о нахождении в Шубинке красногвардейцев?
– Мне сие неведомо.
– Может, с неба свалилось на них это известие?
– На все божья воля…
– А ваши действия тоже были продиктованы божьей волей, когда вы ударили в колокола? Что вас побудило к этому?
– Страх, только страх, сын мой. Сиречь все произошло от великой растерянности… Истинно говорю.
– Чего же вы напугались?
– Невинного смертоубийства.
– Невинного? – жестко посмотрел на него Михайлов. – И слова-то у тебя, гражданин батюшка, обтекаемые, как и ты сам. Что можешь еще добавить к сказанному?
– Еще? Хочу спросить, – поколебался отец Игнатий, – свет, который в тебе – не есть ли тьма?
– Что, что? А-а, понятно, – вскинул брови и медленно, с расстановкой проговорил Михайлов. – А что, если мы тебя, святой отец, расстреляем? Чтобы впредь не путал тьму со светом, а божий дар с яишницей и не вводил людей в заблуждение.
Потом ввели арестованных, не по одному, как на допрос, а всех сразу, и Михайлов после долгой томительной паузы тихо проговорил:
– Вот что, голубчики, даю вам сроку два часа. Нет, час, – тут же изменил первоначальное решение, достал из кармана часы и выразительно постукал согнутыми пальцами по циферблату. – Хватит вам и одного часа на раздумье. А если и после того будете запираться – расстреляем. Все! Думайте.
– А вы не тяните с этим делом, – побледнев, огрызнулся Корней Лубянкин. – Можете сразу к стенке. Мне все одно нечего больше сказать.
– Думайте! – повторил Михайлов и вышел.
Ровно через час мужиков вывели в ограду, провели мимо автомобиля с двумя пулеметами, стволы которых торчали, как два указательных пальца, отворили ворота – и тут задержали.
– Ну, граждане шубинцы, надумали что? – спросил Михайлов, подходя вплотную. Мужики молчали. Михайлов подождал, не спеша набивая и раскуривая трубку, снизу вверх поглядывая на тесной кучкой стоявших мужиков, задержал взгляд на Лубянкине. Тот взгляда не отвел, сказал глуховатым сдавленным голосом:
– Гляди, комиссар, кабыть не обернулось тебе… Совесть не прогляди.
– Не прогляжу.
– Ибо, как сказано, – приложив руку к груди, добавил отец Игнатий, – после скорби сих дней солнце померкнет, луна светить перестанет, звезды, аки роса, спадут с неба… и злой раб, забыв о господе боге, почнет бить своих же товарищей… Опомнись, сын божий, не бери грех на душу! Ибо как сказано…
– Ну, хватит! – оборвал Михайлов, понимая, что зашел он слишком далеко, но и дело до конца довести хотелось непременно. – Говорите вы много, да не о том. Можете не беспокоиться: и солнце не померкнет, и луна будет светить… И совесть моя – на месте. Побеспокойтесь о своей совести. – И, повернувшись к старшему конвоя, невысокому рыжеватому красногвардейцу, махнул рукой. – Все! Ведите их, Романюта.
Приговоренных повели, однако, не по улице, а задворками, задами, чтобы не привлекать внимания. Солнце уже клонилось к закату. Воздух посвежел. Чувствовалась близость реки. Берег тут был высокий, обрывистый, вдоль берега, вразброс, росли березы и сосны, иные подступали к самому краю и как бы в ужасе замирали, останавливались на головокружительной крутизне… Обнаженные корни торчали из земли, повисая над пропастью.
Глухо и тяжело шумела внизу река.
Приговоренных поставили спиной к обрыву, и они, увидев за собой, чувствуя затылком эту могильную бездну, содрогнулись. Романюта, однако, не спешил и все поглядывал куда-то, будто ждал кого, достал кисет и, тряхнув им, предложил:
– Может, кто желает напоследок закурить?
– Ну, ты… – скрипнув зубами, выдохнул и ознобно передернул плечами Лубянкин. – Кончай со своим куревом! Кончай…
А Романюта все тянул и слов этих как бы и не заметил.
– Как хотите, было бы предложено, – кивнул он, усмехнувшись, и стал скручивать папироску, мусоля языком бумагу.
Снизу, от воды, тянуло холодом. Боязно было пошевелиться, повернуть голову…
Вечером, на другой день, когда в Шубинку прибыл отряд Огородникова, все главные события были уже позади: арестованные, кроме Лубянки да и еще одного мужика, отправлены под конвоем в Бийск, убитый красногвардеец со всеми почестями похоронен… Страсти улеглись. Каракорумцы же, как видно, прознав о прибытии в Шубинку значительных совдеповских сил, больше не появлялись. Не было никаких известий и от парламентеров.
Огородников застал боевых друзей в подавленном настроении. И хотя они сидели за столом рядышком – Михайлов, Нечаев и Селиванов – и пили чай, густо заваренный душмянкой, нетрудно было заметить, что между ними что-то произошло, чувствовалась какая-то холодность и натянутость даже внешне. Огородникову же все трое обрадовались, будто своим появлением он мог разрядить обстановку, снять напряжение, и все трое облегченно вздохнули, увидев его.







