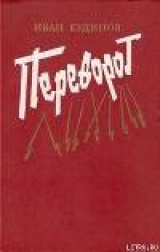
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
Второе постановление не только не проясняло, но еще больше запутывало ситуацию:
«В виду тяжкого положения государства и необходимости сосредоточить всю полноту верховной власти в одних руках – совет министров постановляет: передать временно осуществление верховной государственной власти вице-адмиралу Александру Васильевичу Колчаку, присвоив ему наименование верховного правителя».
И, не давая опомниться, на голову обывателя обрушился целый каскад постановлений, указов, приказов и обращений – и все это в один день, в один час. Указ Совета Министров о производстве вице-адмирала Колчака в адмиралы. Приказ самого адмирала о своем назначении верховным правителем. И его же, верховного правителя, обращение к народу:
«Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю, что я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом…»
Колчак надеялся поставить дело так, чтобы к весне девятнадцатого года Россия была свободной от большевизма. И все свои надежды – тайные и явные – связывал с армией, которую призывал «сковать свои ряды железной дисциплиной», а главное – «отказаться от всякой политики». Солдату, как он считал, политика ни к чему, ибо она отвлекает от главного: умения хорошо стрелять и беспрекословно выполнять приказы, на которые адмирал в те дни не скупился. Однако уйти от политики не удавалось. И первым, кто напомнил об этом, был генерал Болдырев, явившийся вскоре после утверждения диктатуры отнюдь не с поздравлениями. Главнокомандующий прибыл прямо с фронта, и вид у него был далеко не парадный.
– Что в войске, какова обстановка? – спросил его адмирал.
Болдырев отвечал холодно и сухо:
– Обстановка сложная. А для меня, должен сказать, и вовсе неприемлемая.
Колчак не понял:
– Что значит – неприемлемая?
– А это значит, что при создавшейся обстановке не вижу дальнейшей возможности оставаться в Сибири…
– Как? Вы отказываетесь остаться в войсках? Но это же, генерал, это… – не находил слов Колчак. Лицо его слегка побледнело и вытянулось, крупный с горбинкой нос казался еще длиннее. – Не вынуждайте меня, Василий Георгиевич, ставить вас на одну доску с атаманом Семеновым… – мягко предупредил, поднимаясь из-за стола. – Вы меня удивляете.
– Простите, но я член Директории, которая незаконно упразднена… Как прикажете мне вести себя?
– Незаконно? – усмехнулся Колчак, быстро прошелся по ковровой дорожке от стола к двери и обратно, жестко переспросил: – Незаконно, говорите? А по каким законам действовала Директория, доведя страну до ручки? До ручки, генерал! А вы решили ее оплакивать. Обидно и очень жаль, Василий Георгиевич, что и вы поддались партийному влиянию. – Он помедлил секунду и прибавил: – А вот генералы Деникин и Юденич, в отличие… от атамана Семенова, ставят освобождение России выше мелкопартийных интересов…
– Мое решение ничего общего с отказом Семенова признать вашу диктатуру не имеет. Ничего общего!
– Спасибо и на том, генерал, – помрачнел Колчак. – Семенова же, как вы знаете, я объявил изменником Родины. Надеюсь, мой приказ известен каждому солдату?
– Да, с приказом номер шестьдесят я знаком, – сказал Болдырев и только сейчас заметил на плечах Колчака новые адмиральские погоны. «Ну вот, – подумал с горечью, – о своих приказах пекутся, а мой приказ о порядке присвоения воинских званий обошли или вовсе отменили». – Что касается России, она мне дорога не меньше, чем Деникину, – обиженно добавил Болдырев и встал, готовый откланяться.
– Тем более! – воскликнул Колчак. – Тем более, Василий Георгиевич, вы не имеете права в такие минуты оставлять войска. Подумайте хорошенько.
– Все уже продумано. Решение мое твердо.
– Ну что ж… – Колчак проводил его до двери, особенно и не пытаясь уговаривать. – И куда же вы теперь, генерал?
Болдырев еще раз окинул взглядом кабинет верховного правителя, довольно тесный и неуютный, с письменным столом, парой кресел и дюжиной стульев вдоль стен; узкая солдатская кровать, стоявшая в углу, казалась тут неуместной: должно быть, адмирал с некоторых пор опасался ночевать дома, в своей квартире… «Флагманская каюта, – усмехнулся про себя Болдырев, вспомнив отпущенную кем-то колкость в адрес новоявленного правителя. – Уметь управлять кораблем – это еще не значит уметь управлять Россией. Господи, чем же все это кончится?»
Болдырев прямо и твердо посмотрел на адмирала и несколько запоздало ответил:
– Поеду пока во Владивосток. А позже, наверное, в Шанхай.
– Зачем вам Шанхай? Мне думается, в Японии вам будет лучше.
– Благодарю, я подумаю. Колчак протянул ему руку:
– И не держите на меня зла, Василий Георгиевич. Мы люди военные, и у нас единственный вексель за душой – наша любовь к Отечеству.
– Простите, адмирал, но сегодня вы подписали чужой вексель, – сухо сказал Болдырев. – К тому же, как мне кажется, фальшивый. Честь имею!
Они расстались холодно-вежливо. И навсегда.
***
Колчак долго не мог успокоиться после встречи с бывшим главнокомандующим. Слова Болдырева о чужом векселе не выходили из головы. «Он считает меня выскочкой, самозванцем, – думал оскорбленный адмирал. – Но разве не интересами России руководствовался я, принимая на себя этот тяжкий крест?»
И через несколько дней, когда верховный правитель встретился с «общественностью» города и представителями прессы и выступил перед ними со своей программной речью, в голосе его все еще звучала обида, вызванная недавним разговором с генералом Болдыревым:
– Меня называют диктатором. Пусть так. Я не боюсь этого слова. Ибо знаю: диктаторство с древнейших времен было учреждением республиканским, – глядя поверх голов сидевших перед ним в небольшом зале газетчиков, говорил адмирал. Он с презрением относился к этим продажным писакам, но в то же время понимал, что обойтись без них невозможно: завтра же его слова и мысли, благодаря им, станут достоянием широких масс, а это важнее всех сиюминутных симпатий и антипатий. И он продолжал говорить, чеканя каждое слово и глядя куда-то в пространство: – Как сенат Древнего Рима в тяжкие для государства минуты назначал диктатора, так и Совет Министров российского государства в тягчайшую из тяжких минут назначил меня верховным правителем. И я буду принимать все меры, которыми располагаю в силу своих чрезвычайных полномочий, для борьбы с насилием и произволом, буду стремиться к скорейшему возрождению Родины, так дерзко и грубо попранной большевиками. Конечно, я был бы безумцем, возмечтав выполнить всю эту работу единолично, – смягчил он излишнюю резкость своей речи. – Нет, вся эта многотрудная работа будет выполнена в полном единении с Советом Министров, и я глубоко убежден, что наши намерения будут встречены доверием и поддержкой народа. В этом убеждают меня, – добавил, повеселев, – сотни приветственных телеграмм, которые приходят на мое имя со всех концов страны…
Адмирал говорил правду: телеграммы действительно шли отовсюду: от съезда золотопромышленников Приамурья, делегаты которого видели в лице адмирала «единственно способную силу спасти и возродить Россию», от торгово-промышленного и биржевого комитетов Сибири, от военно-промышленного комитета, наконец, от группы раненых и контуженных офицеров ударного батальона и других, как сообщали газеты, «здоровых патриотических кругов русского общества…»
Наутро отчет о встрече верховного правителя с журналистами появился в газетах, подробно излагалось выступление адмирала. Впрочем, нового ничего адмирал не сказал. Авксентьев тоже ведь ратовал за создание боеспособной армии, призывал к единению в борьбе с большевизмом.
Однако все необходимые формальности и даже некая видимость законности были соблюдены: полковник Волков и войсковые старшины Красильников и Катанаев, осуществившие непосредственно арест главы Директории, были обвинены в «посягательстве на свободу членов правительства» и преданы суду, который вскоре состоялся и закончился оправдательным приговором – дескать, поступок вышепоименованных офицеров объясняется мотивами патриотическими, горячей любовью к Родине, ради спасения которой они и совершили этот акт…
Через три дня после суда полковнику Волкову было присвоено звание генерал-майора, и он отправился в Иркутск командовать округом.
***
Колчаку донесли из Иркутска: компания подгулявших офицеров в ресторане «Модерн» распевала «Боже, царя храни…»
Адмирал хмуро сказал:
– А что же им исполнять, если Россия не имеет собственного гимна? – И попрекнул Вологодского: – Вам бы, Петр Васильевич, следовало об этом подумать.
В тот же день Совет Министров постановил: «В тех случаях, в коих подобает исполнение российского национального гимна, исполнять в качестве такового старинный русский гимн Бортнянского «Коль славен наш господь в Сионе…»
Но то еще полбеды, что пьяные офицеры куражатся и распевают в общественных местах все, что им в голову взбредет – бог с ними! Другое беспокоит адмирала: трезвое и упорное неповиновение казачьего полковника Семенова, возомнившего себя хозяином Забайкалья. Дошло до того, что он публично заявил: признаю лишь одного диктатора – Бога, наместником которого в Забайкалье являюсь я, атаман Семенов… Союзники тоже обеспокоены конфликтом между двумя «патриотами России». И настоятельно советуют адмиралу – быть выше мелкого самолюбия, проявить максимум усилий и благоразумия для примирения с атаманом. Колчак перебрал все возможные и невозможные варианты – и заявил, что путей к примирению не видит.
– Так что же, воевать с Семеновым? – обескуражен но спросил Вологодский. Адмирал поморщился:
– Воевать я с ним не собираюсь. Но порядок водворить в Забайкалье и самого атамана призвать к порядку нужно.
– Каким же образом?
– Законным. Или, вы полагаете, на Семенова никакие законы не распространяются?
– Боюсь, что Семенов слишком далеко ушел от законов.
– Вот мы его и приблизим, – сухо и твердо сказал Колчак. И как о чем-то уже решенном: – Пусть комиссия этим займется.
– Какая комиссия?
– Чрезвычайная… по расследованию действий полковника Семенова и подчиненных ему лиц.
– Разве такая комиссии есть?
– Пока нет. Но я надеюсь, Совет Министров не станет возражать против таких санкций по отношению к Семенову?
И вскоре комиссия была создана. Дело оставалось за малым – утвердить председателя. Поначалу хотели поручить это дело кому-либо из министров, но в последний момент передумали: вряд ли министерский уровень окажется для Семенова, который и верховного правителя не признает, авторитетным. Но кто же в таком случае мог возглавить комиссию, чтобы разговаривать с Семеновым на равных? По меньшей мере. Долго думали. Наконец, кто-то вспомнил о старом казачьем генерале Катанаеве. Правда, генералу уже за семьдесят, и он давненько отошел от службы, нигде не показывается и занимается, главным образом, историческими науками… Колчак, все это выслушав, сказал:
– Историю будем изучать потом. А сейчас давайте делать историю. Пригласите генерала. Скажите, что я лично просил.
Колчак не был близко знаком с Катанаевым, но слышал о нем немало добрых и лестных отзывов. Популярность генерала среди казаков была давней и безоговорочной. Так что лучшего председателя комиссии и желать не надо! Теперь одно беспокоило: здоров ли генерал и, главное, захочет ли он взять на себя столь хлопотную и нелегкую миссию?
В тот же день разыскали генерал-лейтенанта Катанаева и передали ему просьбу верховного правителя. Особой радости генерал не выказал:
– Когда приказано явиться?
Ему пояснили: адмирал не приказывал, а просил. Если сочтете возможным, лучше не откладывать дела в долгий ящик, а завтра в десять утра и явиться. Но сначала следует зайти к министру юстиции Старынкевичу и получить у него необходимые инструкции.
Генерал был человек пунктуальный и в тот же день посетил министра. А наутро, к десяти часам, как было условлено, отправился к Колчаку. Особняк верховного правителя стоял на берегу Иртыша – и вид отсюда открывался превосходный. Река уже замерзла, покрыта была заснеженным льдом, санные дороги слева и справа тянулись от одного берега к другому, и там, куда они уходили, ровно и широко расстилалась белая, дымившаяся поземкой равнина…
Генерал постоял немного, любуясь этой равниной, вдыхая запах снега и стылого тальника, наносимый слабым ветерком, затем круто повернулся и пошел к парадному подъезду особняка, выглядевшего сейчас довольно внушительно. По углам высокой чугунной решетки, ограждавшей здание со стороны реки и со стороны городского квартала, а также у ворот и непосредственно в ограде, у подъезда, стояли вооруженные часовые. Генерал поднялся по каменным ступеням, прошел узким коридором и, слегка волнуясь, вошел в небольшую, но довольно светлую переднюю. Здесь стоял еще один часовой. Пожилой усатый швейцар, чуть поклонившись, принял из рук генерала шинель и папаху.
– Морозно, – потирая ладони, сказал генерал.
– Так точно-с, ваше превосходительство, морозно, – согласился швейцар и добавил: – Дак это ж только начало. Рождество да крещенье покажут еще себя…
– Думаешь, покажут?
– Покажут, ваше превосходительство, покажут-с… Катанаев прошел в дежурную комнату, где находилось несколько пехотных, казачьих и флотских офицеров – адъютанты и очередные ординарцы… Здесь его встретил управляющий делами верховного правителя Тельберг, предупредительно вежливый и несколько суетливый человек.
– Очень хорошо, генерал, что вы пришли… Очень хорошо! – быстро проговорил и, попросив минуточку подождать, скрылся за дверью кабинета. Вскоре снова появился и мягко сказал: – Адмирал просит извинить его, он сейчас закончит разговор с генералом Артемьевым, новым командующим Иркутского военного округа…
– Как, разве там Волкова уже нет?
– Волков еще там, но… – развел руками управляющий. – Артемьев должен его заменить. Это уже не секрет.
– А что же Волков? – полюбопытствовал генерал. И Тельберг снова развел руками, дипломатично промолчав.
Наконец, Катанаев был приглашен. Колчак встретил его у двери, приветливо поздоровался. Однако лицо его при этом оставалось озабоченно-строгим и казалось несколько даже расстроенным. И в голосе адмирала тоже слышалась озабоченность:
– Простите, генерал, что побеспокоили вас. Причины сей спешки вам уже известны, министр юстиции, надеюсь, ввел вас в курс дела…
– Да, – подтвердил Катанаев, – в общих чертах.
– Вот и прекрасно. Это освобождает меня от излишнего предисловия, – оживился Колчак и тотчас, без пауз, заговорил о главном:
– Ваша популярность и ваш авторитет служат тому основанием. – Адмирал смотрел в лицо Катанаева и за время разговора ни разу не отвел глаз. – Помогите нам водворить порядок в Забайкалье. Это очень важно, генерал. Важно не только для Сибири, но и для всей России. И я нас прошу лично.
– Боюсь не сумею оправдать ваших надежд, – сдержанно высказал сомнение Катанаев. – Ни прокурором, ни следователем быть никогда не доводилось.
– И не надо. Прокурорской односторонности от вас и не потребуется. Разберетесь в деле объективно и разносторонне. Поверьте, генерал, лично я не хочу вражды с атаманом. Напротив, готов идти ему навстречу… если расследование покажет, что я был не прав, назвав его изменником Родины. – Адмирал помолчал, все также прямо и твердо глядя на Катанаева. – Впрочем, во всем остальном полагаюсь на вас. Уверен, что вы сумеете поступить в строгом соответствии с обстановкой и законом.
– Благодарю за доверие. Но вы не учитываете мой возраст…
– Ну, ваше превосходительство, вы еще хоть куда! – воскликнул адмирал и улыбнулся подбадривающе. – Подтянитесь, генерал, мы еще с вами послужим России! Да, вот еще что, – вспомнил и посоветовал. – Свяжитесь с министром путей сообщения Уструговым, он собирается на днях ехать во Владивосток. Можете присоединиться к нему. Думаю, в министерском поезде вам будет удобно…
Поезд действительно был хорош – с отдельным салон-вагоном, буфетом и кухней. Кроме Устругова и членов комиссии в поезде ехал английский генерал Нокс и несколько сопровождавших его офицеров. Компания подобралась веселая и дружная. Поезд почти нигде не задерживался – и через трое суток, что по тем временам казалось невероятным, прибыл в Иркутск. Отсюда и до Читы – рукой подать. Там на обширной территории Забайкалья раскинулось семеновское «царство».
Катанаев готовился к встрече с атаманом тщательно, со всеми предосторожностями, зная о том, что в поступках своих Семенов загадочен, непредсказуем и действует подчас грубо, ни с кем не церемонясь.
Генерал Нокс посоветовал, скорее предупредил:
– Надо приложить все силы для того, чтобы уладить этот конфликт. Как можно скорее! Даже если бы для этого пришлось отменить приказ номер шестьдесят… – добавил многозначительно. – В противном случае все это на руку большевикам. Борьба с ними становится все труднее, и русскому правительству незачем распылять свои силы…
Катанаев написал письмо Семенову, отправил его с нарочным офицером и стал ждать ответа. А министерский поезд ушел дальше.
В эти же дни произошло еще одно, быть может, не столь важное событие, которому газеты отвели всего несколько строк: «15 декабря с. г. военными властями арестован художник Г. И. Гуркин. Причины ареста неизвестны».
Адмирал брезгливо поморщился, прочитав сообщение, вернул газету Тельбергу и жестко сказал:
– Почему же неизвестны? Причины известны: художник Гуркин – враг России. Так и передайте редактору.
2
Зима круто набирала силу. Морозы сменились ветрами, задуло, завьюжило – и пошла гулять по Сибири вселенская пурга. Снегу навалило видимо-невидимо, сугробы сравняло с крышами домов.
Таким вот метельным вечером, часу в седьмом, когда вокруг ни зги, по одной из томских улиц пробирался человек с саквояжем в руках. Ветер сек и обжигал ему щеки, мокрым снегом залепляло глаза, и человек, то и дело сбиваясь с дороги и проваливаясь в рыхлых сугробах, шел медленно, с остановками, сильно клонясь вперед и отворачивая лицо от ветра. Сквозь вьюжную мглу изредка проглядывали слабые точки огней, как бы напоминавших о существовании иного, непостижимо далекого и прекрасного мира, доступного лишь воображению…
Наконец, человек добрел до какой-то ограды, с трудом отворил заметенную снегом калитку и, поднявшись на крыльцо, долго и настойчиво стучал в дверь. Прошло несколько минут, прежде чем там, в глубине сеней, хлопнула внутренняя дверь, послышались шаги и встревоженный женский голос спросил:
– Кто там?
– Это я, – ответил человек, – доктор Корчуганов.
– Ах, это вы, Николай Глебович? – облегченно воскликнула женщина, отворяя. – А мы, признаться, не ждали вас нынче. Такой несусветный ветер.
– Да, ветер изрядный, – согласился доктор, старательно сбивая, стряхивая снег с пальто и шапки. Потом он вслед за женщиной вошел в дом и постоял в передней, привыкая к теплу и свету, чувствуя, как все еще свистит и гудит в ушах… Лицо его было красное и мокрое, точно после бани, и он тщательно вытер его платком, отчего лицо покраснело еще больше, сделалось пунцовым…
– Да вы раздевайтесь, Николай Глебович, раздевайтесь, – мягко сказала женщина. Доктор с удовольствием освободился от мокрого пальто и, потирая озябшие ладони, внимательно посмотрел на женщину, подумав: «Вот человек, достойный самых высоких слов. Самых высоких!» Столько лет считают ее, Наталью Петровну Карпову, бывшую учительницу, секретарем Потанина, верной помощницей, а она еще друг, опора в личной его жизни… Впрочем, какая там у него личная жизнь!..
– Ну-с, голубушка Наталья Петровна, – ласково тронув ее за руку, сказал доктор, – вы, как всегда, бодрствуете. А как тут наш пациент поживает? – спросил негромко, однако дверь в смежную комнату была приоткрыта, и оттуда донеслось:
– Входите, доктор, входите! Какие нынче новости в городе? – Последние слова застали доктора уже в комнате, куда он вошел, держа под мышкою саквояж, остановился и неодобрительно-удивленно поглядел на сидевшего подле стола совершенно седого с жиденькой бородкой старика.
– А вот это и есть для меня первейшая новость, Григорий Николаевич, что вижу вас не в постели, – строго сказал. – Кто дозволил вам вставать?
– Так ведь я и не встаю, – кротко и виновато улыбнулся Потанин и как-то неловко подвигал, пошевелил плечами, остро выступающими из-под старого пледа, свисающего почти до пола. – Сижу вот. Да вы, право, не беспокойтесь. Уверяю вас, я чувствую себя вполне сносно.
– Ну что ж, – сказал доктор, щелкнув застежкою саквояжа, – поглядим. Поглядим, любезный Григорий Николаевич! – И долго, внимательно выстукивал и выслушивал его, приставляя трубочку-стетоскоп к груди. Затем точно так же простукал и прослушал спину, укоризненно-строго выговаривая: – Это мы поглядим, поглядим… Ишь взяли моду – наперед доктора прописывать рецепты. Нет, нет, любезный Григорий Николаевич, своевольничать я вам не позволю. Здесь больно? Нет. А здесь? – нажимал пальцами. – Тоже нет. Превосходно. Задержите дыхание. Тэк-с. Хорошо. Дышите. Поглубже. Еще глубже…
Потанин сидел, нахохлившись, как старая обескрылевшая птица, и молча, затаенно смотрел на доктора, твердившего свое излюбленное «поглядим» и продолжавшего манипулировать пальцами, прикосновения которых вызывали легкий озноб, и тело враз покрылось гусиной кожей…
– Вы что, озябли? – спросил доктор, от взгляда которого ничто, казалось, не могло ускользнуть. – Можете одеваться. – И сдержанно заключил: – Ну что ж, инфлюэнцу вашу мы устранили. Это вы и сами, надеюсь, чувствуете. Но полежать еще немного придется. Какой сегодня у нас день? Четверг. Вот до следующего четверга… Еще неделька – и встанете окончательно. Если, разумеется, не будете своевольничать и опережать события. Nuda veritas, как говорится: непреложная истина.
– Спасибо, – кивнул Потанин. – Постараюсь выполнить все ваши предписания. Только ведь вам, дорогой Николай Глебович, лучше моего известны причины моих недугов: девятый десяток за плечами – груз тяжеловатый. Как его снимешь, этот груз? Увы! Закон природы. Или, как вы изволили заметить: nuda veritas. Вот именно! А может, медицина имеет на этот счет иное мнение? – усмехнулся печально-иронически. – Панацею какую-нибудь, а?
– Имеет, – кивнул доктор, пряча стетоскоп в саквояж и поглядывая на Потанина сбоку, как бы со стороны. – Здоровье, Григорий Николаевич, надлежит беречь во всяком возрасте. А в нынешних ваших недугах возраст и вовсе ни при чем. Потому и разговор о нем вести не будем…
Неожиданно он умолк, придвинул стул и сел рядом с Потаниным, уронив руки между колен, чувствуя внезапный, почти обморочный прилив слабости, не физической даже, хотя и работал он в последнее время, доктор Корчуганов, по шестнадцать часов в сутки, а душевной, моральной усталости. Такое вокруг творилось – не приведи бог! Томск переполнен, наводнен беженцами. Население увеличилось почти вдвое, а жилья нет, провианта не хватает… На рынке четверть молока – сто рублей. Холод, голод, хаос и неразбериха. А тут еще ко всему вспыхнула эпидемия тифа. «Вошь съест человека», – сказал на днях один больной старик, которого уже нет в живых: вошь съела…
Страшно становится. Больницы переполнены. Люди гибнут, как мухи. Природа и та ожесточилась – вот уже которые сутки метет и дует, свету белого не видать.
Николай Глебович вспомнил недавний случай – у него и сейчас мороз по коже от той картины, которая возникла вдруг так живо и явственно, что он услышал звяканье ножниц… Стригли больного паренька, почти мальчика, с продолговатым, как бы заострившимся лицом, побитым оспою, точно дробью. Клочья темных волос падали на пол и тотчас, едва упав, начинали шевелиться и двигаться… Николаю Глебовичу показалось, что это у него от переутомления мельтешит в глазах. Но нет: остриженные волосы, падая на пол, тут же словно оживали… И тогда он все понял, понял и содрогнулся. «Вошь съест человека…» И хотя доктор Корчуганов и раньше не однажды сталкивался с бедственным положением сибирского населения, особенно пришлого, переселенческого, на долю которого более всего выпадало испытаний, сталкивался и немало сил отдавал борьбе с эпидемиями, стараясь облегчить участь несчастных людей, однако не представлял себе этого бедствия в столь огромных и ужасающих размерах, каким оно было сейчас, в конце восемнадцатого года… Тем непонятнее были разглагольствования приезжавшего недавно в Томск Вологодского: «Будем продолжать строительство русской жизни». Казалось кощунством говорить об этом сейчас, когда все рушилось, горело, превращаясь в пепел – словно повторялись Помпеи, только в гораздо больших и более трагических масштабах. Что можно возвести на этих руинах? Николай Глебович знал Вологодского давно, еще с тех нор, когда тот занимался адвокатской практикой и о «верховной власти» не помышлял. Вологодский одно время был даже вхож в дом Корчугановых, приятельствовал со старшим Корчугановым, Глебом Фортунатычем. Особенно сблизились они после нашумевшего в Томске процесса по делу об участниках демонстрации в тысяча девятьсот пятом году. Вологодский выступил тогда в качестве защитника, и Глеб Фортунатыч нередко потом говорил об этом, ставил его в пример: «Вот как надо защищать права народа!..»
Но с тех пор много воды утекло, многое изменилось: не было уже Глеба Фортунатыча в живых, и Вологодский был уже не тот, прежний адвокат… Николай Глебович встретил его три дня назад в больничном коридоре, где менее всего ожидал встретить, и несколько растерялся. Хотел пройти незаметно, но Вологодский его остановил и, выговорил:
– Нехорошо, нехорошо проходить мимо… Или не узнаете?
Николай Глебович вспыхнул, будто школяр, уличенный в нечаянной лжи:
– Отчего же… узнаю.
– Ну, здравствуйте, здравствуйте! – раскинув руки, Вологодский шагнул навстречу. – Как поживаете, Николай Глебович? Семья как? Надеюсь, все благополучно? Подумать только, последний раз мы виделись, если мне память не изменяет…
– Три года назад, – подсказал Николай Глебович.
– Да, да, три года… А кажется, было вчера. Помню все, как же… Помню, как ваша дочь, прелестная девочка, музицировала, такие пассажи выделывала на фортепиано… Почел бы за счастье снова услышать ее игру…
– Дочери нет в Томске, – сухо сказал Николай Глебович. Напыщенный тон Вологодского раздражал, хотелось ответить резкостью, но он сдержался. Хотелось рассказать, что случилось с дочерью, но он не стал делать и этого.
– Да, кстати, мне говорили, Потанин болен. Как его состояние?
– Ничего. Поправляется.
– Вот освобожусь и непременно зайду, попроведаю. Николай Глебович быстро и умоляюще глянул на него:
– Прошу вас этого не делать.
– Отчего же? – не понял Вологодский.
– Советую как врач. Потанин пока еще слаб, и всякие излишние волнения ему противопоказаны… – Сказал и подивился сказанному, столь неожиданно пришедшей в голову мысли, внезапному решению: оградить Потанина, во что бы то ни стало оградить от этих мелких и опасных людей, подобных Вологодскому… «Вот ведь никому не придет в голову, – подумалось вдруг, – ни с того ни с сего взяться за скальпель и, не будучи хирургом, решиться на самую даже простейшую операцию. Никто, кроме хирурга, за это не возьмется. А в политику норовят все. Нет, нет, надо оградить Потанина от этих людей. Только вот как оградить Потанина… от самого Потанина, поступки которого в последнее время вызывали недоумение, а подчас и вовсе не поддавались никакой логике?»
– Ну что ж, – согласился Вологодский. – Коли советуете… Советы врача – закон. А законы надлежит выполнять всем, даже главе правительства, – пошутил и сообщил не без удовольствия: – Между прочим, я ведь и в Томск приехал по совету врачей. Представьте: нашли переутомление и предписали двухнедельный отпуск. Пришлось подчиниться. Да я и сам это чувствовал: нужен отдых. После упразднения Директории пришлось работать особенно много…
«Отпуск? – удивился Николай Глебович, глядя на бодрого, розовощекового Вологодского. – Отпуск в тот момент, когда Россия истекает кровью, когда все вокруг рушится!..»
Однако спросил не о том:
– Отчего же Директория пала?
– Да оттого и пала, что не была единой по духу… А без этого… что ж, без этого, как говорится, каши не сваришь.
«Вот, вот, – подумал Николай Глебович, – вот и наварили каши. Кто только будет ее расхлебывать?» Но вслух опять сказал другое:
– Нынешний Томск мало пригоден для отдыха.
– Да, это верно, что мало пригоден, – согласился Вологодский. – Впрочем, у меня дела не только личные. Вам, должно быть, известно имя Катерины Сазоновны Болотовой?
– Нет, не имею чести знать.
– Богатая была особа. Скончалась недавно. А поскольку я состою душеприказчиком, по личному ее завещанию, то должен как следует распорядиться имуществом покойной. Думаю употребить его на нужды города, – сообщил не без удовольствия и даже какого-то самолюбования. – Полагаю все средства покойной пожертвовать на устройство больницы… Как находите мое решение, доктор? – прищурился весело и сделал руками такое движение, словно хотел привлечь к себе, заключить в объятия. Николай Глебович резко отстранился. И долго потом ему было не по себе от этой встречи и разговора с Вологодским, от этого откровенного, недвусмысленного его жеста. «Нет, нет, от этого филистера подальше надо держаться», – решил Николай Глебович и внимательно посмотрел на Потанина, сидевшего в прежней позе.
– Стало быть, так, – мягко сказал, возобновляя прерванный минуту назад разговор. – Недельку еще надо полежать.
– Если бы только недельку, – вздохнул Потанин. – И что за жизнь пошла! Того нельзя, этого не смей… Думать-то мне можно, доктор?
– Думать можно, – улыбнулся Николай Глебович. – И нужно, Григорий Николаевич.
– Благодарю вас. А читать?
– Читать можно. Читайте себе на здоровье. Все кроме томских газет, – прибавил не без ехидства. – Кои заврались окончательно. Лично меня тошнит от их писаний.
– Ага, выходит, сами-то вы почитываете газетки, а мне хотите запретить?
– Ради вашего здоровья, душевного равновесия. Потанин задумался, построжев.
– Благодарю вас, Николай Глебович, вы и вправду много хлопочете о моем здоровье. Только вот кому оно, мое здоровье, нынче нужно?
– России. Обществу.
– России? – печально-иронически усмехнулся Потанин. – Какой России? Какому обществу? Где оно, позвольте спросить, это общество? Нет, дорогой доктор, сегодня интеллигенция никому не нужна. Никому! Ни адмиралу, ни большевикам, ни эсерам… Какой толк, скажите, от того, если партийную диктатуру большевиков заменит партийная диктатура эсеров? И в том, и в другом случае сибирская автономия будет поглощена и раздавлена… Вот что из этого следует, дорогой доктор. А вы печетесь о моем здоровье, ищете средств, чтобы поправить его. Зачем? Поправлять надо другое…







