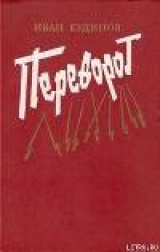
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Иван Кудинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
– Гуляю, – сказал Митяй. – А вы тут чего? Иду и вижу: копаете. А чего копаете – не пойму.
– Могилу, дядька Митяй, копаем…
– Моги-илу? – не поверил Митяй, понимая, что все это не так и что назначение столба и ямы, безусловно, иное, но какое – это было ему пока неясно, потому и подхватил он этот шутливый тон, надеясь исподволь, окольна выведать и самое правду. – Дак это кого ж вы собрались хоронить в этакую рань?
– А мировой капитализм, – ответил Степан, чем еще больше сбил Митяя с панталыку. – Оплакивать не будешь?
– Кого? Капитализму? – фыркнул Митяй. – Дак я ее, Степа, ежли што, вот этими руками… А столб-то зачем? Осиновый кол надо.
– Это не просто столб, – пояснил Степан. – Это мы Советскую власть устанавливаем – раз и навсегда. Понял?
Митяй крякнул, покашлял в кулак и сердито проговорил:
– Ну, будя, будя голову-то морочить. Скажи правду.
– Правду и говорю.
И скоро знала об этом вся деревня: Степан Огородников установил в Безменове Советскую власть. Как гром с ясного неба обрушилась новость. Никто не думал, не гадал, а главное – никому в голову прийти не могло, что именно так утверждается Советская власть: явились братья Огородниковы, поставили на самом видном месте, на бугре подле церкви, прямой и высокий столб, покрасили его в бордовый цвет, будто яичко ко христову дню, прицепили к столбу красную тряпку – и готово! А что дальше? Или, может, все на этом и кончится? Даже вездесущий Митяй Сивуха, глядя на этот столб, растерянно покрякал и засомневался: «Дак это скоко таких столбов надо поставить по всей России, со счету собьешься, поди?»
– Ничего, дядька Митяй, не просчитаемся, – успокоил его Степан. – Вся Россия и будет в красных флагах. А дальше – и того больше! – продолжал развивать эту мысль Степан, когда на площади этой народ собрался. Поначалу пришли самые нетерпеливые и любопытные, дабы своими глазами увидеть – как это, с чего начинается Советская власть? Иные близко не подходили и долго не задерживались: глянут издали – и назад, подальше от греха. Мало ли как может обернуться! А береженого – и бог бережет. Иные же и вовсе обходили стороной, чтобы не видеть, либо украдкой поглядывали из своих оград – нехай, мол, забавляются, а мы поглядим, как там у них дальше пойдет.
– А дальше будет так, – словно улавливая настроение односельчан, говорил Степан, обращаясь к собравшимся. – Под этим красным флагом будем строить новую жизнь… Советскую власть будем строить.
– Разве это флаг? – выкрикнул кто-то насмешливо. – Обыкновенный красный лоскут… от старой бабьей юбки. Матушка твоя, поди, носила, а вы из нее флаг… Или другого материала революция не имеет?
Степан вспыхнул и поискал глазами крикуна. А тот и не прятался: стоял впереди, в десяти шагах от Степана, открыто и вызывающе посмеивался, молодой и лобастый, как годовалый бычок, и вид у него был такой, будто он и впрямь бодаться приготовился, голову наклонил… Степан не знал его (многих молодых безменовцев, выросших за эти годы, он не узнавал) и, повернувшись к брату, спросил:
– Кто это?
– Федот, сынок барышевского маслодела Брызжахина, – ответил Пашка. – Гимназию в Бийске кончает. Грамотей.
– Ясно, – кивнул Степан. – Федот, да не тот! – И глядя теперь прямо в лицо молодого Брызжахина, слегка повысил голос: – Насчет флага могу сказать: придет время – из самолучшего материала сделаем. И жизнь перекроим так, что кое-кому потесниться придется, а то и вовсе место уступить… Ибо флаг этот, – взмахнул и повел рукой, – революционный красный флаг поднят не на один день, как думают некоторые, а навсегда. И защищать этот флаг мы будет крепко! И не голыми руками, – добавил внушительно и посмотрел туда, где только что был Федот Брызжахин, но того и след простыл, точно ветром сдуло, а на его месте стоял Михаил Чеботарев, по-хозяйски прочно и широко расставив ноги, засунув руки в карманы распахнутой солдатской шинели, и во все лицо улыбался: дескать, правильно говоришь, Степан, очень даже верно! Будем бить и в хвост, и в гриву этих мироедов.
Степан был доволен вовремя подоспевшей поддержкой.
А в том же часу Барышев, зайдя к отцу Алексею, сердито выговаривал:
– Дождались! Рядом с храмом святым столб вкопали, тряпицу красную вывесили, а мы отсыпаемся… Куда годится?
– Какую тряпицу? – батюшка моргал растерянно, еще не проснувшись окончательно, вид у него, прямо сказать, был несвежий, помятый, на правой щеке багровел рубец от подушки, куриное перо запуталось в волосах…
– А такую, – буркнул Илья Лукьяныч. – Митингуют фронтовички. Федотка Брызжахин там был, дак и рта раскрыть не дали.
Батюшка потер дрожащими пальцами виски, виновато покосившись на ковш с рассолом, стоявший на столе.
– Свобода, вишь ли… – вздохнул, поколебался немного и, взяв ковш, жадно отполовинил. – Свобода, вишь ли, нужна супостатам. Вот и дерут глотку, христопродавцы!..
– Свобо-ода, – передразнил Барышев. Он стоял у порога, даже не сняв шапки, и проходить, кажется, не собирался. – Смотри, как бы они тебя самого, святой отец, не взяли за воротник да не выкинули из храма…
– Типун тебе, – вяло отмахнулся батюшка, осуждающе-грустно глядя на Барышева: «Сам тоже хорош – зашел в дом, лба не перекрестил». – Разболокайся, Илья Лукьяныч, да проходи в горницу, – а то стоим, аки два пня.
Пни и есть. Носа боимся высунуть на свет божий, слова молвить не смеем.
– Слова-то кабы помогали…
– Это смотря как ты их скажешь. Или православный народ, паства безменовская, уже и не ставит ни во что слово твое, святой отец? – жестко-насмешливо смотрел на батюшку. – Ну что ж, будем слушать проповеди Степки Огородникова, коли так…
Батюшка поморщился, опять потер виски ладонями.
– Опьянели от свободы мужики, – со вздохом сказал. – Слыхал я, в Бийске один такой говорун высказывался: это, говорит, у нас вторая пасха. Через первую пасху, говорит, мы избавились от дьявола не видимого, а через вторую – от дьявола видимого, сиречь от царского ига, от слуг его проклятых и от вас, говорит, святые отцы, тоже избавимся. Вот до чего договорились! А какая ж это свобода? Не свобода это – обман. Мнится мне, – понизив голос, доверительно продолжал, – мнится мне, что в наказание за грехи тяжкие господь отнял у людей разум. Вот и безумствуют, сами не ведая, что творят.
– А это, батюшка, ты не мне говори, – усмехнулся Барышев, – это ты им скажи, пастве безменовской. Так, мол, и так, опомнитесь, пока не поздно… Скажи, чтобы до печенок проняло. Чтобы после твоих слов никто б и слушать не захотел бредни Степки Огородникова. Или духу не хватит?
Отец Алексей допил рассол, опорожнив ковш, и шумно выдохнул:
– Про дух-то, Илья Лукьяныч, ты того… Знаешь, поди, меня. Скажу все, как надо.
Ночью Степан вышел во двор. Было темно и тихо. Вынырнувший из темноты Черныш ткнулся ему в колени, радостно повизгивая. Степан потрепал его но загривку. И вдруг явственно различил в ночи звуки, словно где-то неподалеку пилили – осторожно так, с промежутками: попилят немного и остановятся, тоже, наверное, прислушиваясь… И снова: вжик-вжик. «Постой, так это ж там, на площади… – будто кто подтолкнул Степана. – Столб пилят!» – догадался он. И, больше не раздумывая, выскочил из ограды и кинулся в темноту, словно головой в омут. Черныш обогнал его и с громким лаем помчался впереди, всполошив и подняв других собак. Степан бежал, высоко вскидывая ноги, нащупывая в кармане бушлата револьвер. Темнота уже не казалась столь кромешной и непроглядной – различимыми стали дома, заплоты, мимо которых он бежал, бухая сапогами по мерзлой дороге. Там, на пригорке, тоже, должно быть, почуяли неладное и перестали пилить. А Черныш уже налетел, осадил их, неистово лая, и кто-то там выругался, бросив чем-то в него. Степан взбежал на пригорок и увидел, как три или четыре темные, безликие фигуры кинулись прочь. Собаки преследовали их, выделялся отчаянно-басовитый голос Черныша. Кто-то из убегавших споткнулся, упал, тут же вскочил и кинулся вправо, через пустырь…
– Стой! – закричал Степан. И выстрелил наугад, неприцельно. Кто-то из убегавших вскрикнул, матюкнулся… Преследовать дальше не было смысла – они уже скрылись в темноте. Собаки лаяли где-то за сборней, удаляясь к реке. Степан остановился подле столба, провел рукой сверху вниз по его прохладной шероховатой поверхности и почти у самого основания нащупал узкий надрез. Рядом на комковатой стылой земле белели опилки. Степан слегка надавил на столб, проверяя, насколько глубок надрез, однако столб держался крепко.
Вернулся Черныш, часто и шумно дыша, нетерпеливо поскуливая. Степан погладил его, успокаивая, и сам понемногу остывал, успокаивался.
– Ну вот, брат, – вслух сказал, – первую атаку отбили.
Вечером того же дня собрались в доме Кулагина Михея братья Огородниковы, Мишка Чеботарев да Митяй Сивуха со своим сыном Федором. Последним явился Андрон Стрижкин. Митяй глянул на племянника с усмешкой:
– Чего ж один?
– А мне поводыри не нужны.
– Семка-то чего ж не пришел? Или от юбки крали своей не может оторваться?
– Это у него надо спросить. О-о! – воскликнул Андрон, увидев за дверью, в углу, на соломенной подстилке, рыженького, еще не просохшего теленка. – Да у вас тут, гляжу, прибавка! Ишь какой лобастый.
Михей улыбнулся, но вышла не улыбка, а гримаса – кожа на лице, исполосованном шрамами, натянулась, рот болезненно повело, и Михей, чувствуя это, покраснел, мучительно напрягаясь:
– С-седни… н-народился.
Стеша, жена его, тотчас отозвалась из кути, от печки:
– Переходила она нынче, красуля-то наша, больше двух недель. Зато вон и телочку принесла.
– Хорошая телочка, – похвалил Андрон. – Ведерницей будет. Вот и заживете тогда!
– Куда там, – вздохнула Стеша. – Нам сроду не фартило.
– Ничего, на этот раз пофартит, – утешил Андрон и подмигнул ребятишкам, свесившим с полатей кудлатые головы. – Вон какие гренадеры. Помощники. Раз, два, три, четыре… Сколько их? Со счета сбился! – захохотал. И Стеша тоже повеселела:
– Помощники-то эти только за столом и хороши… Да уж ладно, чего там, – глянула на мужа и как бы одернула, окоротила себя. – Чего там, жили – не померли, даст бог, и дальше проживем. Проходи, Андрон. Сейчас вот молозиво сварю, потчевать вас буду.
Гости перешли в маленькую горничку, устланную узкими пестрыми половиками, и Михей, придерживая пустой рукав, сел рядом со Степаном.
– М-маловато нас п-пока…
– Ничего, – сказал Степан, – будет много.
– Ну а дальше как быть, что будем делать? – спросил Андрон.
– Дело у нас одно: Советскую власть защищать. А то она кое-кому поперек горла, вот и злобствуют… Прошлой мочью вон столб пытались подпилить, исподтишка действовали.
– Кому это он помешал?
– Темно было, не разглядел. Но, думаю, на этом они не успокоятся. Так что нам, товарищи, надо быть начеку и держаться вместе.
– Дежурство надо установить, – предложил Чеботарев. – Тогда они не сунутся. Поймут, что флаг охраняется…
– Может, и охрану, – кивнул Степан. – Главное, чтоб они другое поняли: действуем мы сообща, а не в одиночку. И вообще, товарищи, прошу вас никаких самостоятельных непродуманных действий не предпринимать.
– Это само собой, – поддержал Михей. – Действовать н-надо сообща.
– Так что, товарищи, – подытожил Степан, – отныне боевой союз… Союз фронтовиков должен все силы направлять на защиту революции и постоянно пополнять свои ряды за счет сознательных граждан.
– Постой, – всполошился Митяй. – Это что же получается: ежели я не фронтовик, мне, стало быть, и ходу нету в союз? А может, я и есть самый что ни на есть сознательный…
Степан улыбнулся:
– Не беспокойся, нынче революционный фронт повсюду, по всей России, потому каждый, кто защищает Советскую власть – и есть самый настоящий фронтовик, – вышел из положения. – Вот я и предлагаю создать у нас в Безменове союз фронтовиков. Теперь главный вопрос, – озабоченно прибавил. – Вопрос об оружии, товарищи. Сами понимаете, что без оружия нам нельзя…
Март был на исходе. И словно оттого, что срок его истекал, ярился он вовсю. Утрами солнце вставало все раньше и раньше, будто спешило наверстать упущенное, а к полудню пригревало так, что с крыш уже не капало, а текло… Сугробы, точно дробью побитые, с треском и шорохом оседали, рушились, уменьшаясь прямо на глазах, и первые ручейки, по-цыплячьи проклюнувшись сквозь ноздреватую снежную скорлупу, весело побежали из подворотен…
Степан вышел во двор, остановился, щурясь от обилия света – блестело все вокруг до рези в глазах. Голову кружил хмельной воздух. «Весна-а», – подумал Степан, вкладывая в это слово особый, лишь ему понятный смысл. Подошел отец, достал из кармана кисет, проговорил озабоченно, словно разгадав его мысли:
– Больно ранняя нынче весна. Пятнадцатое марта, а гляди, что творится!
– Почему пятнадцатое? – посмотрел на отца Степан. – Двадцать восьмое. Или ты все еще держишься за старое? Забыл, что с первого февраля перешли на новый стиль?
– Кто перешел, а кому и без надобности, – отмахнулся отец. – Придумали – время передвигать… Зачем? Было пятнадцатое, стало двадцать восьмое… Зачем? – еще раз спросил.
– А затем, чтобы жить по-новому.
– Мужику все одно – пятнадцатое или двадцать восьмое. Приспеет время – начнет пахать да сеять, а коли не приспеет, дак и на числа смотреть не будет. Было бы что сеять, – вздохнул, задумчиво глядя в сторону. – Вот сколько пустошей за войну образовалось. Да, не скоро теперь одюжеют люди, не скоро. Сколь ушло мужиков, а воротилось?…
– Помочь надо солдаткам, – сказал Степан.
– Чем ты им поможешь? Мужиков не вернешь.
– Ясно, что не вернешь. – Степан подошел ближе и встал рядом с отцом. – Но поддержать надо. Мы тут кое-что придумали.
– Кто это вы?
– Союз фронтовиков. Решили нынче вспахать да засеять несколько десятин для помощи солдатским вдовам.
Отец удивленно посмотрел на него:
– А где ж вы пахать собираетесь?
– Сам же говоришь, пустошей много. Или на бывшей церковной пашне… Небось господь не станет препятствовать доброму делу?
– Господь, может, и не станет, а вот слуги господние воспрепятствуют…
– Отец Алексей, что ли?
– И отец Алексей. И тот же Епифан Пермяков, первейший подсевала его. Да они из глотки вырвут, а своего не отдадут.
– Свое пусть не отдают. А мы возьмем свое.
– Чем же вы докажите, что это ваше?
– А это уже революция доказала. Слыхал про такой декрет: вся власть Советам, а земля – крестьянам?
Отец хмыкнул и ничего больше не сказал, не успел сказать. В ограду влетел Пашка, вид у него был взъерошенный, лицо красное, будто он только что побывал в свалке, на кулачках бился.
– Слыхали? – спросил еще от ворот. – Там такое творится, такое… Фу! – выдохнул. – Барышев школу закрывает.
– Как это закрывает?
– А так: дом, говорит, мой, давал я его под школу временно, вот, говорит, и кончилось это время… Мужики просят повременить, а он уперся и ни в какую: освобождайте – и все!
– Вот вам и декрет, – усмехнулся отец. – Плевал он на ваш декрет, Илья-то Лукьяныч, у него свои декреты…
Степан глянул на отца, но ничего не сказал – так поразила его эта новость. «Значит Барышев решил идти напрямую», – подумал Степан и кивнул брату:
– Пошли. – И уже шагая по талому, хлюпающему снегу, тихо и яростно проговорил. – Ну, мы ему покажем школу… Он что говорит-то хоть, зачем ему дом?
– Под склад хочет приспособить, – пояснил Пашка дрожащим от волнения и негодования голосом. – Складов да амбаров у него, гляди-ко, не хватает. Погоди, он еще и не такое удумает, лишь бы Татьяне Николаевне не дать житья, выдворить ее из Безменова.
– Учительница что… дорогу ему перешла?
– То-то и оно, что перешла! – горячо ответил Пашка – Вот он теперь, Барышев-то, и точит зубы на нее.
А случай тому предшествовал вот какой. Весной прошлого года нежданно-негаданно открылось культурно-просветительное общество. Что это за общество – никто толком не знал. Общество имело название, но работы никакой не вело: то ли некому было ее вести, работу, то ли те, кому надлежало ее вести, не знали, с какого боку подступиться. Организаторы же приехали, объявили это «общество» открытым, пообедали в доме новоиспеченного председателя-культурника Ильи Лукьяныча Барышева и убрались восвояси, сочтя дело сделанным. А по деревне пошли суды-пересуды: больше всего безменовцы опасались того, что «общество» потребует новых расходов… Бабы охали и ахали при встречах, пугали друг дружку: «Ужо погодите, запишут нас в это обчество – тады зубы на полку поскладаем и песняка запоем… навроде вон Митяя Сивухи».
Но время шло, а перемен особых не наблюдалось. Барышев не спешил «культурными» делами заниматься, хватало у него и других дел. И к «обчеству» мало-помалу привыкли, а попросту о нем и вовсе забыли. Подоспел сев, за ним сенокос, не до того было. А летом произошло еще одно событие: приехала новая учительница – и первым делом пошла по дворам. Ни одного дома не пропустила, в каждый зашла, поговорила и в тетрадочку записала: сколько у кого детей да какого достатка семья, жив ли и есть хозяин, глава семейства, кормилец, или несчастная баба одна с ребятней горе-нужду мыкает. И очень переживала и сокрушалась учительница, что нет в Безменове помещения для школы. Давно уж безменовцы собирались школу построить, да так и не собрались – война помешала. Ладно еще Барышев смилостивился и уступил свой старый дом, не больно велики хоромы, но за неимением лучшего – и это хорошо. Татьяна Николаевна постаралась – и к началу занятий класс привели в порядок. Бабы помогали: кто подбеливал, кто скреб, мыл, протирал – столько грязи вывезли! Мужики сколотили парты. А Митяй Сивуха новую дверь навесил, чтоб зимой не задувало. И дров заготовили, навозили долготья. Тут уж и парни молодые вложили свою лепту – распилили, покололи и в поленницы сложили. Тянуло их теперь сюда как магнитом, безменовских парней, и они готовы были пропадать здесь денно и нощно – не было дел, искали заделье. И находили. Татьяна Николаевна помогала: отведет, бывало, уроки, отпустит детей, а вечером, глядишь, светится огонек в школьных окошках. И опять слухи ползут по деревне: приворожила парней да девок учительница. А чем приворожила? Бывало, об эту пору парни да девушки на улице хороводились, песни-припевки под гармошку на всю деревню базлали, а нынче тихо. И свет в школьных окнах горит за полночь. Чем они там занимаются? Потянуло и взрослых, пожилых заглянуть на огонек – узнать, утолить любопытство. Первым явился Митяй Сивуха, зашел и засиделся вместе со всеми…
При тусклом неровном свете – керосина не было, жгли лучину – в синеватом чадном полусумраке лица собравшихся расплывались. Татьяна Николаевна, кутаясь в шаль, сидела за столом, перед ней лежала раскрытая книга, она читала, и голос ее звучал певуче и завораживающе: «Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам пополить своей Дуне ехать вместе с гусаром», – читала она, придерживая страницу двумя пальцами. Пашка Огородников сидел сбоку стола, на табуретке, и держал горящую лучину так, чтобы свет от нее падал на книгу, слушал чтение и следил одновременно, чтобы лучина не погасла – когда она догорала, брал другую и поджигал от старой. Лучина, потрескивая, вспыхивала, красные отблески падали на книгу, подрагивали на лице учительницы, и какое-то мгновенье Пашка внимательно смотрел на ее лицо, не в силах отвести взгляда. Он готов был всю ночь напролет сидеть и жечь лучину за лучиной, слушая завораживающе мягкий, певучий голос учительницы: «Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. – Тут учительница сделала паузу. Пашка тем временем поджег новую лучину. Выло так тихо, что потрескивание лучины казалось единственным звуком, нарушавшим эту тишину. Слушатели сидели, затаив дыхание, боясь пошевелиться, и с нетерпением ждали продолжения. – Наконец к вечеру приехал он, – со вздохом произнесла Татьяна Николаевна, будто не книгу она читала, а рассказывала виденное и пережитое ею самой, – один и хмелён, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром». Старик не снес своего несчастья; он тут же слег и в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик…»
Когда чтение было закончено, некоторое время в каком-то оцепенении сидели молча. Потом кто-то вздохнул:
– Жалко Дуниного отца…
– И Дуню жалко. Она ж не виновата…
– А кто виноват?
Татьяна Николаевна улыбнулась, медленно отвела со лба светлую прядку, и Пашка, проследив за этим ее движением, вдруг подумал о том, что он бы тоже увез учительницу на край света, как тот гусар Дуню, не посчитался бы ни с отцом, ни с матерью… Да разве это сбыточно!
– Не будем судить героев наших, – мягким и проникновенным голосом говорила Татьяна Николаевна, – а попытаемся их понять, отца и Дуню, ставшую жертвой обстоятельств…
Пашка невысказанно и горячо смотрел на учительницу и не заметил, как догорела в руке лучина, пламя лизнуло, обожгло пальцы, он дернулся, уронив лучину, и класс погрузился в темноту.
Кто-то засмеялся:
– Чо, Паша, жгется?
– Эй, у кого серянки?
– Не надо зажигать, – сказала учительница, и голос ее в темноте показался Пашке еще нежнее и мягче, сердце у него зашлось от волнения. Домой он возвращался один, шел медленно, будто нехотя. Ныл обожженный палец. И неотвязная мысль не выходила из головы: что делать? Ведь он же никогда не сможет ей признаться, а сама она, Татьяна Николаевна, никогда об этом не догадается. Что же делать? С этим неразрешимым вопросом он и вернулся домой, лег спать и даже во сне не мог избавиться от горького чувства неразрешимости.
А на другой день, вечером, когда опять собрались в школе и Татьяна Николаевна заняла свое привычное место за столом, положив перед собой книгу, Пашка уже сидел сбоку, на табуретке, словно ангел-хранитель, и лучина, разгораясь, сухо потрескивала в его руке.
Дверь в это время отворилась, и в класс вошел Барышев. Все разом повернули головы и уставились на него, соображая, должно быть, зачем припожаловал в столь поздний час этакий важный гость. Татьяна Николаевна тоже смотрела на Барышева с интересом и удивлением, понимая, что приход его не случаен, и ей немножко стало не но себе. Лучина в Пашкиной руке вовсю полыхала, и он, чтобы осадить огонь, поднял горящий конец кверху…
– А я иду мимо и вижу: дым из школы… – с усмешкой сказал Барышев. – Неужто, думаю, пожар? Вот и зашел. Мое вам почтение! – кивнул Татьяне Николаевне. – Не помешал?
– Пожалуйста, проходите.
– Благодарствую. Но я на одну минутку. Слыхал я, что вы посиделки устраиваете, читкой занимаетесь… А какая читка при таком свете?
– Что делать, керосину нет…
– Будет скоро! – тряхнул чубом Витюха Чеботарев. – Каждый расстарается понемногу… вот и будет.
– Как говорится, с миру по нитке, – усмехнулся Барышев. – Выходит, теперь у нас в деревне два общества: культурно-просветительное, вот это… ваше, прошу прощения, – глянул на Татьяну Николаевну, – не знаю, как оно называется?
– Названия пока нет. Называйте, если хотите, – улыбнулась Татьяна Николаевна, – просто: кружок передовой молодежи.
– Ишь ты, передовая молодежь… – качнул головой Барышев и повел густыми ползучими бровями, окидывая взглядом собравшихся здесь. – Дело, конечно, хорошее. Только зачем нам в Безменове два общества иметь?
– А где оно, второе-то общество? – ехидно спросил Витюха. – Одно название, а общества что-то не видать. Может, с лучиной поискать?
– Зачем же с лучиной, – спокойно ответил Илья Лукьяныч и при этих словах стал разворачивать сверток, который держал в руках, точно спеленутого ребенка, бережно развернул и вынул, наконец, бутыль. – Зачем же с лучиной? Вот керосин. А ну, кто поближе да посмелее… Ты, что ли, Витюха? Давай лампу.
Мигом принесли лампу. И Витюха проворно заправил ее, налив керосину, потуже завернул решетчатую головку, зажег, надел стекло и вывернул побольше фитиля. Ровный свет наполнил класс, как бы раздвинув его и сделав просторнее, шире, окна же налились дегтярного чернотой. И облегченный вздох вырвался:
– Светло-то как!
Только Пашку такой поворот, кажется, не обрадовал. И он какое-то еще время сидел, не выпуская из рук горящей лучины, то ли забыв о ней, то ли не желая гасить.
– Смотри, опять пальцы ожгешь! – предупредил острый на язык Витюха. Пашка молча задул ненужную теперь лучину и встал, чувствуя себя тоже ненужным более, насмешливо и грубо отодвинутым в сторону… Подумал с горечью: да ведь ей, Татьяне-то Николаевне, поди, и неважно, кто тут сидел подле нее и жег лучину? Пашка вздохнул и, подавляя в себе обиду и стыд, прошел в самый конец и сел на последнюю парту, опустив голову.
А Барышев между тем говорил:
– Ну вот, при таком-то свете и книжки читать способнее, и с глазу на глаз поговорить… Вот и давайте поговорим, – вышагнул вперед и стоял теперь посреди класса, заложив за спину руки, точно учитель перед учениками. – И перво-наперво вот о чем. Хочу вас просить: давайте, как говорится, полюбовно объединимся и будем работать сообща. А два общества нам ни к чему.
– Дак это что, Илья Лукьяныч, – спросил Витюха, посмеиваясь, – похоже, вы сватать нас пришли? А приданое-то будет?
– А как же! О том и речь, – не растерялся Барышев. – Вот послушайте, – искоса глянул на учительницу, как бы и ее призывая в свидетели. – Послушайте, что я скажу. А скажу я вот что: общество без средств – не общество. Какое ж то общество, если оно не имеет денег на керосин? Это я не в упрек, – предупредительно поднял руку, – и не в обиду вам говорю. Так что погодите перебивать. А то вон Витюха, гляжу, и рот уже раскрыл.
– Дак это я от ваших сладких посулов, Илья Лукьяныч, рот-то растворил, – ответил Витюха. – Аппетит разыгрался. Никак не дождусь, чего вы нам еще подкинете. За керосин спасибо, конешно.
– Тихо, прошу вас, – мягко сказала и чуть улыбнулась при этом Татьяна Николаевна. – Давайте послушаем.
Барышев подождал.
– Так вот я и говорю: общество у нас культурно-просветительное, как же ему без средств? Никак. А на что построишь библиотеку-читальню, скажем, или народный дом? На какие такие шиши? И не смотрите на меня такими глазами: чего это он, мол, тут мелет, Барышев… Нет, говорю правду. Все это возможно. Только при одном условии: если вы меня поддержите.
– Что же вы предлагаете? – поинтересовалась Татьяна Николаевна. Барышев помедлил:
– Предлагаю купить мельницу.
– Мельницу?! – воскликнул кто-то удивленно и, не выдержав, засмеялся. А Витюха Чеботарев не преминул вставить:
– Это что же, на мельнице-то, под стук жерновов, мы будем громкие читки устраивать да спектакли ставить?
– Мельница, ясное дело, не для спектаклей. На мельнице зерно молоть способнее, – терпеливо объяснял Барышев. – А за помол, как известно, плата хорошая взымается. Около рубля с пуда по нынешним расценкам. Да гарнцевая прибавка.[1]1
В данном случае – доплата мукой.
[Закрыть] Вот вам и денежки!
– Дак мельницу ж еще купить надо.
– Ясное дело, даром ее не дадут. Есть тут одна на примете. Шубинский мужик продает.
– И сколько он за нее?
– Восемь тыщ просит.
– Ого!
– А вы не пугайтесь. Глаза боятся, а руки делают. Тыщи три-четыре можно взять в кредит, остальные из своих вложу. Дело выгодное.
– Смотря для кого, – подал голос Пашка. – Мельница-то чья будет?
– Общая. Исполу будет содержаться, на паях. Стало быть, половина дохода обществу пойдет…
– А другая половина кому?
– Там видно будет. Не о том сейчас речь.
– А не получится так, что вторая-то «половина» больше окажется? – поддел Витюха. Это уже было слишком Барышев даже покраснел от возмущения:
– Половина – она и есть половина. А вы, гляжу я, не поняли моих намерений. Извиняйте в таком разе, – повернулся к учительнице. – Очень сожалею, Татьяна Николаевна, что и вы меня не поддержали.
– Отчего же, лично я не против библиотеки и народного дома, считаю, что и школу давно пора построить в Безменове. Только что может сделать наш кружок? Средств мы, действительно, не имеем. Даже на керосин. Идея с мельницей, может, и хороша, да не по карману.
– Деньги – не ваша забота.
– Да, да, разумеется. Хотя, по правде сказать, есть изъян и в вашей идее. Нельзя смешивать культурно-просветительную работу с коммерческими делами…
Барышев холодно и насмешливо посмотрел на учительницу, густые ползучие брови его дернулись и сцепились над красным бугристым переносьем, и он, утрачивая прежнюю свою солидность и уравновешенность, медленно, сквозь зубы процедил:
– А мне кажется, Татьяна Николаевна, хоть вы и образованная, не нам чета, а текущего момента не понимаете. Просветительство без денег – пустое занятие. И еще скажу: боитесь вы, Татьяна Николаевна, упустить из рук занятие свое…
– Да что вы такое говорите? – вспыхнула Татьяна Николаевна. – Какое занятие?
– Боитесь, боитесь, – жестко и с каким-то даже наслаждением повторил Барышев. – Вот и забиваете им головы разной чепухой, – кивнул на сидевших в классе парней и девчат. – А предлагают вам дело, вы руками и ногами отбиваетесь. Ну, глядите, только не проглядите… Жалеть будете потом.
И вышел, хлопнув дверью.
Мельницу Барышев так и не купил. Видно, были на то свои причины. А вот мысли о том, чтобы вырвать из-под влияния учительницы безменовскую молодежь, особо парней, Илья Лукьяныч не оставлял и делал для этого все возможное. Правда, с закрытием школы у него получился перебор, тут поступил он, пожалуй, опрометчиво – погорячился и оплошал. Силы свои переоценил. Но в тот момент, когда решался на этот шаг, думал об одном: поставить шантрапу безменовскую на место, показать, кто он есть среди них, Барышев, чтобы высоко не заносились. Да, видно, самого занесло.
Когда Степан и Пашка подошли к школе, шуму там было, хоть уши затыкай. Вверху, над старой кряжистой ветлой, гомонили ошалело галки, гоняя по кругу залетевшую, должно быть, ненароком ворону, и та, злобно отбиваясь и каркая, никак не могла вырваться из этого круга Перья летели от нее и сыпались вниз…
А подле крылечка, на рыжей проталине, толкались мужики, размахивали руками и громко о чем-то спорили. Степан подошел и, сдержанно усмехаясь, поинтересовался:
– Что за шум, а драки нет?
– Только и осталось пустить в ход кулаки, – разгоряченно отозвался Митяй Сивуха.
– Кулаками размахивать ума не надо, – затравлено зыркая по сторонам, сказал Барышев. Случайно, а может и не случайно стоял он не рядом со всеми, а на ступеньке крыльца, возвышаясь таким образом над остальными, и Степан посмотрел на него через головы мужиков, топтавшихся на мокрой осклизлой подталине, и подумал, что нет, не случайно Илья Лукьяныч оказался выше других – без расчета он ничего не делает. Значит, и ему, Степану Огородникову, тоже действовать надо с расчетом. И решительно.







