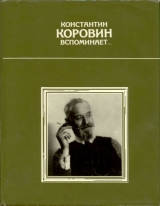
Текст книги "Константин Коровин вспоминает…"
Автор книги: Илья Зильберштейн
Соавторы: Владимир Самков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 53 страниц)
Ну, ходил я очень много, чуть не замерз, зимой-то трудно, – принес барыне тетеревов. Она меня встретила нарядная такая, красивая, и говорит: «Чего это вы принесли больших таких? Мне маленьких птичек надо». – «Каких, – спрашиваю, – сударыня?» – «Ну, как – каких? Рябчики, кажется, называются». Вот и поди, как быть? Да, вот я слыхал от господ охотников, что есть такой Тургенев. Любил он нашего брата, охотников простых – читали мне, Ермолай был такой. Про нас книжку составил Тургенев-то. Я плакал, когда читали, хороша книжка, – сказал Дубинин и задумался.
И мы тоже тогда неизвестно почему задумались.
Наступили сумерки. Вдали сквозь серое небо светила красная полоска зари. Дианка оставила щенят, подошла к нам и ласково глядела. Дубинин покрошил хлеб в черепок и налил молока.
– Есть хочет, кормить детей надо, – приговаривал он. – Тоже пяток их, засосут.
Мы погладили Дианку, она опять ушла в уголок к щенятам. Как все просто, и как понятно, и как нужно.
К окошку подошла женщина и постучала в стекло. Дубинин открыл половинку окна и протянул руку с краюхой хлеба. «Благодарю, – сказала женщина, – я спросить хотела, где здесь Дубинин живет?»
– Я самый, – ответил Дубинин.
– Вот, вот, обрадовалась женщина, живу-то я одна-одинешенька у водохранилища. Сказывали мне, что сука у вас ощенилась, мне бы одного дали, все поваднее жить, вроде как дитя будет. А то одна, все померли, сына вода отняла по весне.
– Ладно, матушка, – сказал Дубинин, – приходите через недельку, а то малы больно.
Женщина развернула платок, вынула просфору, подала Дубинину и ушла.
– Эти-то, Дианки-то щенки, ей не годятся, – сказал Дубинин после ее ухода. – Что же им со старухой жить? Они охотники. Я ей найду, есть этакие-то, которые ее сторожить будут, прелюбезные.
И Дубинин тихо рассмеялся.
Тайна
Недалеко от дома моего, в деревне, протекала речка Нерль. Небольшая речка.
Она шла, извиваясь, узкая и быстрая, в красивых берегах, то около песчаной осыпи, покрытой хвойным лесом, то у самого леса, переходила луга и большие болота, входила в большие плесы и в глубокие бочаги. И они лежали, как круглые, огромные зеркала, отражая берега и лес. Эти заводи были очаровательны. У берега на лугу, покрытом цветами, паслись стада.
Река в болотах шла, разветвляясь на несколько рукавов в зарослях ивняка, и покрыта была густой тиной и какими-то водорослями, похожими на маленькие седые деревья, усеянные розовыми, как бисер, цветами. Были места, покрытые ненюфарами, купавками, болотными лилиями. Эти места мои друзья-охотники называли «окрошкой». Среди тины и зарослей открывались чистые плесы, чистые и глубокие – до тридцати аршин глубины. Но по зарослям, как бы по берегу, нельзя было ходить; он утопал под ногами – и это было опасно. Этими настилами заросла река на большое пространство.
Там было много утиных выводков. Болотные курочки, коростели, цапли, выпь. У кустов ближе к твердому берегу водились дупеля и бекасы, и я встречал змей-гадюк совершенно черного цвета, как уголь. Бывали ужи, почему-то тоже черные. Вода реки была кристально прозрачная, мягкая и вкусная.
В зарослях видно было, как в реке стеной шли, заворачиваясь, ярко-зеленые бодяги, которые заматывали весь шест, когда я ехал на челне. Летом, при солнце и жаре, приятно пахло водой и тиной, пахло летом… Зеленые и голубые стрекозы носились над водой, садясь на череду и осоку. Стояли рядами так называемые камыши с темными длинными шишками. Огромные, пудовые щуки жили там. Стаями ходили золотые язи и гладкие лини, большие караси и темные окуни. Мелкой рыбы не было. Когда я ловил с челна рыбу на удочку, все думал, что попадет какая-нибудь особенная рыба из этих глубоких плесов. И действительно, раз поймал большого карпа, в пять фунтов, с крупной чешуей красивого цвета, с желто-светлыми глазами. Его золотая чешуя перемешивалась с серебряными и перламутровыми бляхами. Так же поймал совершенно черного окуня с белыми глазами и красными, как кровь, плавниками.
* * *
Вот однажды, выйдя на речку Нерль, недалеко от своего дома, где на лужке, на берегу, была моя лодка, наполовину вытащенная на берег, я увидел на корме лодки несколько рыб. Кто-то, должно быть, ловил и бросил. Рыбы испортились, стухли. Корма лодки была в воде. Я взял железный черпак, снял им этих рыб и бросил в воду. Они тут же потонули и мне было видно, как они легли на дно, где был песок.
Солнечный июльский день. Я пришел писать с натуры пейзаж. Вышел из лодки, взял холсты, ящик с красками, мольберт, зонтик, пошел по берегу против течения. Пройдя четверть версты, подошел к другой небольшой речке Ремже, которая шла от мельницы Ремжи. Ремжа была много меньше Нерли и впадала в нее. Я повернул по Ремже влево и пошел по зеленому лугу, где шла речка.
Найдя красивое место у самой речки, я сел писать картину. Поставил мольберт, раскрыл зонтик и увидел нечаянно, что около противоположного берега, по песку под берегом быстро один за другим идут по дну раки. Целой вереницей, по течению, к реке Нерль, куда впадает Ремжа. Я подумал: «Куда это так спешат раки?»
Встал и пошел по берегу, вниз по течению, не упуская раков из виду, и увидел, что они поворачивают в Нерль, то пропадая в глубоких местах, то появляясь на мелких. Они шли к оставленной лодке, откуда я бросил испорченную рыбу…
Когда я подошел к лодке, раки уже облепили брошенную рыбу кучей и, вонзясь в нее клещами, мололи ее. Их все прибывало. Я с лодки смотрел за их работой. Странно: в то же время снизу реки, куда бы должен был идти запах испорченной рыбы, не шло ни одного рака. Меня это поразило. Что значит? Как мог проникнуть запах рыбы далеко в речку Ремжу? И как раки из этой Ремжи могли бежать в другую реку? И в то же время – почему ни один рак не шел снизу, где запах должен был быть сильней. Что за свойство у рака, что за непостижимое чутье?
Я позвал приятелей посмотреть это странное явление. Те были поражены и, кстати, потом положили сеть на дно, а в нее набросали рыбу. Наловили раков больше двух сотен. Раки были хорошие. Когда вскоре, дня через три, бросили опять на сеть протухшую рыбу, чтобы ловить раков ни одного рака не пришло. Значит, раки поняли, что их ловят, и другим рассказали.
* * *
На той же Нерли, далеко от моего дома, в глухом месте, были большие широкие плесы. Назывались они Глубокие ямы. Как-то летом я поехал туда. Поставил на берегу, среди кустов, палатку, думал прожить неделю. За этим плесом была высокая гора, покрытая осинником и елями. Лес отражался в реке, темня всю заводь. Потому-то, подумал я, они и назывались Глубокие ямы.
Место было, как рай. Я писал с натуры красками. Со мной был приятель мой рыбак, охотник, поэт и скиталец – Василий Княжев. Он любил эту жизнь. Он говорил: «В красоте природы кружиться – лучше жисти нет».
Это была жизнь поразительная тайной прекрасного ощущения. Чудеса созерцания – утра, вечера, ночи, какое-то слияние чистой красоты с ее же тайной гармонией.
* * *
С вечера горит костер, подвешен чайник. Пьем чай. Берег – чистая травка и река тут же. А ночью спим в палатке, ни души кругом. Собака с нами, мой Феб. Феб любил такую жизнь. Комаров мы выгоняли из палатки с вечера, прожигая ветви можжухи.
Василий на берегу к вечеру чистил пойманную рыбу. Клал в котелок – варить уху, требуху от рыбы бросал с берега в воду, рядом, близко.
Когда мы ели уху, был тихий летний вечер. И внезапно увидели мы у берега волнение и легкий всплеск. Два небольших сома подошли к самому краю берега и трепали эти рыбьи отбросы, а подальше мы увидели огромного сомищу, пуда в два, который лежал на дне неподвижно. Мы резали куски рыбы и бросали в воду. Сом едва двигался и ел брошенную рыбу. Мы подошли к самой воде. Огромный сом ел из самых рук… Мы были поражены. У него распускались в воде усы, и белые, как бисеринки, глаза чудовища смотрели на нас.
Василий говорит мне тихо:
– Ведь это што… Ведь это он людев не видал никады. Узнал бы их, когда бы… А тут никого не бывает, глядите-ка, весь омут лесом завален… Тут никто и не ловит, он и не знает. Узнал бы, бросил бы дурака ломать. Ну и чуден глядите, рыбу-то цельненькую небось не ест, велит: разрежь, кусочками давай. Чисто Феб ваш. Даешь баранку – не хочет есть, а кусочками ломаешь – всю съест тут же… Ведь это што.
Через день Василий смеется на берегу, идет ко мне. Говорит:
– Вот чудно. Наш-то чертила у меня сейчас из рук выхватил кусок. Ну, чего это – невидано дело. Ведь ежели купаться, ведь эдакой за ногу схватит, утопит. Неужто мы так его и не поймаем?
– Нет, – говорю, – Василий, нельзя. – И подумал: «А ведь верно говорит Василий – место глухое, не видал людей, не знает обмана… Сом верит человеку. Чуть не из рук ест. Как странно».
И глядя на сома, на его добродушную огромную голову, на ленты его плавников на спине, вспомнил, что сказал Александр Сергеевич Пушкин:
В темнице там царевна тужит.
А бурый волк ей верно служит…
И вспомнил я свое детство. Раз на дороге у Кускова, под Москвой, навстречу мне вышел на задних лапах огромный медведь. Я испугался ужасно. И на плечах своих тащил медведь пьяного своего хозяина-поводыря. Тот спал и, поправляясь, дергал рукою цепь, спьяну, должно быть. И у бедного, печального, озабоченного медведя от дерганья пьяного хозяина около кольца из носа шла кровь. А он, бережно держа лапами, тащил своего мучителя. Проходя мимо меня, когда я сидел в овражке у дороги, он грустно пробормотал: бу-бу-бу-бу-бу.
Это он, должно быть, хотел сказать мне про горькую тайну жизни…
* * *
Тайны. Как-то раз в Петербурге я был в мастерской скульптора Павла Трубецкого, в его огромной мастерской, где он работал памятник императора Александра III[505]. За обедом подошла огромная собака. Оказалось, что это волк, настоящий наш волк. Волк положил мне голову на колени и смотрел в глаза мне, прося. Я не знал, что это волк, и гладил его по голове. Тогда он положил и лапы мне на колени. Трубецкой его стащил за шиворот:
– Он пристает.
Павел Петрович кормил его орехами, которые волки очень любят. И когда, после обеда, я сидел на лестнице, около статуи огромной лошади, князь крикнул:
– Волчок, Волчок!
Волк, до того лежавший в углу с собаками, встал, подошел и сел рядом со мной на лестнице, положил голову мне на плечо. Князь сказал:
– Добрый волк. Ты знаешь, он добрее собаки. Он вегетарианец, мяса не ест, как и я. Это ты ел, помнишь, в Париже, «тэт де во»[506]. Это ужасно.
Я вспомнил, правда, как заказал себе в ресторане «тэт де во», а Павел Петрович встал и ушел.
Особенный и хороший, талантливый человек Павел Петрович. Я видел раз в саду, около его мастерской, когда он вышел, – воробьи и галки слетелись к нему и сели на плечи. Он любил зверей и птиц и не ел никогда мяса. Я заметил, что звери относились к нему с особой нежностью.
Я знаю здесь, в Париже, лейтенанта флота – полный вегетарианец. И знаю непонятную радость, и любовь моего Тоби к нему. Он как-то опускает уши, прыгает к нему на колени, садится и не уходит. И ни к кому так Тоби не ласков, как к нему. Нет ли тут тайны?
* * *
Во время огромных снеговых заносов на юге России птицы с южных степей спустились все вниз, к самому морю. И в Крыму было много снега. Дрозды летели к домам и забивались в самые сакли татар.
На моей даче в Гурзуфе набились во все комнаты дрозды и пичужки, а утром рано пришли ко мне в комнату, к двери, печальные и покорные огромные птицы – дрофы. Вошли ко мне, как какие-то монахини, и грелись…
Пришли ко мне, пришли к татарам Тефику и Осману.
Почему они знали, что я, Тефик и Осман их не убьем, не съедим, не продадим, когда другие их били палками и резали. Они не пришли на дачи, где их изжарят. Почему они знали, что потом, когда стает снег, я повезу их, связанных, в больших корзинах, в степь, выпущу на волю. Тайна… Мало мы знаем тайн… Если бы мы больше знали тайн, может быть, было бы лучше на земле.
Звери
На нашей тайной земле человек – создание подобия господа, мудрый искатель справедливости. У меня в жизни было много встреч с людьми, и большими, и я видел много этих людей, озабоченных и обремененных исканиями правды и справедливости. Я уважал всегда этих людей и верил им. Но сам, к сожалению, не был умудрен в искании истины. Окружающая жизнь с ее простым бытом как-то увлекала меня, и я задумывался о пустяках.
Вот и сейчас я хочу только рассказать о том, как у меня в деревне, в моем деревянном доме, у большого леса, в глуши, жили со мной домашний баран, заяц и еж. И так скоро ко мне привыкли, что не отходили от меня.
Как– то, сидя вечером у леса, я увидел, как по травке шел ко мне небольшой зверек -еж. Прямо подошел ко мне. Когда я его хотел взять, он свернулся в клубок, ощетинился, ужасно зафыркал и зашипел. Я накрыл его носовым платком.
– Нечего сердиться, – говорил я ему. – Пойдем ко мне жить.
Но он еще долго сердился. Я ему говорю: «Ежик, ежик», а он шипит и колется. Моя собака Феб смотрела на него с презрением. Я оставил ему в блюдечке молоко, и он без меня его пил.
Так он поселился жить у меня в дровах, у печки, и я его кормил хлебом и молоком. Постепенно он привык выходить на стук рукой, по полу.
* * *
Заяц, которого мне принесли из лесу и продали, был небольшой. Голодный, он сейчас же стал есть капусту, морковь. Собаку Феба он бил нещадно лапами по морде так ловко и часто, что Феб уходил обиженный. Скоро заяц вырос и потолстел. Ел он целый день и был пуглив ужасно. Постоянно водя длинными ушами, он все прислушивался и вдруг бросался бежать опрометью, ударялся башкой в стену. И опять, как ни в чем не бывало, успокаивался скоро. В доме он все же не боялся ни меня, ни собаки, ни кота, ни барана большого, который жил со мной и почему-то не хотел никогда уходить в стадо. Заяц знал, что все эти его не тронут, он понимал, что эти, так сказать, сговорились жить вместе.
* * *
Я уходил неподалеку от дома, к реке, лесу и писал красками с натуры природу. Помню, Феб нес во рту складной большой зонт. Заяц прыгал около, а баран шел за мною в стороне.
Заяц не отходил от меня, боялся, должно быть, что поймают и съедят. Когда я писал с натуры, Феб спал на травке около, или искал по речке, или вспугивал кулика, а заяц сидел около меня и все водил ушами и слушал. Но ему надоело, что я сижу и пишу. Он вдруг начинал стучать по мне лапами и довольно больно. При этом как-то особенно глядел, будто говорил:
– Довольно ерундой заниматься. Пойдем гулять.
Слово «гулять» знали Феб, заяц и баран. Они любили гулять со мною.
* * *
А еж появлялся ночью, и было слышно, как он ходил по полу по всем комнатам, как уходил на террасу, в сад, пропадал. Но стоило мне постучать рукой, еж вскоре же возвращался. Баран ужасно боялся ежа, поднимал голову с большими завернутыми рогами, начинал топать передними ногами, как бы пугая того, а потом бросался бежать во все стороны.
Заяц не мог никогда прыгнуть на стул, кушетку, постель. И когда я ложился спать, заяц садился около, вставая на задние лапы, но прыгнуть ко мне не мог никогда. И приходилось его брать к себе за длинные уши. Я клал его на постель. Он очень любил спать со мной, плотно ко мне прижимался в ногах, протягивался и спал. Но уши его ходили во все стороны, и во сне он все слушал.
* * *
Как– то раз заяц разбудил меня. Он бил меня передними лапками по ногам. Я увидел, что заяц сидит, оробев, вытянув голову, и уши его прямо поднялись над головой.
Была зима. Я проснулся. Было четыре часа ночи.
Заяц был в отчаянном волнении. Он весь распластался и прятался, желая подлезть мне под спину. Потом соскочил на пол, сидел и слушал, потом бросился под комод, а задние лапы остались снаружи. Я встал и вытащил его за ноги из-под комода. Заяц отчаянно заплакал, закричал, как ребенок.
А утром сторож моего дома, дедушка Афанасий, говорил:
– Эва-то. Вот на што. Ныне в ночь на помойке за сараями эдаких два волчины приходили. Голодно, знать. Чего наследили, и у крыльца были. Думали, Феб не выйдет ли, али баран. Съесть хотели. Голодно, знать, стало. Поди-ка, выйдут тебе. Тоже знают. Феб и сейчас не идет. Как нюхнул в дверь – нет, не пошел.
– А баран, – говорю я, – чует тоже, поди?
– Нет, прямо дуром лезет. Ума у барана ничуть. Дурак. Только и умеет, что бодаться да жрать.
Я сказал дедушке, что заяц чуял ночью, напугался страсть как и меня разбудил.
– Вот ты и поди. Что в животных положено. Как это они врага слышат. А вот в человеке не вложено эдакого.
– Как же, – говорю я деду. – А заяц-то не понимает, что человек ему первый враг. Ведь человек его ест.
– Да вот это верно. Но этот, твой-то, верно, знает, что ты его любишь и уж нипочем не съешь. Ну, как это и чего? Заметь, ведь он тебя сторожит. Да чего еще и еж в дровах-то спит, у печки, так и тот всю ночь шипел ноне. И он волка чует. А баран – ничего, хоть бы что. Дурак, как есть. Удивление – вот по осени тута, у балкона, в саду, змеину в аршин поймал. Держит ее во рту, та вертится. А он ее всю и съел. Вот спроси, и Павел видел. Диву дались.
– Должно быть – уж, – говорю я.
– То-то и нет. Змею съел. Вот, ведь, не ужалила его.
* * *
Зимой я надолго уезжал из деревни. Оставался один сторож-дедушка при доме. Он любил моих зверьков, а Феба я брал с собой в Москву.
Дед говорил мне:
– Скучно зимой-то. Ночи долгие, а с ними повадней. И все как-то вроде свои, родные.
И когда я приезжал, зверьки оживали. И были радостны со мной. Жили они в комнате дедушки, рядом с кухней. Спали вместе все. Баран – в огромной шерсти, теплой. У его живота спали кот, заяц и индюшки, которых в сильные морозы брали в дом.
Так по весне приехал я с приятелями своими, охотниками к себе в деревню. Заяц вырос и потолстел. Баран стал совершенно круглым, оброс густо-темной шерстью и бодался. Еж ушел под дом и показывался только иногда ночью.
Приятели, с которыми я приехал, взяли у меня краску вермильон и выкрасили барану рога. Красные рога были ужасны. Вечером, когда мимо изгороди моего сада шло в деревню стадо, баран выбежал за ворота. Он всегда встречал овец. Те, увидав барана с красными рогами, бросились бежать опрометью во все стороны, кто куда. Баран гонялся за ними. Мне показалось, что ему как-то нравится, что его боятся. Коровы бегали за ним, желая бодаться.
– Это чего, – говорил пастух. – Это-то что ж? Чисто черт, рога красные. Всех разгонял, поди собирай.
Барану рога отмывали бензином. Глядя на зайца, охотник Герасим говорил:
– До чего здорово вырос! Этак-то ведь он лопнет. Ему бегать надо, а он все в доме.
Приятели вздумали зайца гонять, но что ни делали, заяц не бежал. Но все-таки придумали: в саду раздался залп из ружья, и я видел в окно, как через изгородь, через дорогу мчится заяц в моховое болото, а за ним – баран.
Наутро баран и заяц были дома.
– Вот что чудно-то, – говорил утром мне сторож-дед. – Проснулся я – чуть светает. Гляжу, а из мохового-то болота, вона тама, заяц-то прыгает, к нам идет. А за ним баран. Дивно ведь это. Подумай, зверь лесной, а дорогу к дому помнит, ведет за собою барана. А баран дорогу-то домой нипочем не найдет. Ума-то в ем ни чуточки нет.
Мой Феб
Иногда вспоминаются незначительные события. И так это странно. Ведь в жизни много было такого, от чего в скорби и тяжести горя холодела душа и меркла надежда жизни. Таких тяжких часов было так много. Но не они волнуют в воспоминаниях, а совсем иные, трогательные, случаи, незначительные, проходящие около жизни.
* * *
Однажды как-то по делу устройства кустарной выставки в Петербурге в залах Таврического дворца[507] приехал я в Москву к гофмейстеру Николаю Александровичу Жедринскому. Не застал его дома, и мне предложили: «Подождите, он скоро приедет».
В гостиной, где я стал ожидать, был и другой посетитель – симпатичный, молодой еще и скромный на вид человек. Мы посмотрели друг на друга, закурили папиросы. Он посмотрел на часы, сказал:
– Я вот час уже жду. Приедет ли Николай Александрович?
– Я подожду, – сказал я, – мне необходимо его видеть. По серьезному делу…
– Да, – сказал сосед по ожиданию, – у меня не дело… а так – пустяки. По охоте… Николай Александрович ведь охотник.
– Да, – говорю я, – он охотник. И я тоже охотник…
– Вот как, вы тоже охотник? А я ветеринар, и дело, видите ли, неприятное. Я служу в учреждении, городском. Отправляю на тот свет друзей человека, брошенных собак, беглых, у которых нет хозяина. Тяжелая обязанность… Впрысну ампулу, ну и прощай. Жаль. Хорошие бывают собаки… Вот и теперь – месяц держу пса, никто не является – нет хозяина. Ну и обязан отправить. А собака – пойнтер, молодой, красавец… какие глаза! Умные… Не могу убить… Чудная собака… Вот и пришел спросить, не возьмет ли Николай Александрович. Он ведь охотник. Редкая собака.
– Послушайте, – сказал я, – отдайте ее мне, пожалуйста. Я охотник. Я заплачу. Не убивайте, отдайте мне эту собаку…
– Пожалуйста, – сказал радостно ветеринар, – ваш адрес, нынче же пришлю. Увидите, собака дивная. Не могу убить. Никаких плат не надо. Дайте двугривенный на чай дворнику, пришлю вам сегодня же.
Он записал мой адрес, сказав:
– Прощайте, должен бежать. Я рад, вот случай! Поверьте, собака отличная. Невозможно убить ее: жаль.
И ветеринар ушел.
Когда пришел Жедринский, то он сказал мне:
– Вздор. Разве бросят хорошую собаку? Что ты! Ерунда, наверное.
От него я поехал скорее домой. Думаю: без меня приведут собаку, не застанут, уведут назад, отравят, адреса я не взял.
Сижу дома один, дожидаюсь собаку. Все не ведут… Дворника послал купить молока, хлеба, колбасы – накормить собаку. Гляжу в окно. Уж поздно, сумерки… Вдруг слышу звонок на кухне. Отворяю дверь: стоит татарин, а на веревке большая собака, кофейно-пегий пойнтер. Дивная голова, уши длинные. Смотрит на меня.
– Здравствуй, пес, милая собака…
И сердце бьется от радости.
– Такой умный собака, – говорит татарин, – толко хозяин нет. Тэбэ бог молить будэт.
– Скорее кормить…
Налил молока, накрошил хлеба. Собака голодная, ест. Колбасу прямо глотает.
– Тубо, тише, – говорю я.
Дворник татарин получил на чай, сказал:
– Прощай, собака. Барин жизнь вертал…
И ушел. Я сел на постель, собака легла около на полу.
«Какая красота, какие глаза!… Совсем еще молодой пес».
Он морду положил на пол и слушает. «Но как его зовут?» – подумал я. Встал, открыл шкап и достал книжку, охотничий календарь. Читаю собачьи клички… Загоняй, Лебедка… Это не то, это борзые… А вот… И перебираю названия. Говорю отдельно каждое. Собака лежит смирно. Только в конце прочел:
– Феб…
Собака вскочила.
– Феб, Феб, – повторил я.
Собака подошла ко мне.
– Ты Феб, – говорю я, – Фебушка… Феб…
Феб положил мне голову на колени и смотрел. Как я был рад – у меня собака!
Лег спать. Феб лег подле, на коврике. Кто-то шел по лестнице, было слышно за дверью, Феб тихо заворчал.
«Сторожит меня», – подумал я.
– Феб, вьен иси![508].
И Феб прыгнул на постель и разлегся в ногах.
Утром, когда я проснулся, Феб подошел ко мне, близко к лицу, посмотрел в глаза. Когда я вставал, он радовался и что-то бормотал. Вертел хвостом и, прыгая, лаял. Я пошел с ним на улицу. Феб шел со мной, не обращая внимания на встречных собак.
Пришел мой приятель, доктор. Феб так обрадовался, прыгал вокруг, бурлыкал, визжал и лег на спину.
– Он понимает, – сказал доктор, – я люблю собак. Он это чувствует. Хорош пес… молодой.
Доктор взял, свернул кусок газеты, плюнул на нее, бросил и сказал:
– Апорт!
Феб схватил газету и принес доктору.
– Ученый, – сказал доктор…
Была осень. Надо было мне ехать в Петербург по делу. Феба взял с собой. Там, на Театральной улице, у меня была квартира, где контора императорских театров и где жил директор Владимир Аркадьевич Теляковский. Теляковский любил собак.
– Хороша собака, – сказал он мне.
Уезжал я опять в Москву, и Теляковский посоветовал мне оставить собаку у него, так как я скоро опять должен был приехать в Петербург.
Много было у меня дела с постановками опер и балета в Москве для Большого театра и в Петербурге для Мариинского. Еду опять в Петербург с курьерским поездом. Ранним утром выходят пассажиры на станции Бологое. Выхожу и вижу: платформа покрыта снегом, синеют деревья в инее. Укутанные в шубах идут пассажиры… Утренний холодок… Большая станция Бологое светит огнями окон. На станции тепло. Чай со сливками и бологовские булки… крендели. Несут газету «Новое время». Свеженькая газета, только что пришла из Петербурга… Садимся опять в вагоны. Убраны постели, спальные места. Поезд идет, в окнах виден рассвет, розовеют леса и поля, ровно покрытые снегом. У всех пассажиров газеты. На последней странице читаю: «Выставка кровного собаководства, манеж. Награды: лучшая собака выставки и первая золотая медаль, как лучший пойнтер, – Феб, владелец К. А. Коровин».
«Что такое, – подумал я. – Что значит?» – Читаю опять: «Феб, владелец Коровин…» – «Что такое? Феб мой там, у Теляковского. Странно. Как мог попасть Феб на выставку?… Непонятно». Опять перечитываю заметку – «Фебушка, неужели это ты?… Ерунда, не может быть».
Пассажиры собирали чемоданы, поезд подходил к Петербургу.
Тихое зимнее утро. Извозчик везет меня на санках по Невскому проспекту. Широкая улица прекрасного города, и в дымке мороза, сбоку, северное солнце освещает уходящие дома улицы. Скрипят сани по мерзлому снегу.
У памятника Екатерины II поворачиваю на Театральную улицу, и останавливаюсь у подъезда. Швейцар, в красной ливрее, помогает выносить мои чемоданы. Я бегу по лестнице и думаю: «Зайду к Теляковском». Вхожу в большой приемный зал. На стенах висят портреты императриц: Елизаветы Петровны, Екатерины… Один портрет с собакой. Вижу, выходит Владимир Аркадьевич. Улыбаясь, говорит мне:
– Вот какой вы! Все медали получаете и собака ваша тоже. Феб-то каков!
– Я прочел сегодня… Что значит?
– Знаете, – говорит мне Теляковский, – я послал вашего Феба на выставку. Уж очень хороша собака. И, подумайте, там ведь собаки какие… Царская охота вся! А ваш Феб – первая собака!…
– Удивительно, – сказал я.
– Англичане присудили. Они понимают. Но удивляются, что нет у него родословной. Это по-русски. Родословные растеряли, – и Теляковский рассмеялся…
Я переоделся и поехал на выставку. В манеже, куда я пришел, слышался лай собак. В разделенных перегородками стойках, на цепочках, в ошейниках, с разными тюфяками, подстилками, лежали, лаяли и вертелись собаки разных пород. Издали у одной стойки стояла толпа. Подойдя, я увидел плакаты и букеты цветов… А на толстой ржавой цепи, на досках – моего Феба. Он лежал, свернувшись клубочком.
– Феб, – сказал я, подойдя.
Он вскочил и бросился ко мне, положил мне лапы на плечи.
– Это ваша собака? – обратился ко мне какой-то военный.
– Моя, – ответил я.
– Очень рад познакомиться. У меня к вам есть дело. Пойдемте в контору.
В конторе военный сказал мне:
– Его высочество приказал узнать мне у владельца этой собаки, не уступит ли владелец собаку. Вам предлагают тысячу рублей.
– Не могу, – ответил я. – Продать собаку невозможно. Поверьте, не могу. Вероятно, вы это поймете.
– Да, я понимаю вас, – сказал военный. – А знаете, англичане, которые были в жюри, сказали, что она так хороша всем складом, что и в Англии она была бы первая. Это такой красавец! И как странно – нет ее родословной.
Я рассказал, как я приобрел собаку.
– Невероятно, – удивился военный. – Вас ждали, вы не уйдете теперь. Прошу вас, пойдите к собаке, вам передадут награды.
Я стоял около Феба, который опять положил мне лапы на плечи, и его глаза говорили: «Ну, возьми меня отсюда, пойдем».
В это время музыка заиграла туш. Ко мне шли какие-то люди, они несли на подушках золотую медаль, серебряный ошейник, кубок и охотничьи ножи и вилки «…».
* * *
Феб жил со мной в деревне. Он любил охоту, и много мы ходили с ним, взяв ружье, по прекрасным долинам страны моей. Когда я писал с натуры картины, Феб не отходил от меня «…»
Прошло время, постарел Феб и стал глохнуть. Он все клал свою красивую голову ко мне на колени, и я гладил ее. Мне все казалось, что он что-то хочет мне сказать. И к осени он был как-то тих и нежен со мною. Пристально смотрел мне в глаза.
Вечером он пришел ко мне и лег со мной; положил голову на лапы и все смотрел в мои глаза. Потом ушел, а утром – нет Феба. Я вышел и звал его, его не было. И вдруг я увидел у сарая, среди малины что-то белеет. Я подошел: там лежал мертвый Феб. Недалеко стояла плошка, в ней осталась нетронутая еда. Была осень. Я был один.
Тетка Афросинья, когда узнала, что Феб околел, заплакала. Я вырыл в саду могилу Фебу и надел на него тяжелый серебряный ошейник, который получил он на выставке. И опуская Феба в могилу, горько плакал. У морды его я положил белый хлеб и баранки, которые он так любил при жизни. Закрыл ему мертвые красивые глаза и засыпал его землей.
Я пишу о Фебе, а на столе предо мной стоит большой серебряный бокал. Это он получил на выставке и принес в дом мой. Я взял с собой этот бокал, уезжая из России. Нет у меня теперь дома. И жалею я, что не придется мне лежать там, в земле родной, рядом с лучшим другом моим, Фебом, там, в саду моем, где жила иволга. Может быть, еще в каких-то неведомых странах я возьму твою милую голову, Феб, поглажу, а ты мне пробормочешь по-собачьи, как прежде.
Должно быть, Фебушка, ты хотел сказать мне, но не мог – хотел сказать, должно быть, про сердце чистое, про великую дружбу и святую верность.
Белка
Жизнь прошла, пролетела… И мелькают в душе воспоминания. Незначительные, простые, но милые. Впечатления прошедшей жизни. Там, в России, они казались окружающим пустяками. Но почему-то память о них радует, радует так светло…
* * *
Жил я далеко от Москвы, в глухом месте, у небольшой речки, за которой начинался огромный бор Красный Яр. Речка Нерля была маленькая, как ручей, она шла по лугу близ дома моего, извиваясь в камышах и кустах и переходя в большие плесы, которые лежали по низу луга, у самого леса.
С горки были видны эти большие, как бы лежащие зеркала воды, в которых отражался огромный лес. По обрывам был желтый песок. Зеленый и серый мох густо и сочно лежал у больших корней сосен. Иван-чай стройно высился, покрытый лиловыми цветами.
Какая красота была в этих бережках и в этих светлых струях вод кристальной речки.
В солнечные дни отражения огромных сосен и елей в воде были веселы, радостны, мощны.
Плескались золотые язи. Зеленые стрекозы летали над камышом. Ласточки со свистом носились над рекой и острыми крылышками задевали воду.
Каким разнообразным пением птиц, какими звуками был полон красивый бор. Цветами был покрыт луг, и мне казалось, что это рай.
Я думал: «Какой же может быть рай другой?» Это и был рай.








