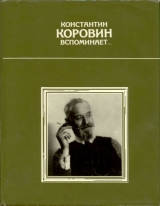
Текст книги "Константин Коровин вспоминает…"
Автор книги: Илья Зильберштейн
Соавторы: Владимир Самков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 53 страниц)
Вот наступил и праздник. Приготовления грандиозные. Повара уже неделю работают… Прекрасный зал в колоннах огнями блещет… Подъезжают гости. Моторная лодка доставляет губернатора, вице-губернатора, исправника. Всех встречает сам хозяин, в сюртуке и при орденах.
– Всеволод Саввич, – говорит в это время сыновьям пиротехник, проводящий шнуры, – нешто можно в пушку пороху по горло сыпать? Ее, ей-ей, разорвет… Николай Саввич, чего вы ракеты гнете? Ведь эдак они понизу пойдут… А вы чего все куртины бенгальским засыпаете? Ведь гости задохнутся!
– Ничего, не задохнутся, – говорят сыновья. – Отец любит покрепче пускать. Мы его знаем, он велел, чтоб торжество крепкое было.
От пиротехника сыновья уже бегут к отцу:
– Папаша, – говорят, – мы мажордома наняли, чтобы гостей пропускать по докладу. Вы ведь действительный статский.
А мажордом, действительно, был на славу – приземистый, толстый, лицо важное и в руках огромная булава на медном жезле.
– Где-то я эту рожу видел, – проворчал отец недовольно, но так и не вспомнил…
Столы накрыты, при входе в зал стоит губернатор, чиновники, губернаторские дочки, хозяин, знакомые. Приезжают, приезжают… Моторная лодка быстро пересекает Волгу и доставляет гостей кучами. Очень много незнакомых. Мамонов смотрит с беспокойством.
«Кто это?» – думает он, а мажордом громким голосом докладывает без передышки: «Княгиня Тухлова», «Княгиня Мышкина», «Графиня Орехова».
«Должно быть, соседки», – успокаивает себя Мамонов.
– «Мантохин, волжский пароходчик», «Микунчиков и сыновья», «Кутузов – фабрикант».
– Ох! – вздыхает Мамонов.
– «Князь Задунаев».
– Батюшки! – обращается Мамонов к приятелю. – Какой же это князь, когда он просто Володька, цыган от «Яра»?
Губернатор пристально смотрит, сзади через плечо глядит исправник.
– «Женя-Крошка», – докладывает мажордом, – «„Спящая красавица“ – балет Чайковского», «Императорская певица Ирма».
Когда доложили «Потемкин Таврический», губернатор снял очки и протер их платком.
А мажордом так и сыплет: «Финкельсон – бриллианты бразильские», «Шишкин с супругой».
– Господи, что делают… – шепчет отец приятелю, – ведь это все Володька. И зачем я им писать разрешил… Кто виноват? Я виноват!
– «Арапзон – Новая Зеландия», – докладывает мажордом.
Действительно, вошел негр: в петлице фрака – большое сахарное яйцо. Улыбается, белые зубы сверкают.
– Ух! – не выдержал хозяин. – Угробили… Господи, что делать… Арап! Кто звал арапа? Гони его вон!…
– «Конт[495] Шмулевич, банкир, – Аргентина», «Арарат Иванович с супругой – фабрика „Изюм“», «Мадмуазель Нанетт – Париж, институт де ботэ…»[496].
– Умру, загубили! – задыхался хозяин.
А губернатор, наклонясь к нему, смеется:
– Превесело… Какая милая шутка… Скажите, а кто же это графиня Орехова? Не родственница ли Хвостова?
– Вряд ли, ваше высокопревосходительство, – отвечает хозяин и дрожит от бешенства.
– «Азеф Алексеевич – европейский журналист», – кричит мажордом.
Губернатор только глазами водит.
Тем временем заутреня кончилась. Только стали выходить гости, зарычали фейерверки. Ракеты рвутся, бураки шипят, от бенгальских огней все загорелось зеленым и красным светом. Но ракеты шалят, летят понизу. Дамы взвизгивают. Бенгальский огонь – прямо Везувий. Как лава, ползет кругом дома дым.
– Жарь, жарь! – кричат сыновья. – Давай самый адский огонь.
Гости бегом побежали к столу. Несут блюда – икра во льду, осетры саженные. Городской голова поднимает бокал… Но только сказал: «Наш почтеннейший коммерции со…» – ахнула пушка. Все тарелки, рюмки, стаканы подняло на воздух, все с треском грянуло обратно на стол. Люстры погасли. Вдребезги рассыпались оконные стекла.
Губернатор, дочери, исправник бежали первые. За ними гости, бежали куда глаза глядят. Кто-то кричал: «Караул, спасите!»
Мамонов, очутившись в своей комнате, трясущимися руками вбил патроны в штуцер и открыл стрельбу пачками по Волге, где неслась моторная лодка. А в лодке, у флага с Меркурием, стояли «Женя-Крошка», «княгиня Кутузова» и все трое сынков и громко пели «Вниз по матушке по Волге».
– Сам породил, сам и убью! – кричал отец и стрелял.
Несколькими днями позже один из сынков говорил мне скромно и учтиво, щуря далматинские свои глаза с поволокой:
– Папаша уж строг очень… Мы хотели ассамблею повеселее… Что тут дурного? А пушку так и не нашли… Переложили немножко пороху… Ну что ж…
Губернатор, хороший человек, о мамоновском торжестве говорил так:
– Что ж, повеселились немножко… Только… только вот… я и сам артиллерист, однако это орудие уж слишком: у нас в Твери было слышно, а Тверь за двадцать пять верст… Подумайте сами!
Лоботрясы
Окрестности Москвы были прекрасны. Они постепенно обстраивались дачами, и эти деревянные дачи были летом поэтичны. Летом в Москве – духота, жара. Москвичи уезжали по железным дорогам на ближайшие от Москвы станции.
Были излюбленные места: Кунцево, Перово, Царицыно, Пушкино, Перловка, и все новые места открывались москвичами. Понравилось Томилино по Рязанской железной дороге, и там на приволье, в лесу близ речки, строили дачи. И какие дачи! Из сосны, с резьбой, финтифлюшками. Внутри дача разделялась на комнаты. Из зала через стеклянную дверь выходили на террасу; на террасе обедали, пили чай. Терраса спускалась в сад, полный сирени и жасмина. Эти дачи были как новые игрушки выглядывающие из леса. В даче пахло сосной, из лесу и из сада неслись ароматы цветов и сена.
Хорошо было жить на даче – как в раю.
* * *
Недалеко за лесом, по лугу, покрытому кустами, вилась речка с песчаным дном и кристальной водой. Туда ходили купаться на приволье. Купален не было. Выбирали место не глубокое и не мелкое; недалеко, через реку, деревянный мост и высокий бугор соседнего берега. Купались по очереди: от такого-то часу женщины, а потом мужчины.
Я приезжал в Томилино к профессору, магистру наук, доктору Лазареву. По соседству с ним была другая дача, там жил чиновник из конторы императорских театров в Москве. С его женою и двумя сыновьями я познакомился.
Один из них, младший, был Коля. Он часто сидел на крыльце дачи, все время чистил ружье-двустволку и глядел в стволы – чисто ли. Этот-то Коля, как я узнал, собирался на охоту в Петров день.
Другой брат его, Саша, проходил драматические курсы при школе императорских театров в Москве. Это был курчавый блондин, в глазах его было что-то легавое, с упреком, на шее большой кадык – когда Саша говорил, кадык ходил то вниз, то вверх.
Коля, младший, поведал мне, что ему хотелось бы уехать на охоту подальше от Москвы и дач – в леса глухие. Я обещал поехать с ним во Владимирскую губернию к приятелю своему, Абраше Баранову[497], где много дичи, уток, бекасов, тетеревов и дупелей. Горели глаза моего нового приятеля Коли Хитрова. Мы оба дожидались Петрова дня и ходили вместе купаться на речку.
Коля Хитров никак не мог выучиться плавать и купил себе бычьи большие пузыри. Но и с пузырями захлебывался. Глядя на эти пузыри, его брат Саша выдумал такую «штуку».
На даче скучно, жара. Как бы это повеселее жить? Притом жившая на даче артистка Соня Ремизова сказала про Сашу его отцу, что он все орет по ночам песни и не дает спать: «Скажите вашему лоботрясу, чтобы он бросил эти пения, а то я пожалуюсь…»
Саша взял один пузырь, развязал веревку, выпустил из него воздух, насыпал внутрь горсть жесткого гороху. Потом опять надул. Горох трещал в пузыре, когда его трясли. Саша попросил меня написать на пузыре рожу пострашнее. Я написал рожу лаком-сиккативом, который скоро сохнет – ужасную рожу. Приклеили лаком паклю: вышли волосы. Это делали мы в чулане, чтобы никто не видал. Вышла голова – ужас!
Она долго сохла на чердаке. А когда высохла, Саша купил в Москве длинную бечевку и привязал ее к пузырю. Он достал еще гирю-пудовик. Гиря с ручкой.
Ночью мы пошли все на реку, где купаются, работали при луне. Гирю Саша опустил посередине реки на дно, свободный край бечевки пропустил через ручку гири.
И вот голова-пузырь стала плавать на речке. Бечевку мы протянули далеко меж кустов берега, сели и потянули. Голова ушла в воду. Мы отпустили часть бечевки, и голова-пузырь сразу выскочила на поверхность и, качаясь, затрещала. Опять потащили бечевку, голова спряталась в воду.
– Хорошо выходит, – говорил Саша. – Приспособили хорошо. Выскочит, затрещит и опять в воду. Готово. Репетиция кончена…
Бечевку натянули и привязали к кусту. Голова была под водой – не видно.
Пришли рано. Ждем утра. Ждем, когда пойдут купаться. Сидим в кустах тихо. Видим – идут. Актриса Соня Ремизова, подруги, дачницы. Полотенца в руках, на головах. Идут такие нарядные, веселые. Видим, раздеваются на берегу. Входят по очереди в воду, плавают, плещутся, смеются. Так хорошо.
Вдруг среди них выскакивает лохматая голова… Затрещала и мгновенно пропала в воде… Отчаянный крик, визг… Выскакивают из воды, опрометью бегут по берегу. Кричат: утопленник, утопленник… Отбежав, глядят на воду, волнуются, тихо подкрадываются к платью, хватают и бегут с радостью, что можно одетыми, а не голыми добежать домой, на дачу…
На дачах поднялся шум. Что делается!… Все собрались, кричат, идут на речку, смотрят с моста. Саша тоже с ними.
– Утопленник выскакивал… Какая страшная рожа… Боже мой, боже… Кто такой?
Мужчины– дачники купались позже. Ничего не видали. И говорили:
– Вздор, чушь. Показалось.
И мужики из деревни тоже говорили:
– Чего утопленник. Он бы выплыл, он померший. Как он головой качать может. Трещит? Пустое все.
Мы решили назавтра пугать приятеля моего – магистра наук, папашу Сашиного и других купальщиков.
Но видим, вечером на мост пришел дьячок. Сел на мосту и закидывает на речку удочку – одну, другую. Вечер тихий, хорошо расположился, вынул табакерку, понюхал табачок. Сидит, сморкается, смотрит на поплавки. Саша из кустов отпустил бечевку, голова выскочила на поверхность воды, закачалась на воде и затрещала. Дьячок вскочил. Глядя на воду, поспешно прибрал удилище и бегом побежал от моста. Остановился на бугре и пристально смотрел на воду реки до самой темноты[498].
* * *
Наутро мы долго сидели в кустах. Никто не идет купаться. Скучно. Ждем долго. И видим: едет хорошая коляска с парой вороных.
Сидят господа, солидный такой человек и полная дама с зонтиком. С ними двое молодых людей. Как только коляска въехала на мост, на поверхность реки выскочила голова, треща покачалась и пропала. Почтенный человек схватил сзади кучера за кушак и что-то закричал. Молодые люди открыли рты. Проехав мост, они остановились, замахали руками и горячо говорили. Более всех волновалась дама. Оказалось, что ехал из своего имения московский предводитель дворянства, чуть ли не сам Самарин с супругой и сыновьями[499]. Узнав это, Саша немножко испугался, присмирел. Но, конечно, у молодых начинающих актеров страха нет. Он сказал:
– Черт с ним, с предводителем. Интересно выдумано: пугаются хорошо…
Только что мы хотели профессора пугать, смотрим – народу, народу у моста, толпа, полиция, исправник, дачники, мужики в воде неводом ведут, ловят, значит, утопленника. Только как ни заведут невод, нет его. Саша-актер уже на мосту. Говорит им:
– Я видел его. Только, наверное, отнесло, надо ниже искать по реке.
Искали и ниже, но ничего не нашли.
Мы стороной советуем ему вынуть голову-пузырь ночью, а то дело дрянь выйдет.
– Ерунда, – говорит Саша. – Я попугаю профессора и папашу.
По дачам пошли рассказы. Один такой хороший человек, инспектор какой-то школы, обедал на террасе своей дачи и говорил гостям, как его топил утопленник, как схватил за ноги и тянул в воду – «насилу вырвался, слава богу», – и выпивал при этом рюмку водки.
Дачники собирались вместе, говорили: «Ужасно, что делается». Один будто бы купался и наступил на скользкий труп. Он на дне. А актриса видела его рожу около себя и боялась ночью спать. Ее сторожили актеры, защищали, дежурили ночью на даче. И пили на террасе всю ночь для бодрости.
В общем, было весело. Все перезнакомились. Приезжали гости из Москвы, ходили и смотрели на реку с моста. Исправник составил акт и послал рапорт начальству.
В Москве тоже узнали, но не очень верили. Известно, что Москва и слезам не верит.
Тогда– то Саша и пошел ночью искать бечевку и пузырь. Но нет ни бечевки, ни пузыря. Украли.
Один мужичок, Серега из деревни, посмеивался:
– Это, – говорит, – подшутили господа, какие ни на есть…
И принес исправнику лопнувший мокрый пузырь, сказав, что нашел на берегу. Вот этот самый.
Исправник рассердился ужасно, кричал: «Найду этих самых, все в Сибири будут». И доложил по начальству.
* * *
Предводитель опять ехал по мосту в свое имение. Остановился и сердито смотрел из коляски на реку у моста. Сыновья его тоже смотрели, наморщивши брови, как папаша. Долго смотрели.
А дьячок говорил:
– Нет, довольно. Я в этом месте больше не ловец. Будя.
А Саша же Хитров, юноша без страха, выдумывал новую «штучку», как бы раздразнить актрису Соню Ремизову. Посылал ей письма от антрепренера, предлагал играть первую роль в пьесе Шекспира «Пустое сердце». Соня Ремизова ездила в Москву, купила все сочинения Шекспира, но пьесы «Пустое сердце» не нашла и сердилась ужасно.
Саша Хитров очень радовался, готовил ей на день рождения, сидя на чердаке, фейерверки и говорил нам:
– Я ее угощу бенгальским огнем. Узнает тогда меня. Я покажу ей лоботряса…
А Коля все время очень боялся, что его сошлют в Сибирь.
Так он и уехал в Москву, захвативши свое ружье, которое ни разу не выстрелило.
Но когда Саша пустил свой бенгальский огонь, должны были быстро уехать с дачи и он, и я, и Соня Ремизова.
Утопленник
По окончании Школы живописи и ваяния в Москве, на двадцать первом году жизни, я поступил в театр писать декорации. Молодые актрисы производили на меня впечатление неотразимое. Нравились мне все без исключения. Какие глаза и в глазах какая душа! У одной они большие, открытые, как у Джиоконды, у другой – с опущенными ресницами. А как говорят! Одна совсем поразила мне сердце. Она меня называла: «Мой Зибель, мой паж». Но скоро она куда-то уехала, пропала…
Прошло лет пять, и я встретил ее случайно на развеселом вечере, в компании артистов, где шел кутеж и гремела гитара. А затем я получил от нее телеграмму: «Мой витязь, жду». «Витязь, – подумал я, – какой я витязь?» Но на вокзал помчался.
Ночь, глубокое небо; звезды играют в тихом лунном воздухе, насыщенном запахом трав и лесов; щелкают соловьи. На террасе деревянной дачи под Москвой горит лампа: розовый бумажный абажур виден издалека – с дороги, по которой я еду со станции. Вот ближе, и вижу лицо – ее прекрасное лицо. Она наклонилась над книгой. Ждет меня…
Быстро вбегаю на террасу.
– Ах, – вскрикивает она, – мой коробейник!
– Почему коробейник?
– Да, сегодня вы коробейник, – отвечает она и весело напевает: «Пожалей, моя зазнобушка, молодецкого плеча». Аннушка, подайте чай. А мы пойдем – пойдем в рожь, в рожь высокую! – И она пропела: «Только знала Рожь высокая».
Я говорю:
– Но рожь еще не высокая. Зачем идти в рожь?
– Нет, нет, идем. Ты мой коробейник!
Как молния пронизывает меня странное чувство, где-то там в душе, глубоко: «Мой коробейник, рожь высокая» – и зачем это? Зачем?
Но мы идем. Она говорит опять:
– Слушайте: «Была ночь, они шли вдвоем, он дал ей руку»… Подайте мне руку!
Я подал ей руку.
– «Они шли и молчали, – продолжала актриса. – Она положила ему голову на плечо». – И она прислонилась головой к моему плечу.
– «Тогда он впился в ее влажные губы своими губами»… Ну же! Впивайтесь!
Я впиваюсь… Но почему-то так нехорошо на душе…
– Скажи мне: «Я твой!»
Я говорю: «Я твой».
Слева начинается ржаное поле.
– Рожь, рожь, – восклицает она. – Пусть знает рожь высокая, только она…
Но рожь еще совсем низкая… Май месяц, весна в начале… Заметив обильную росу на ржи, она выскакивает из нее на дорогу.
– Зачем рожь? – говорю я. – Вот лес. «Там опять в ночи туманы. Отдаленные леса, белые дреманы».
Она спросила:
– Это чье?
– Как чье? Фирдоуси, – вру я.
Мы идем в лес. Во мне чувство какого-то негодования. Странное и горькое. Хотелось сказать, спросить: «Почему не просто так – вот вы и я, почему я то Базаров, то Алеша Карамазов, коробейник, Фома Гордеев. Чацкий, Лель и еще черт его знает кто?!»
А она не унималась:
– Милый, молю, ты знаешь – Виктор клялся возлюбленной: «Я умираю от любви». Ну и ты скажи. Умоляю!
Думаю: «Откуда взялся этот Виктор?» – и отвечаю прямо:
– От любви умереть не могу. Откровенно признаюсь: не могу.
Она посмотрела на меня своими прекрасными глазами огорченно и удивленно. Выражение ее лица было какое-то печальное и жалкое.
– Нет, правда? Ты не знаешь, как умирают от любви?… А ты не можешь украсть для меня, как Виктор?
– Что украсть?
– Все.
– То есть как – все?
– Виктор сказал Ольге: «Все брошу к ногам твоим».
– Ворованное?
– Как это пошло, не тонко!
Какой– то особенный, злой огонек мелькнул в ее глазах.
В конце концов мы повздорили. А соловьи заливались… Я возвращался на станцию один. Пахло рекой. Проходя по мосту, я остановился и стал смотреть на воду. Темны были отражения берегов, и в глубине сняли звезды. На душе было тихо, странно, радостно. Вдруг слышу крик: «Постой, умоляю!»
Я обернулся и увидел бегущую фигуру в белом платье. Она!
– Я поняла, я все поняла! – подбежала актриса ко мне. – Ты хочешь броситься в воду: Я знала, я чувствовала. Но я спасу тебя.
– А вам бы понравилось, кабы из любви к вам кто-нибудь утопился или застрелился?…
– Еще бы, – ответила она, не задумываясь. – Вот из-за Ады Дурвенд четверо застрелилось. А в меня – трое стреляли.
Луна осветила ее на фоне темных ольх. В тишине ночи она была торжественно-прекрасна.
– Прощай! – крикнул я и бросился в воду.
Послышался ее отчаянный крик.
Река несла меня по течению. Было глубоко, но я хорошо плавал. И вижу – уже вдали мост, на котором я был. Бегут люди с фонарем, крики, ее крик «спасите», кто-то вопит «караул»… За поворотом реки подплываю к берегу и хватаюсь за ветви ольхи. Мне бросают веревку. Вылезаю. На берегу – люди, дачники. Один из них наливает мне в стакан какого-то вина, говорит: «Скорей пейте» – и держит меня за пульс. Он взволнованно шепчет:
– Я все знаю. Идемте.
– Куда?
– К нам. Она у нас, там доктор. Хорошо, что спасли вас. Петр Сергеевич смотрит с террасы, говорит: «Вот на мосту человек. Наверное, топиться хочет. Ночью в реку смотрят не зря…» А та, барынька ваша, кричит: «Это из-за меня, утонет!» Плачет… Идемте… Если бы не Петр Сергеевич, то – ау! Уж вы начали за ветки хвататься… Ну, не стоит говорить. Не унывайте, молодой человек.
Мы пришли на большую дачу. Я переоделся. Мне дали очень широкие панталоны и японский женский халат, все, что попало под руку. Народу полна дача – все милейшие люди. С террасы доносятся голоса: «Утопленник».
«Вот история! – думал я. – Надо все же для приличия делать вид, что я в самом деле хотел топиться».
Женщины, приоткрыв дверь, разглядывали меня испуганными глазами. Мужчины успокаивали. Доктор брал за пульс, говоря в сторону, в пространство:
– Пальпитацио кордис![500].
Какой– то дачник приносил вино стакан за стаканом и повторял: «Вы пейте, и я с вами. Ах, эти драмы, у меня их… Ну что, пейте!»
Меня вывели в соседнюю комнату, где был накрыт стол. Один из дачников поднял бокал:
– Поблагодарим Петра Сергеевича и доктора, которые первые откачали молодого человека… И да послужит наше дружеское сочувствие знаком того, что он не так забыт, как многие из прочих утопленников!…
Другой дачник, огромного роста, с белым лицом и с туловищем, похожим на комод, тоже сказал спич:
– Не только в молодые, а даже в наши годы могут случаться от женщины такие реприманды[501], что просто ум раздвигается на части. Все мы знаем по делам нашим, что в провалом году случилось с нами от Эмилии Карловны… То есть, я хочу сказать, – с ее мужем. В этаком разе, ежели бы с ним не сладил Веревкин Костя, под новый год у «Яра», то скажу прямо: фабрика пошла бы к дьяволу.
На меня все глядели с сожалением и радостью. Дамы ухаживали за мной, особенно одна… Она жала мне руку и повторяла на ухо:
– Ну что за охота! Вы так молоды…
Тут в комнату, где я сидел и пил со всеми, вошла она, виновница моей гибели. Вошла торжественно:
– Как счастлива… Вы спасены. Как – я страдала! Но вот и доктор говорит, что нет ни в одной литературе мира, чтобы человек топился от любви при женщине. Вы не понимаете красоты драмы…
– Верно, – сказал я. – В следующий раз я утоплюсь один.
С террасы кричали:
– Сюда, сюда. Смотрите. Там опять что-то на мосту, кричит кто-то. Опять народ с фонарем. Еще кто-то утопился!
И впрямь, по мосту бегали люди. Мы всей толпой пошли к мосту. Тишина майской ночи, роса, трава бьет мои туфли, и она, новая моя красавица, рядом со мной, я чувствую ее около себя. Как пахнут ее плечи, платье! И эта ночь! Медовый запах тополей, звезды, темные ольхи у реки. Глаза ее смотрят прямо в мои:
– А из-за меня вы бы утонули?
«Что же это такое, – думаю, – опять купаться?»
– Утонул бы, – отвечаю.
– Милый… – шепчет она.
На мосту стоит толстый исправник, станционный жандарм и еще кто-то. По воде ведут невод. На берегу народу – весь поселок.
– Теперь все едино, – кричит голос, – опоздали. Не откачать.
– Это наши-то не откачают?
Все ринулись к неводу. Исправник впереди. Жандарм говорит:
– Хучь увыпей ее усю, реку, а его чтобы достать!
Невод волокут по берегу. В мотне плещется, блестя чешуей, освещенная луною рыба.
– Нету!
«Это меня ищут, – думаю я, – дали знать на станцию исправнику. Меня ищут…»
– Вы у нас ночуете? – спрашивает новая дама. – Наверху я приготовила для вас комнату – светелку…
– Но ведь мне, сударыня, из любви к вам надо еще топиться?
– Ах, какие глупости. Какой вы, право!
Бежит Петр Сергеевич, запыхался, кричит:
– Опять утопился, вот дурак-то. Я так и знал…
Увидав меня, остановился в недоумении:
– Вот он. Где же утопленник?
Петр Сергеевич пьян.
– Что это вы с ним делаете? – обращается он к моей новой даме. – Довольно вам, молодой человек! Не верьте женщинам. Анна Васильевна, фюить, дудки! Нет, из-за прекрасных глаз не утону. Уж как вам угодно-с фюить!
Затем мы жарили лещей, а перед дачей на лужке сидели крестьяне с неводом и еще какие-то люди. Варили уху. Серьезно и деловито пили водку по очереди, ровно, закусывая ветчиной с хлебом. Серьезный народ. Крестьяне говорили:
– Завтрева второго найдем. Поди, где теперь? Ночью-то… Утопленника-его надо сразу брать, не то ен уйдет. Бывало дело, сколько таскали! Завтра откачаем. Одново раза сердягу качали, ну что! Фабришные индо руки ему все повывернули, а он ништо: храпит. Зачали ему на брюхо прыгать, приказывали: «Выпушай воду, сволочь!» – а он ништо, так и помер.
Подали на стол жареных лещей. Исправник сел посредине. Опять пили, опять пир горой. Исправник – большой седой старик, усы белые торчат вперед. Говорит – как будто плюнуть хочет:
– Медаль спасения утопающего получить нелегко: по представлении губернатором министру внутренних дел. Помилуйте, если так будут давать, тогда – вот я купаюсь и говорю: «Тащите меня, братец». Ну и тащит приятель. «Медаль пожалте!» Па-а-азвольте!
– Нет, па-а-азвольте, – говорит Петр Сергеевич. – Я ему веревку, а то – ау! Верно, – обращается он ко мне. – Па-а-азвольте! Хоть он это и из-за бабы, конечно, ерунда, но все же утопленник. Па-а-азвольте.
– Ура, – кричат на лугу. – Еще полведра. С ангелом вас! Кто именинник? Исправник – именинник. Вот он. Ловко!
– Да, – говорит исправник, – есть тот грех.
Начинается все сначала. Доктор входит. С ним моя актриса.
– Позвольте представить вам, – заявляет он, – виновница спасения, то есть не спасения, а торжества: Вера из «Оврага».
– Как-с? – спрашивает исправник.
– Из «Обрыва», – поправляет красавица.
– То есть – из романа Тургенева или Гончарова, все равно, – не смущается доктор.
Сквозь звуки рояля, пения и песен на лугу, я слышу шепот моей новой дамы.
– Пойдемте, я вам покажу комнату.
Ну, и жизнь была… Только где вы, прекрасные мои дамы? Где и вы, актриса моя, Вера из «Оврага»?
Не знаю, которым по счету, но все же и я ведь был вашим… утопленником.
[В деревне]
В деревенской глуши
Поздняя осень, утро туманное. Серые тучи нависли над опавшим садом. Трава у дорожек – бурая. Мокрая от дождя зеленая скамейка резко выделяется среди потемневших лип. В обнажившихся ветках сирени у окна моего дома чирикают снегири. Они такие толстенькие, веселые, в красных жилетах. Снегири ждут снега. Их летом как-то и не видно, а поздней осенью держатся около дома, в саду, точно хотят повеселить человека. Радуется душа живому дыханию в ненастной осени…
Вдали у ржаного поля дымит темный овин. В серые ворота идет тетенька Афросинья в полушубке, в красном платке, несет мне крынку молока. Бурая корова моя, увидав тетеньку Афросинью, подняла голову и замычала – сказала что-то по-коровьи и пошла за ней.
Тетушка Афросинъя вошла ко мне и, поставив на стол крынку молока, сказала:
– Тепло ноне, а все дождит, может, к вечеру и разгуляется, и то дождь надоел…
Я говорю ей:
– Тетенька Афросинья, а чего это тебе корова промычала?
– Да как же. Ведь она носит… скоро разрешится – дойная. Значит, все это и сказала. Тоже ведь она – своя, знает, что я с ней заодно. Я теленка от нее приму. Как же – ведь и мы родим. Тоже я помню, когда я родила Ваню, рада была, хвастала, сын… Да бог прибрал к себе… Вот как! Горе! Да знать, ему тоже надо…
– Кому надо-то? – не понял я.
– Да богу-то.
– Значит, надо… Судьба.
– Знать, спят Левантин-то Лисандрыч? – спросила Афросинья про Серова, который гостил у меня. – И доктор Иван Иванович?
– Должно быть, спят. А что?
– Так он вчерась Феоктиста списывал в картину – у телеги стоял Феоктист. И лошадь тут же, ну эта, опоенная-то, хромая. Хворост лежал. А Феоктист новый картуз надел. А он ему и говорит: «Почто новый картуз, не надоть, – говорит, – надень шапку старую». А та рвана шапка-то… И рыбака Константина тоже списывал. Тот-то ин оделся чисто. Левантин Лисандрыч его и прогнал. «Иди, – говорит, – оденься, как был раньше, эдак в чистом не надо». Тот переоделся, а норовил сапоги новеньки. Опять прогнал: «Не годится, – говорит, – мне в сапогах, надевай, как ране был лапти». Константин-то говорит: «Срамота какая!… Не охота, – говорит, – списываться, народ на картинке на меня поглядит, чего скажут!…» А ему Левантин Лисандрыч: «Я не скажу, что с тебя списывал». Тот согласился: «Списывай, – говорит, – только не сказывай, что я…» Списал. И вот прямо вот как живой. И срамота глядеть – рваный тулупишка, портянки грязные, лапти, нос в табаке… «Зря, – говорит, – меня не в новом списал, в сапогах…» А тот сознался, говорит: «Ошибся я». Сейчас, – сказала Афросинья, – самовар подам. Поди уж ваши-то встают. Василий на крыльцо рыбу чистит, карасей пымал.
Валентин Александрович Серов пришел к чаю грустный, посмотрел и окно, на небо, сказал:
– Опять соизволил дождичек, мелкий такой, осенний, идти… Но придется мне дописать.
Подошел к барометру, стукнул его.
– Да-с, на дождичек заворачивают они… – показал он на барометр.
Вошел тоже и доктор Иван Иванович, причесывая баки гребешком.
Посмотрел на барометр, потом на картину Серова, которую тот поставил на мольберт.
– Феоктист хорош… ну и рожа!…
– Обиделся на меня, – сказал Серов, – отчего я его в новом картузе не написал. Рыбак Константин тоже… Хотят все франтами быть, оба недовольны.
Валентин Александрович Серов не был охотник, а ходил с нами за компанию и удивлялся, почему я с охотниками-крестьянами в дружбе. Я любил Валентина Александровича – у него был острый ум. Часто он у меня гостил и целый месяц как-то рисовал ворон. Рисунки его были превосходны. Рисовал зайца моего ручного и все удивлялся, как он вертит носом. Говорил:
– Пишу портреты все… Что делать, надо…
Он был учеником Репина и его обожал. Живя у меня в деревне, он как-то никогда не говорил с моими приятелями – охотниками-крестьянами. Удивлялся мне, как я могу с ними жить. Это меня поражало. Я так и не понял, в чем дело. Серов говорил про мужичков: «Страшненький народец!» А я этого не замечал. Мне довелось встречать много людей, которые были совершенно чужды мужикам. А я чувствовал себя с крестьянами, как с самыми близкими родными.
Однажды были мы с Серовым в гостях у охотника-крестьянина Герасима Дементьевича в Букове. Герасим Дементьевич, по обыкновению своему, все посмеивался.
Серов после сказал мне:
– А знаешь, этот твой Герасим – особенный, он умный.
– А что! – обрадовался я. – Видишь – понял?
– Да. Смеется он хорошо, – сказал Серов. – Над нами смеется. Что он о нас думает? Интересно бы знать.
Когда пришел Герасим вечером, я его и спросил за обедом:
– Что ты, Герасим Дементьич, об нас понимаешь?
Герасим застенчиво улыбался.
– Чего, – говорит, – Лисеич, ты выдумаешь? Что я могу понять в этом, в деле вашем? Дело трудное – нам не понять… Думаю так, что ученье, конечно; знать, так надо – дело господское. Ну, и удивленье у всех у нас пошло, когда сарай гнилой Левантин Лисандрыч списывал с краю в деревне. Все, вестимо, думают – пошто это, списывать надо?…
Серов слушал, опустив голову, потом сказал мне:
– Ну вот как ты объяснишь, ну-ка?
– Вот, – говорю, – жизнь, деревня. За сараем лес, луг зеленый, книзу дорожка спускается, там ручей – дно видно, песочек… Хорошо. Место раздольное.
– Верно, – сказал Герасим. – Когда я в Переславь езжу, ну, город хорошо, а домой приеду – лучше. Только кто таку картину возьмет, с сараем-то. Скажет: чего сарай – худой, кому надо?…
– Он совершенно прав, – сказал доктор, подняв палец. – Гораздо лучше – написать реку. За лесом выходит месяц, отражается в воде, синий лес вдали…
Серов, опустив голову и глядя на меня исподлобья, спросил:
– Почему лучше?
– А потому, – сказал Иван Иванович, – что есть романс, поэзия, а в гнилом сарае ее нет.
– Ну, как сказать! – возразил Серов.
– Так чего ж, ваше дело, пиши, што хошь, – сказал Герасим. – А вот бы списать, как глухарь на весне токует. Вот я видел эту весну, на суку сидел он, утром его солнце маленько осветило, так он то синий, то малиновый – вот краса какая! Я думал – вот бы тебе, Лисеич, эдакую картину списать, охапку денег бы дали. Я глядел, рот открымши, ей-ей. А он и улетел. Я и стрельнуть забыл, загляделся, значит. Ну, рад… пускай улетел, его счастье.
– Вот бы еще каку картину надо бы написать, – сказал сосед мой Феоктист. – Перьвое, значит, – младенца мать в люльке качает, не спит. А другой рукой веретено вертит – жисть крестьянская. Другая картина, значит, – младенец вырос: парень молодой, товарищи его учат водку пить и табак курить. Третье – женится, дети у его, а он дело бросает, на гуляньице поступает, опять же водка… Потом еще картина: он же в блуд поступает, ера кабацкая становится, по трактирам, кабакам шляется за девками, в блуд ударяется, глаза вертятся, жулит. А кругом его – черти пляшут, радуются… Вот бы эдакия картинки-то списать. Пользительно.








