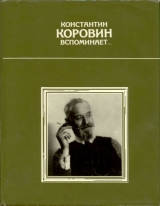
Текст книги "Константин Коровин вспоминает…"
Автор книги: Илья Зильберштейн
Соавторы: Владимир Самков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 53 страниц)
* * *
«…» Вскоре приехал из Петербурга и Шаляпин. Помню его выступление в Большом театре в опере «Жизнь за царя».
После окончания спектакля он долго сидел в уборной и говорил встревоженно:
– Надо подождать. Пойдем через ход со сцены. Не люблю встречаться после спектакля с почитателями. Выйдешь на улицу – аплодисменты, студенты, курсистки…
И он был прав. Мы вышли на улицу со сцены проходом, где выходили рабочие и хористы. И все же, когда мы подходили к карете, несмотря на густой снег, слепивший глаза, толпа каких-то людей бросилась к нам. Кто-то крикнул:
– Шаляпина качать!
Двое, подбежав, схватили Шаляпина – один поперек, другой за ноги. Шаляпин увернулся, сгреб какого-то подбежавшего к нему парня и, подняв его кверху, бросил в толпу. Парень крякнул, ударившись о мостовую. Толпа растерялась. Шаляпин и я быстро сели в карету и уехали.
– Что? Говорил я тебе, видишь!
Дома мы увидели, что кисть правой руки Шаляпина распухла. На утро он не мог двинуть пальцами.
Я был поражен силой Шаляпина – с какой легкостью он поднял над собой и бросил человека в толпу.
Шаляпин уже совсем перестал посещать рестораны. И когда надо было куда-нибудь ехать, всегда задумывался.
– Нельзя мне нигде бывать. Я стараюсь себя сдерживать, но иногда – не могу. То мне предлагают выпить, то ехать еще куда-то ужинать, и когда я отказываюсь, то вижу злые глаза. «Господин Шаляпин, не желаете вступить со мной в знакомство? Презираете? Я тоже пою…» и прочее. Ну как ты будешь тут? Одолевают. Ведь он не то что любит меня. Нет. Он себя показывает. Он не прощает мне, что я пою, что я на сцене имею успех. Он хочет владеть мной, проводить со мной время. И как иногда хочется дать в морду этакому господину!… Отчего я не встречал этого за границей? Никогда не встречал…
– Ничего не поделаешь, Федя, – сказал я, – ведь это слава. Ты великий артист.
– Поверь мне, я терпеть не могу славы. Я даже не знаю, как мне говорить с разными встречными людьми. С трудом придумываю – что сказать. Вот ты можешь. Я удивляюсь. В деревне с мужиками, с охотниками любишь жить, разговаривать. Я же не могу. И как устаешь от этой всей ерунды! Им кажется, что очень легко петь, раз есть голос. Спел – и Шаляпин. А я беру за это большие деньги. Это не нравится… И каждый раз, когда я пою, я точно держу экзамен. Иду как бы на штурм, на врагов. И нелегко мне даются эти победы… Они и я – разные люди. Они любят слушать пение, смотреть картины, но артиста у нас не любят как не любят и поэтов. Пушкина дали убить. А ведь это был Пушкин!… В ресторане выпил рюмку водки, возмущаются: «Пьет. Певец пить не должен». В чем дело? Ты всегда не такой, как им хочется. Получает много. А я за концерт назначил вдвое – бранились, но пришли. На «Демона» в бенефис еще поднял цены – жалею, что не вдвое, ошибся. Все равно было бы полно…
Когда мы подъехали к дому, Шаляпин сказал мне:
– Что-то не хочется спать. Поедем куда-нибудь ужинать. У тебя деньги есть?
– Есть.
– У меня же только три рубля… Поедем, там на Тверской, говорили мне, кавказский погребок есть в подвале. Там армянин шашлыки делает. Хорошие шашлыки, по-кавказски.
– Знаю, – говорю, – но там всегда много артистов ужинает.
– Это там «Шалтырь», что ли?
– Какой «Шалтырь»? – удивился я. – Ты хочешь сказать «Алатр»?
– Ну да, «Алатр». Я туда побаиваюсь ехать.
У Страстного монастыря отпустили карету и взяли лихача. И мы поехали с Федором Ивановичем за город.
– Ты что же с ним не торговался? – спросил дорогой меня Шаляпин.
– Ведь цена известна, пятерку надо дать. В «Гурзуф» – это далеко.
– Пятерка! Да ведь пятерка – это огромные деньги.
– Не расстраивайся, – говорю, – Федя.
В «Гурзуфе», поднимаясь по деревянной лестнице во второй этаж, мы встретили выходящую навеселе компанию. Одна из женщин закричала: «Шаляпин! Вернемтесь, он нам споет».
Шаляпин быстро прошел мимо и, не раздеваясь прошел в кабинет.
– Заприте дверь и никого не пускайте, – сказал он метрдотелю.
Метрдотель посмотрел на дверь и увидел, что в ней нет замка. Шаляпин выпустил метрдотеля, захлопнул дверь и держал ручку. В дверь послышался стук, хотели отворить. Но Шаляпин уперся ногой в притолоку и не пускал.
– Жить же нельзя в этой стране!
Наконец послышался голос метрдотеля.
– Готово-с, отворите…
Все же с метрдотелем в кабинет ворвалась компания. Женщины, весело смеясь, подбежали к Шаляпину, протягивали к нему руки, кричали:
– Не сердитесь, не сердитесь! Несравненный, дивный, мы любим вас, Шаляпин. Обожаем.
Шаляпин рассмеялся. Женщины усадили его на диван, окружили. Обнимали и шептали ему что-то на ухо.
Мужчины, стоявшие в стороне, держали поднос с налитыми бокалами шампанского.
– Прошу прощения, – вставая, сказал Шаляпин, – вы поймите меня, я же не виноват. Я пою, я артист – и только. А мне не дают жить. Вы не думайте, что я не хочу видеть людей. Это неверно. Я люблю людей. Но я боюсь, боюсь оскорбления.
– Федор Иванович, – сказал один из мужчин, – но, согласитесь, мы тоже любим вас. Что же делать? Вот дамы наши, как услышали, что вы приехали, всех нас бросили. Вы сами видите, в какое печальное положение мы попали. Взвыть можно. Пожалейте и нас, и позвольте вам предложить выпить с нами шампанского. Мы ведь с горя пьем.
Федор Иванович развеселился. Выпил со всеми на «ты», сел за пианино и запел, сам себе аккомпанируя:
Ах ты, Ванька, разудала голова…
Лишь к утру компания москвичей привезла Шаляпина, окруженного дамами, домой…
На репетициях
В Москве, на Балчуге, у Каменного моста, я лежал больной тифом в моей мастерской[324].
Однажды утром пришел ко мне Шаляпин. Разделся в передней и, войдя ко мне, сказал:
– Ты сильно болел, мне говорили. Что же это с тобой? Похудел, одни кости.
Шаляпин сел около меня, у столика.
– Видишь ли, я пришел к тебе посоветоваться. Я ухожу из императорских театров. Все дирижеры мне бойкот объявили. Все обижены. Они же ничего не понимают. Я им говорю: «Может быть, вы лучше меня любите ваших жен, детей, но дирижеры вы никакие»… Представь, все обиделись. И я больше не пою, ухожу из театра[325]. Я же могу всегда получать больше, чем мне платят. Где хочешь – за границей, в Америке… Ты знаешь, твой Теляковский закатил мне в контракте какую неустойку – двести тысяч! Ты как думаешь, он возьмет?
– Что такое, – ответил я, – «возьмет Теляковский»… Теляковский ничего не может ни взять, ни отдать. На это есть государственный контроль, который возьмет, конечно.
– Ну, я так и знал, в этой стране жить нельзя.
И Шаляпин ушел.
* * *
Дирижировал Коутс[326]. Шаляпин пел Грозного, Галицкого, Бориса. Все – в совершенстве.
Театр, как говорят, ломился от публики. И в каждом облике Шаляпин представал по-новому. И всякое новое воплощение его было столь убедительно, что вы не могли представить себе другой образ. Это были именно те люди, те характеры, какими их показывал Шаляпин.
На репетициях Шаляпин бывал всегда гневен. Часто делал замечания дирижеру. Отношение Шаляпина к искусству было серьезно и строго. Если что-нибудь не выходило, он приходил в бешенство и настаивал на точном исполнении его замыслов.
При появлении Шаляпина на сцене во время репетиции наступала полная тишина, и во все глаза смотрели на Шаляпина. Чиновники в вицмундирах при виде Шаляпина уходили со сцены.
Шаляпин был ко всем и ко всему придирчив.
Однажды, на генеральной репетиции «Хованщины» Мусоргского, которую он режиссировал, Шаляпин, выйдя в сцене «Стрелецкое гнездо», сказал:
– Где Коровин?
Театр был полон посторонних – родственников и знакомых артистов.
Я вышел из средних рядов партера и подошел к оркестру. Обратившись ко мне, Шаляпин сказал:
– Константин Алексеевич. Я понимаю, что вы не читали историю Петра, но вы должны были прочесть хотя бы либретто. Что же вы сделали день, когда на сцене должна быть ночь? Тут же говорится: «Спит стрелецкое гнездо».
– Федор Иванович, – ответил я, – конечно, я не могу похвастаться столь глубоким знанием истории Петра, как вы, но все же должен вам сказать, что это день, и не иначе. Хотя и «спит стрелецкое гнездо». И это ясно должен знать тот, кто знает «Хованщину».
В это время из-за кулис выбежал режиссер Мельников[327]. В руках у него был клавир. Он показал его Шаляпину и сказал:
– Здесь написано: «Полдень».
Шаляпин никогда не мог забыть мне этого.
Камень
На сцене стоял камень, вечный камень. Он был сделан вроде как изголовье. Этот камень ставили во всех операх. На нем сидели, пели дуэты, на камне лежала Тамара, в «Русалке» – Наташа, и в «Борисе Годунове» ставили камень.
Как– то раз Шаляпин пришел ко мне и, смеясь, сказал:
– Слушай да ведь это черт знает что – режиссеры наши все ставят этот камень на сцену. Давай после спектакля этот камень вытащим вон. Ты позовешь ломового, мы его увезем на Москва-реку и бросим с моста.
Но камень утащить Шаляпину режиссеры не дали.
– Не один, – говорили, – Федор Иванович, вы поете, камень необходим для других…
Трезвинский даже сказал ему:
– Вы, декаденты!…
Антрепренерша из Баку
Шаляпин любил ссориться, издеваться над людьми, завидовал богатству – страсти стихийно владели его послушной душой. Он часто мне говорил, что в молодости своей никогда не испытал доброго к себе внимания, – его всегда ругали, понукали.
– Трудно давался мне пятачок. Волга, бродяжные ночлеги, трактирщики, крючники, работа у пароходных пристаней, голодная жизнь… Я получаю теперь очень много денег, но, когда у меня хотят взять рубль или двугривенный, – мне жалко. Это какие-то мои деньги. Я ведь в них, в грошах, прожил свою юность. Помню, как одна антрепренерша в Баку не хотела мне заплатить – я был еще на выходах, – и я поругался с ней. Она кричала: «В шею! Гоните эту сволочь! Чтоб духу его здесь не было!» На меня бросились ее служащие, прихвостни. Вышла драка. Меня здорово помяли. И я ушел пешком в Тифлис. А через десять лет мне сказали, что какая-то пожилая женщина хочет меня видеть: «Скажите ему, что он у меня пел в Баку и что я хочу его повидать». Я вспомнил ее и крикнул:
– Гоните в шею эту сволочь!
И ее выгнали из передней.
– Ты мог бы поступить и по-другому, – сказал я.
– Брось, я не люблю прощать. Пускай и она знает. Так лучше. А то бы считала меня дураком. Ты не знаешь, что такое антрепренер. А ты думаешь, даже Мамонтов или Дягилев, если бы я дался, не стали бы меня эксплуатировать? Брось, я, брат, знаю. Понял…
Деньги
Сколько ни вспоминаю Федора Шаляпина в его прежней жизни, когда он часто гащивал у меня в деревне и в Крыму, в Гурзуфе, не проходило дня, чтобы не было какой-либо вспышки. В особенности, когда вопрос касался искусства и… денег.
Когда кто-нибудь упомянет о каком-нибудь артисте Шаляпин сначала молча слушает, а потом его вдруг прорвет:
– Вот вы говорите «хороший голос», но он же идиот, он же не понимает, что он поет. И даже объяснить не может, кого изображает.
И начинается… Из-за денег та же история. С шоферами, с извозчиками, в ресторане… Ему всегда казалось, что с него берут лишнее.
В магазине Шанкс на Кузнецком мосту он увидал как-то в окне палку. Палка понравилась. Шаляпин зашел в магазин. Приказчик, узнав его, с поклоном подал ему палку. Шаляпин долго ее примерял, осматривал, ходил по магазину.
– А ручка эта металлическая?
– Серебряная.
– Что же стоит эта палка?
– Пятьдесят рублей. Что же для вас-то, Федор Иванович, пятьдесят рублей, – имел неосторожность сказать приказчик.
– То есть, что это значит – для вас? Что я на улице, что ли, деньги нахожу?…
И пошло… Собрались приказчики, пришел заведующий.
– Как он смеет мне говорить «для вас»…
И Шаляпин в гневе ушел из магазина, не купив палку…
В ресторане, потребовав счет, Шаляпин тщательно его проверял, потом подписывал и говорил:
– Пришлите домой.
Помню, мы с Серовым однажды сыграли с ним шутку.
Шаляпин пригласил меня и Серова завтракать в «Эрмитаж». Я упросил директора, Егора Ивановича Мочалова, поставить в счет холодного поросенка, которого не подавали. Егор Иванович подал счет Шаляпину. Тот внимательно просмотрел его и сказал:
– Поросенка же не было.
– Как не было? – сказал я. – Ты же ел!
– Антон, – обратился Шаляпин к Серову, – ты же видел, поросенка не было.
– Как не было? – изумился Серов. – Ты же ел!
Шаляпин посмотрел на меня и на Серова и, задохнувшись, сказал:
– В чем же дело? Никакого поросенка я не ел.
Егор Иванович стоял молча, понурив голову.
– Я не понимаю… Ведь это же мошенничество.
Шаляпин, как всегда в минуты сильного волнения, водил рукой по скатерти, как бы сметая сор, которого не было.
– Отличный поросенок, – сказал я, – ты съел скоро, не заметил в разговоре.
Шаляпин тяжело дышал, ни на кого не смотря.
Тут Егор Иванович не выдержал:
– Это они шутить изволят. Велели в счет поросенка поставить…
Шаляпин готов был вспылить, но посмотрел на Серова, рассмеялся.
* * *
Приятели знали эту слабую струнку Шаляпина.
Раз он позвал после концерта приятелей – композитора Юрия Сахновского[328], [Корещенко] и Курова[329], который писал музыкальные рецензии в газетах, – поужинать в «Метрополь» в Москве.
Шаляпин сам заказал ужин. Подали холодное мясо и водку. Тут Сахновский сказал:
– Я мяса не ем, а закуски нет.
Позвал полового и приказал:
– Расстегаи с осетриной и икры.
Шаляпин помрачнел. Когда расстегаи были съедены, Сахновский сказал:
– Федор, Корещенко скажет тебе слово. Мне самому неудобно – ты пел мой романс.
Корещенко поднял рюмку.
– Что ты, с ума сошел – воскликнул Сахновский. – Надо шампанского!
Шаляпин поморщился и велел подать бутылку шампанского. Вино разлили по бокалам, но всем не хватило.
Когда Корещенко начал свою речь, Сахновский знаком подозвал полового и что-то шепнул ему. Через несколько мгновений половой принес на подносе шесть бутылок шампанского и стал методически откупоривать. Шаляпин перестал слушать Корещенко и с беспокойством поглядел на бутылки.
– В чем дело?
– Не беспокойся, Федя, куда ты все торопишься? Не допил я… Не беспокойся. Хорошо посидится – еще выпьем.
– Но я не могу сидеть, я устал, – сказал с раздражением Федор Иванович. – Ты ведь концерта не пел.
– А ты выпей и отдохни, – невозмутимо продолжал Сахновский. – Не допил я!… Куда торопиться?…
Шаляпин с каждым словом все более хмурился.
– А о вине не беспокойся, Федя, – все тем же невозмутимым голосом пел Сахновский. – За вино я заплачу.
– Не в этом дело! – вспылил Шаляпин. – Припишите там в мой счет. Устал я!
И уехал домой мрачный.
* * *
Избалованный заслуженным успехом, Шаляпин не терпел неудач ни в чем. Однажды, играя на бильярде у себя с приятелем моим, архитектором Кузнецовым[330], он проиграл ему все партии. Замучился, но выиграть не мог. Кузнецов играл много лучше.
В конце концов Шаляпин молча, ни с кем не простясь, ушел спать. А много времени спустя, собираясь ко мне в деревню, как бы невзначай спросил:
– А этот твой Кузнецов будет у тебя?
– А что? – в свою очередь спросил я.
– Грубое животное! Я бы не хотел его видеть.
«Бильярд», – подумал я.
Шаляпин и Серов
Часто достаточно было пустяка, чтобы Шаляпин пришел в неистовый гнев, и эта раздражительность с годами все возрастала. С Врубелем он поссорился давно и навсегда. Да и с Серовым.
Узнав однажды, что у меня будет Шаляпин, Серов не поехал ко мне в деревню. Меня это удивило. И каждый раз, когда впоследствии я приглашал его к себе одновременно с Шаляпиным, отмалчивался и не приезжал.
Я спросил как-то Серова:
– Почему ты избегаешь Шаляпина?
Он хмуро ответил:
– Нет. Довольно с меня.
И до самой смерти не виделся больше с Шаляпиным[331].
Раз Шаляпин спросил меня:
– Не понимаю, за что Антон на меня обиделся?
– Ну что вам друзья, Федор Иванович, – ответил я. – «Было бы вино… да вот и оно!», как ты сам говоришь в роли Варлаама[332].
В сущности, когда кто-нибудь нужен был – Серов ли, Васнецов, то он был «Антоша дорогой» либо «дорогой Виктор Михалыч». А когда нужды не было, слава и разгулы с услужливыми друзьями заполняли ему жизнь…
Странные люди окружали Шаляпина. Он мог над ними вдоволь издеваться, и из этих людей образовалась его свита, с которой он расправлялся круто: Шаляпин сказал, – и плохо бывало тому, кто не соглашался с каким-либо его мнением. Отрицая самовластие, он сам был одержим самовластием. Когда он обедал дома, что случалось довольно редко, то семья его молчала за обедом, как набрав в рот воды.
Когда Шаляпин не пел
Шаляпин довольно часто отказывался петь, и иногда – в самый последний момент, когда уже собиралась публика. Его заменял в таких случаях по большей части Власов[333]. В связи с этими частыми заменами по Москве ходил анекдот.
…Шаляпин ехал на извозчике из гостей навеселе.
– Скажи-ка, – спросил он извозчика – ты поешь?
– Где же мне, барин, петь? С чаво? Во когда крепко выпьешь, то бывает, вспомнишь и запоешь.
– Ишь ты, – сказал Шаляпин, – а вот я, когда пьян, так за меня Власов поет…
Не было дома в Москве, где бы не говорили о Шаляпине. Ему приписывали самые невероятные скандалы, которых не было, и выставляли его в неприглядном виде. Но стоило ему показаться на сцене – он побеждал. Восторгу и вызовам не было конца.
В бенефис оркестра, когда впервые должен был идти «Дон Карлос» Верди, знатоки и теоретики говорили:
– Шаляпин провалится.
В частности, и у Юрия Сахновского, когда он говорил о предстоящем спектакле, злой огонек светился в глазах. А когда я встретил его в буфете театра после второго акта и спросил:
– Ну что же, как вы, критики, скажете?
Он ответил:
– Ну что скажешь… Ничего не скажешь… Силища!…
В чем была тайна шаляпинского обаяния? Соединение музыкальности, искусства пения с чудесным постижением творимого образа.
Цыганский романс
На второй день рождества я справлял мои именины. Собирались мои приятели – артисты, художники, охотники. И всегда приезжал Шаляпин.
На этот раз он приехал сразу после спектакля из театра, в костюме Галицкого. Все обрадовались Федору Ивановичу. Он сел за стол рядом с нашим общим приятелем Павлом Тучковым. В руках у того была гитара – он пел, хорошо подражая цыганам, и превосходно играл на гитаре[334]. К концу ужина Павел Александрович сказал Шаляпину:
– Вторь!
Шаляпин оробело послушался. Павел Александрович запел:
Задремал тихий сад…
Ночь повеяли…
Павел Александрович остановился и искоса посмотрел на Шаляпина:
– Врешь. Сначала.
Задремал тихий…
Снова – многозначительная пауза: Шаляпин фальшивил.
Высоко подняв брови и выпучив глаза, Павел молча смотрел на Шаляпина.
– Еще раз. Сначала…
Шаляпин все не попадал в тон – выходило невероятно скверно. Шаляпин смотрел растерянно и виновато.
– Скажите, пожалуйста, – спросил, наконец, Тучков Шаляпина, – вы, кажется, солист его величества? Странно! И даже очень странно…
– А что? – спросил робко Шаляпин.
– Как что? Врешь, слуху нет – фальшиво…
– Разве? – изумился Шаляпин. – Что такое…
– Сначала!
Задремал тихий сад…
– Ничего не выходит! Да, это вам не опера. Орать-то можно, но петь надо уметь. Не можете спеть цыганского романса, не дано. Уха нет.
Шаляпин был столь комичен в этой новой неожиданной роли, что нельзя было удержаться от смеха. Кругом приятели мои ржали, как лошади. И один только Павел Александрович никак не мог сообразить, что происходит:
– Совершенно непонятно: оперу петь умеет, а цыганский романс не может. Слуха не хватает. Ясно…
«Демон»
К бенефису Шаляпина готовили «Демона» Рубинштейна в моей постановке. Костюм, равно как и парик и грим, делал Шаляпину я. Спектакль как-то не ладился. Шаляпин очень негодовал, Говорил мне:
– Не знаю, буду ли еще петь.
Мы жили в это время вместе. Вернувшись как-то с репетиции, он сказал:
– Я решил отказаться. Выйдет скандал, билеты все проданы. Не так все, понимаешь, – дирижируют вяло, а завтра генеральная репетиция. На-ка, напишу я письмо.
– Скажи, – спросил я, – вот ты все время со мной, на репетиции был не больше получаса, а то и совсем не ходишь, значит, ты знаешь «Демона»?
– Ну, конечно, знаю, – ответил Шаляпин, – каждый студент его в номерах поет. Не выходит у меня с Альтани[335]. Пойду вызову по телефону Корещенко.
Шаляпин встал с постели и пошел говорить по телефону. Вскоре приехал Корещенко с клавиром. Шаляпин, полуодетый, у пианино показал Корещенко место, которое не выходило у него с оркестром. Корещенко сел за пианино, Шаляпин запел:
Клянусь я первым днем творенья…
И сразу остановился.
– Скажи, пожалуйста, – спросил он Корещенко, – ты ведь, кажется, профессор консерватории?
– Да, Федя, а что?
– Да как что, а что же ты играешь?
– Как что? Вот что, – он показал на ноты.
– Так ведь это ноты, – сказал сердито Шаляпин, – ведь еще не музыка. Что за темпы! Начинай сначала.
И Шаляпин щелкал пальцем, отбивая такт, сам ударял по клавишам, постоянно останавливал Корещенко и заставлял повторять.
За завтраком в «Эрмитаже» Шаляпин говорил:
– Невозможно. Ведь Рубинштейн был умный человек, а вы все ноты играете, как метрономы. Смысла в вашей музыке нет. Конечно, мелодия выходит, но всего нотами не изобразишь!…
Корещенко был скромный и тихий человек. Он покорно слушал Шаляпина и сказал:
– Но я же верно играю, Федя.
– Вот и возьми их! – сказал Шаляпине. – Что из того, что верно! Ноты – это простая запись, нужно их сделать музыкой, как хотел композитор. Ну вас всех к черту!
На другой день утром мы поехали на генеральную репетицию. Шаляпин был молчалив и расстроен.
Когда мы приехали в театр, репетиция уже шла. Как всегда, Альтани, увидав Шаляпина в кулисе, остановил оркестр и показал ему вступление палочкой:
– «Дитя, в объятиях твоих…» – запел Шаляпин и остановился.
Сняв шарф и шубу, он подошел к дирижеру и обратился к оркестру.
– Господа, вы – музыканты, вы все – профессора, и вы, дорогой маэстро, – обратился он к Альтани, – прошу вас, дайте мне возможность продирижировать мои места в опере.
Альтани отдал палочку концертмейстеру Крейну[336], который, встав, передал ее на сцену Шаляпину. Шаляпин поднял палочку:
– Ариозо «Клянусь», – и запел полным голосом.
Когда он дошел до фразы: «Волною шелковых кудрей», – оркестр встал, музыканты закричали «браво» и сыграли Шаляпину туш.
Шаляпин продирижировал всю свою партию. Альтани что-то отмечал карандашом в партитуре. Шаляпин пел и за себя, и за хор и сразу повеселел. Благодарил Альтани и музыкантов, всех артистов и хор.
Когда мы с Шаляпиным вышли из театра, он сказал:
– Видишь, какая история, теперь все ладится. Я же боялся сказать: «Дайте мне продирижировать». Черт его знает – Альтани обидится. Положит палочку, уйдет, и опять забастовка дирижеров. Они думают, что я их учу, а они все ученые. Я же прощу понять меня, и только. Теперь споем… А знаешь ли, дешево я назначил за билеты. Надо было вдвое. Поедем куда-нибудь завтракать. В «Эрмитаже» народу много, пойдем к Тестеву, здесь близко. Съедим головизну. Нет! Головизна тяжело, закажем уху из ершей и расстегаи. Надо выпить коньяку…
Бенефис прошел с огромным успехом. Но гордая московская пресса холодно отозвалась о бенефисе Шаляпина[337]. Вообще Шаляпин был с прессой не в ладах[338].
Впрочем, после своего бенефиса в Петербурге он больше «Демона» не пел. Говорил, что партия для него все же высока, хотя он ее и транспонировал.
* * *
Вскоре после бенефиса Шаляпин, Горький, Серов, я и Сахновский поехали вечером ужинать. Подъехав к Страстному монастырю, остановились и стали обсуждать, куда ехать, – Горький и Шаляпин не хотели встречаться с толпой. Решили ехать за город, в «Стрельну». Шаляпин – отдельно с Горьким. А Сахновский – с нами, на паре, которую взяли на площади. Дорогой Сахновский, как обычно, говорил, что бросил пить.
– Нельзя, полнею… А вот в «Стрельне» придется.
В «Стрельне» заняли отдельный кабинет. Принесли закуски, вино, холодного поросенка.
Соседний кабинет был полон кутящими гостями. Там было шумно. Пел венгерский хор. Вдруг наступила тишина, и мужской голос неожиданно запел на мотив Мефистофеля:
Сто рублей на бенефис
Я за вход себе назначил.
Москвичей я одурачил.
Деньги все ко мне стеклись.
В соседнем кабинете раздался хохот и аплодисменты.
Мой великий друг Максим
Заседал в отдельной ложе.
Полугорьких двое тоже
Заседали вместе с ним.
Мы дождались, этой чести.
Потому что мы друзья.
Это все – одна семья.
Мы снимались даже вместе.
Чтоб москвич увидеть мог.
Восемь пар смазных сапог.
Смазных сапог.
Восемь пар смазных сапог.
Смазных сапог, да!
– Что за черт, – сказал Шаляпин. – А ведь ловко.
Позвали метрдотеля. Шаляпин: спросил:
– Кто это там?
– Да ведь как сказать… Гости веселятся. Уж вы не выдайте, Федор Иванович. Только вам скажу: Алексей Александрович Бахрушин[339] с артистами веселятся. Они хотели вас видеть, только вы не пустите.
Горький вдруг нахмурился и встал:
– Довольно. Едем.
Мы все поднялись. Обратно Горький и Шаляпин снова ехали вместе, мы – на паре.
– Чего он вскинулся? – удивлялся Серов. – Люди забавляются. Неужели обиделся? Глупо!
На Волге
От директора императорских театров Теляковского я получил телеграмму. Он просил меня приехать к нему в имение «Отрадное», близ Рыбинска на Волге.
– Поедем, Федя, – предложил я.
– Ладно, – ответил Шаляпин, – я люблю Волгу. Поедем из Ярославля на пароходе «Самолет». Будем есть стерлядь кольчиком.
– Ты что, так в поддевке и поедешь?
– А почему же? Конечно, в поддевке.
– Узнают тебя на пароходе, будут смотреть.
– А черт с ними. Пускай.
Когда приехали в Ярославль, узнали, что пароход «Самолет» отходит через три часа. Куда деться? Пошли в городской сад и сели у ресторана снаружи. Нам была видна дорога, которая спускалась к Волге. По ней ехали ломовики, везли рогожные кули с овсом, огромные мешки с хлебом в корзинах из прутьев – белугу, осетрину, севрюгу. Возы тянулись бесконечно по дороге. Слышалось: «Ыы… Ыы…» Ломовые понукали лошадей. Ехали бабы на возах, в цветных платках, загорелые и дородные «…»
К обеду нам подали белугу с хреном и икру зернистую, на коробке было написано: «Калганов. Москва».
– Ты посмотри, что написано, – сказал Шаляпин, – в чем дело?
Он рассердился, позвал человека и приказал:
– Убери.
Только мы стали есть белугу, как за соседний столик сели два чиновника, в фуражках с кокардами. Один молодой, другой постарше. Молодой посмотрел на Шаляпина и сказал что-то другому. Старший тоже посмотрел на Шаляпина. «Узнали», – подумал я.
Чиновники встали и подошли к нам. Старший сказал:
– Здравствуйте, Федор Иванович. Позвольте вас приветствовать в нашем городе.
– Очень рад, – ответил Шаляпин. – Но я вас не знаю.
– Нас много, – ответил, улыбаясь, старший. – Мы чиновники у губернатора. Нас много и губерний много. А вы один – великий артист. Позвольте вас приветствовать.
– Садитесь, – сказал Шаляпин.
Один из чиновников позвал человека и заказал бутылку шампанского. Когда подали шампанское, оба чиновника встали и подняли бокалы.
– Мы ездили в Москву вас слушать, Федор Иванович, и каждый день вспоминаем о вашем спектакле с восторгом. Но, простите, Федор Иванович, мы слышали, что вы – друг Горького. Друг этого лжеца и клеветника России. Неужели это правда?
Шаляпин побледнел.
– Мы, очевидно, с вами разные люди. Мне неприятно слышать про Алексея Максимовича, что он – лжец и клеветник. Вам, вероятно, не нравится та правда, которую он говорит.
Шаляпин отвернулся от чиновников, позвал человека и коротко сказал мне:
– Заплати.
Я расплатился по счету. Шаляпин молчал, ждал.
– Пойдем.
И мы ушли, не дотронувшись до шампанского.
– Вот видишь, – сказал мне дорогой Шаляпин, – жить же нельзя в этой стране.
Мы шли, спускаясь к Волге. Шаляпин вел меня по берегу мимо бесконечных пристаней. Потом вдруг сказал:
– Зайдем сюда.
Проходя мимо бочек и всюду наваленного товара, мы подошли к рыбной лавке. Лавочник, по приказанию Шаляпина, взял ножик, вытер о фартук и вытянул осетра изо льда. Осетр открывал рот. Лавочник бросил его на стол и полоснул ножом по животу. Показалась икра. Лавочник выгреб ее ложкой в миску, поставил миску и соль в бураке перед Шаляпиным и подал калачи. Шаляпин щепотью посолил икру в миске и сказал:
– Ешь, вот это настоящая.
Мы ели зернистую икру с калачом.
– Это еще не белужья, – говорил Шаляпин, откусывая калач. – Настоящая-то ведь белужья зернистая.
– Белужьей нет, – сказал рыбник. – Белужья боле за границу идет. Белужья дорогб. У нас в Ярославле белужьей не достать. В Питере, Москве еще можно.
* * *
Всю дорогу до Теляковского Шаляпин проспал в каюте.
Теляковский обрадовался Шаляпину. За обедом был священник соседнего села и две гувернантки – англичанка и француженка. Видно было, что Шаляпин им понравился. С англичанкой он заговорил на английском языке. Та рассмеялась: Шаляпин не знал по-английски и нес чепуху, подражая произношению англичан.
Через два дня мы уехали. Возвращались опять на пароходе «Самолет».
Стоял ясный летний день. Далеко расстилалась Волга, заворачивая за лесные берега, по которым были разбросаны деревни, села и блестели купола церквей.
Мы с Шаляпиным сели за стол в салоне первого класса. Шаляпин заказал чай. Снял картуз и салфетку бросил себе через плечо на поддевку. Налил чай из стакана в блюдце, взял его всей пятерней и, мелко откусывая сахар и дуя в блюдце, говорил:
– Швырок-то ноне в цене. Три сорок, не приступись. У Гаврюхина швырку досыта собака наестся. Не проворотишь. Да ведь кому как. Хоть в лепешку расстелись, а Семену крышка.
Я подумал: «Чего это Федор разделывает? Купца волжского – дровяника».
Все пассажиры смотрели на нас. Входили в салон дамы и с удивлением оглядывали Шаляпина.
Я вышел из салона на палубу. Прошла какая-то женщина в нарядной шляпе. За ней – муж, держа за руку мальчика. Муж, догоняя жену, говорил:
– Это не он. Не он, уверяю тебя.
– Нет, он, – отвечала жена. – Он. Я его узнала.
– Да не он же, что ты!
– Перестань, я знаю.
Они обошли кругом по палубе. И когда приблизились опять к салону, где сидел и пил чай Шаляпин, женщина вновь бросила взгляд в окно и с уверенностью сказала:
– Он.
Муж, поравнявшись со мной, приостановился и робко спросил:
– Извините, вот вы в рубке сидели с этим высоким, чай пили, – что, это Шаляпин?
– Нет, – ответил я. – Купец. Дрова по Волге скупает…
Когда я вошел в салон, Шаляпин продолжал пить чай из блюдца и салфеткой вытирать пот с лица и со лба. Я опять подсел к нему. Он тотчас же стал снова дурить.
– Неча гнаться. Швырок-от погодит. Не волк, в лес не уйдет. Пымаем. Наш будет. В Нижнем скажу, так узнает Афросимова. Он еще поплачет. Погоди.
– Довольно, Федя, – шепнул я. – Тебя же узнали.
– А куда ему есеныть до Блудова? Блудовский капитал не перешибет, он теперь на торф переходит. Он те им покажет. В ногах поваляются. Возьми швырок, возьми. Вот тогда-то за два двадцать отдадут. А то без порток пустит, Блудова-то я знаю.
– Довольно же! – вновь тихо сказал я.








