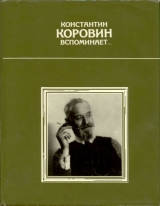
Текст книги "Константин Коровин вспоминает…"
Автор книги: Илья Зильберштейн
Соавторы: Владимир Самков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 53 страниц)
Из– за денежных расчетов между Шаляпиным и Мамонтовым происходили частые недоразумения.
– Есть богатые люди, почему же я не могу быть богатым человеком? – говорил Шаляпин. – Надо сделать театр на десять тысяч человек, и тогда места будут дешевле.
Мамонтов был совершенно с ним согласен, но построить такого театра не мог. Постоянная забота о деньгах, получениях, принимала у Шаляпина болезненный характер. Как-то случалось так, что он никогда не имел при себе денег – всегда три рубля и мелочь. За завтраком ли, в поезде с друзьями, он растерянно говорил:
– У меня же с собой только три рубля…
Это было всегда забавно.
* * *
Летом Шаляпин гостил где-нибудь у богатых людей или у друзей: у Козновых[295], Ушковых[296]. И более всего у меня.
Когда мы приезжали ко мне в деревню на охоту или на рыбную ловлю, мужички приходили поздравить нас с приездом. Им надо было дать на водку, на четверть, и я давал рубль двадцать копеек.
Шаляпин возмущался и ругательски меня ругал.
– Я же здесь хочу построить дом, а ты развращаешь народ! Здесь жить будет нельзя из-за тебя.
– Федя, да ведь это же охотничий обычай. Мы настреляли тетеревов в их лесу сколько, а ты сердишься, что я даю на чай. Ведь это их лес, их тетерева.
Серов, мигая, говорил:
– Ну, довольно, надоело.
И Шаляпин умолкал.
* * *
Государственный контролер Тертий Иванович Филиппов обратился как-то к Шаляпину, чтобы тот приехал в Петербург для участия в его хоре. Шаляпин спросил Мамонтова, как в данном случае поступить.
– Как же, Феденька, – ответил Мамонтов, – вы же заняты в театре у меня, билеты проданы. Это невозможно.
И Мамонтов написал Филиппову письмо, что не может отпустить Шаляпина. В это время уже заканчивалась постройка Архангельской железной дороги.
– Какая странность, – говорил мне Мамонтов, – ведь ему же известно, что Шаляпин находится у меня в труппе. Ему надо было прежде всего обратиться ко мне…
В конце концов, Шаляпин уехал все же в Петербург петь в хоре. Между Филипповым и Мамонтовым вышла ссора…
* * *
В это время (1899 год) я был привлечен к сотрудничеству князем Тенишевым, назначенным комиссаром русского отдела на парижской выставке 1900 года[297]. Великая княгиня Елизавета Федоровна[298] также поручила мне сделать проект кустарного отдела и помочь ей в устройстве его.
И вдруг в Париже я узнал, что Мамонтов разорен и арестован. Вернувшись в Москву, я с художниками Васнецовым и Серовым навестил Мамонтова в тюрьме. Савва Иванович был совершенно покоен и тверд и не мог нам объяснить, почему над ним стряслась беда «…» Все быстро продали с аукциона – и заводы, и дома.
Я сейчас же навестил Савву Ивановича в доме его сына, куда его перевели под домашний арест. Савва Иванович держал себя так, будто с ним ничего не случилось. Его прекрасные глаза, как всегда, смеялись. И он только грустно сказал мне:
– А Феденьке Шаляпину я написал, но он что-то меня не навестил[299].
* * *
Частная опера продолжалась под управлением Винтер[300] – сестры артистки Любатович. Я не был в театре под ее управлением. Там делал постановки М. А. Врубель, с которым Шаляпин поссорился окончательно. А потом, кажется, и со всеми в театре.
Обед у княгини Тенишевой[301]
Я вернулся в Париж и занимался устройством русского отдела выставки. Однажды утром, как сейчас помню, приехал Шаляпин в гостиницу на рю[302] Коперник и поселился со мной. Была весна, апрель. Я торопился с работами. Первого мая открывалась выставка. В русском отделе все было готово. Во время работ по размещению экспонатов Шаляпин был всегда со мной на выставке. Для этого даже получил отдельный пропуск. Но скучал и говорил:
– Ну довольно, кончай, пойдем завтракать. Ты посмотри на мой Париж, – говорил он с акцентом, подражая какому-то антрепренеру.
Шаляпин был весел. Говорил:
– Я здесь буду петь.
Княгиня Тенишева приглашала Шаляпина к себе, и князь усердно угощал его роскошными обедами и розовым шампанским, приговаривая:
– Пейте. Все вздор.
И оба усердно выпивали.
Но вышло недоразумение. Княгиня позвала Шаляпина на большой обед в их особняке на рю Бассано. Было приглашено много народу. В конце обеда княгиня просила Шаляпина спеть. Шаляпин отказался, говоря, что у него нет с собой нот. Но оказалось, что уже был приглашен пианист и приобретены ноты его репертуара. Пришлось согласиться.
Шаляпин пел. Приглашенные гости-иностранцы были в восхищении от замечательного артиста. Он пел много и был в ударе. Утром на другой день Тенишев прислал Шаляпину в подарок булавку с бриллиантом. А Федор Иванович как раз в это время сидел у меня и писал счет за исполненный концерт. Счет был внушительный, и тут же был послан князю Тенишеву с его же посланным.
В полдень, отправляясь завтракать на выставку, мы встретили у подъезда того же посланного. Он принес большой пакет с деньгами от князя Тенишева и попросил Шаляпина дать расписку в получении.
В ресторане за завтраком я сказал, смеясь:
– Что ж ты, Федя, получил и булавку, и деньги.
– А как же, булавка – это подарок, а я за подарок не пою. Это же был концерт. Я пел почти три часа. Какие же тут булавки[303].
– Ты так перед отъездом и не повидал Савву Ивановича? – спросил я.
– Нет, я же не понимаю, в чем дело. Арест. А ты думаешь, что он виноват?
– Нет, я не думаю, что он виноват. Этого не может быть, – сказал я убежденно.
– Это, должно быть, Тертий [Филиппов] ему устроил праздник. Он же контролер. У него все виноваты.
– А вот ты Тертию за концерт счета не напишешь.
– Ну нет! Я тоже ему счетик написал! Заплатил. Но уж больше меня в хор петь не зовет.
И Шаляпин засмеялся.
На выставке мы завтракали в ресторане «Бояр», где стены были из одного стекла. Весеннее солнце весело играло по столам. Недалеко, в стороне, сидел какой-то господин и все посматривал на нас.
– Это русский, – сказал Шаляпин.
Рядом с ним сидели двое иностранцев. Разбавляя абсент, они лили в длинные бокалы, поверх которых лежали кусочки сахара, воду. Русский позвал гарсона и заказал ему тот же напиток, что пили иностранцы, но щелчком сшиб сахар с бокала и велел налить его дополна абсентом. Гарсон вопросительно посмотрел на чудака. Русский, встав, сказал:
– Федор Иванович, ваше здоровье! – И одним духом выпил весь стакан абсента.
– Постой, – сказал Шаляпин. И, поднявшись, подошел к русскому.
– Что это вы пьете?
– Без воды надо это пить, они не понимают.
– Ну-ка, налей.
И Шаляпин тоже выпил абсент без воды.
– А крепкая штука, в первый раз пью. Водка-то наша – просто вода…
Возвращение в императорские театры
По открытии парижской выставки в мае 1900 года, я получил письмо от управляющего московскими императорскими театрами В. А. Теляковского в котором он мне предлагал принять на себя ведение художественной части московских императорских театров и сообщить о времени моего приезда в Москву.
Я сказал об этом Шаляпину.
– Придется и тебе петь в императорском театре.
– Вряд ли, – ответил мне Федор Иванович, – они меня там терпеть не могут. Да к тому же считают революционером.
– Какой ты революционер? Где ж ты будешь петь? Мамонтов ведь разорен.
На этом разговор наш оборвался.
По приезде моем в Москву, на другой же день утром, ко мне приехал очень скромного вида человек, одетый в серую военную тужурку. Он был немножко похож лицом на простого русского солдата. В светло-серых глазах его я прочел внимание и ум.
Он просто сказал мне:
– Я бы хотел, чтобы вы вошли в состав управления театрами. Страдает у нас художественная сторона. Невозможно видеть невежественность постановок. Я видел ваши работы у Мамонтова, и мне хотелось бы, чтобы вы работали в театре. Жалею, что нельзя привлечь Мамонтова, с ним такое несчастье.
– А как же с оперой? – сказал я. – Ведь опера – это Шаляпин. Какая же русская опера без Шаляпина?
– Да, это правда, – согласился Теляковский. – Но это очень трудно провести. Хотя я об этом всегда думал.
В тот же день я приехал к Теляковскому, и мы с ним проговорили до шести часов утра «…»
* * *
Шаляпин тем временем вел ежедневно переговоры с Теляковским. И Теляковский говорил мне, смеясь:
– Ну и особенный человек ваш Шаляпин. Вы знаете, какие пункты он вносит в контракт? Например: постоянная годовая ложа для его друга Горького. Потом еще три ложи для его друзей, которых, оказывается, он даже поименно не знает. Потом плата, невиданная в императорских театрах, – полторы и две тысячи за спектакль. Притом он уже несколько раз терял подписанные мной с ним контракты. Наконец, знаете, что я сделал? Я подписал ему чистый бланк, чтобы он вставил сам пункты, какие ему нравятся. Все равно, кроме платы, ничего выполнить невозможно. Например: у его уборной должны находиться, по его требованию, два вооруженных солдата с саблями наголо…
Я не мог слушать эти рассказы без смеха.
– Зачем же это ему нужно?
Теляковский отвечал, тоже смеясь:
– А как же! Для устрашения репортеров…
Через некоторое время Теляковский вновь мне сказал:
– Шаляпин-то ваш опять контракт потерял. Жена его положила в шкаф, а шкаф переменил мебельщик. Все ищет, пока поет без контракта. Чтоб удовлетворить его требования, пришлось повысить цены на его спектакли. Что делать? Великий артист… Я лично рассказал государю о Шаляпине, контрактах, декадентах. Государь смеялся и сказал, что ему все только и говорят, что о декадентах в императорском театре.
Вскоре, по уходе Волконского, Теляковский был назначен директором императорских театров в Петербурге. Императорские театры – опера и балет – делали с тех пор полные сборы, и казенные субсидии театрам уменьшились благодаря этому более чем вдвое.
Газеты долго еще продолжали писать о декадентстве. И вдруг – тон изменился. Про меня начали писать: «Наш маститый», «превзошел себя». Уже привыкнув к ругани, я даже испугался: не постарел ли я?…
Шаляпин был в полном расцвете сил и своей славы.
Спектакль в честь Лубе[304]
В Петербург приехал президент Французской республики Лубе.
Весной в Китайском театре в Царском Селе, был назначен парадный спектакль. Я делал декорации для акта «Фонтаны» из балета «Конек-Горбунок», оперы «Фауст» – «Сад Маргариты», а также для сцены «Смерть Бориса», в которой участвовал Шаляпин[305].
Подошел вечер спектакля. Шаляпин одевался и гримировался Борисом. Режиссеры волновались, как бы не опоздал «…»
– Начинайте, начинайте, – говорил Шаляпин.
В это время в уборную к нему зашел великий князь Владимир Александрович.
Сев против гримировавшегося Шаляпина, он спросил его:
– Ну как? Что-нибудь новое учите?
– Некогда, ваше императорское высочество, – ответил Шаляпин. – Некогда.
– А что же?
– У меня француженка, ваше высочество, и какая! Что учить? Когда учить? Все равно все забудешь… Какая француженка! Вы поймете…
– А, а! – засмеялся басом великий князь. – Что же, все может быть. И давно это с вами случилось?
– На днях.
– Федор Иванович, – говорил оробелый режиссер, – увертюра кончается, ваш выход.
– Я слышу, – сказал Шаляпин и быстро поднялся.
Я вышел с ним на сцену. У выходной двери, сзади декораций боярской думы, режиссер, державший дверь, чтобы выпустить в нужный момент Шаляпина, следил по клавиру. Шаляпин, стоя около меня, разговаривал с балетной танцовщицей:
– Господи, если бы я не был женат… Вы так прекрасны! Но это все равно, моя дорогая…
Тут режиссер открыл дверь, и Шаляпин, мгновенно приняв облик обреченного царя, шагнул в дверь со словами:
– Чур, чур, дитя, не я твой лиходей… В голосе его зазвучала трагедия.
Я удивился его опыту и этой невероятной уверенности в себе. Он был поразителен «…» [306].
Скандал
После спектакля Лубе уехал. Все артисты были приглашены к ужину. Мы с Шаляпиным уехали в ресторан «Медведь». К нам присоединился основатель русского оркестра Андреев[307].
В зале ресторана к нам подошел какой-то человек высокого роста, поздоровался с Андреевым и обратился к Шаляпину:
– Я никак не могу достать билет на ваш спектакль. Вы теперь знаменитость, а я вас помню, когда вы еще ею не были. Дайте-ка мне два билета.
– Я же не ношу с собой билетов, – ответил Шаляпин. – Обратитесь в кассу театра.
– Не надо, – сказал пришедший.
И, обратившись к Андрееву, добавил:
– Загордился не в меру! Забыл, как в Казани пятерку у меня выклянчил.
Шаляпин побледнел. Я схватил его за руку и сказал:
– Он же пьян.
Но Шаляпин, вскочив, как тигр, сразу перевернул обидчика в воздухе.
Все, сидевшие кругом, бросились на Шаляпина, повисли на нем… Но он в одно мгновение всех раскидал и вышел в раздевальню: «Едем!» Он весь трясся…
И мы уехали на Стрелку.
– Вот видишь, – сказал Шаляпин, – я нигде не могу бывать. Ни в ресторане, нигде. Вечные скандалы.
Протянув руку, он налил себе вина.
– Смотри, – сказал я, – что это, рука у тебя в крови?
– Да, – ответил он, – что-то этот палец не двигается, распух что-то. Должно быть, я ему здорово дал.
И спросил у Андреева:
– Кто он такой?
– Да ювелир один, я его знаю. Он парень хороший. Ты ведь это зря, Федя, он спьяну.
– Что такое – хороший? Какие же я могу ему дать билеты! Я же их в кармане не ношу. Вообще, у меня никаких билетов нет. Я оговорил в контракте, что буду сам распределять часть билетов публике, но контракт, понимаешь, Иола потеряла. А из-за этого черт знает что выходит… не верит ведь никто, что у меня билетов нет. Будто я дать не хочу. Придется кассу сделать у меня в доме.
– Ерунда, – говорю я. – Что же, у твоих ворот будет всю ночь стоять народ в очереди?
– Ну, так тогда пускай мне дадут полицию, я буду разгонять. Я же говорю, что в этой стране жить нельзя.
Шаляпин опять расстроился.
В это время метрдотель на серебряном подносе подал Шаляпину и нам бокалы с шампанским. Там же лежала карточка. Метрдотель показал на дальний стол.
– Это оттуда вам приказали подать.
Шаляпин взял бокал и стал пристально смотреть на сидевших за дальним столом. Там зааплодировали, и весь зал подхватил.
Аплодируя, кричали:
– Спойте, Шаляпин, спойте.
– Вот видишь, я прав – жить нельзя. – Шаляпин вновь побледнел. – Уйдем, а то будет скандал…
Доругой Шаляпин говорил:
– Я же есть хочу. Поедем к Лейнеру, там сядем в отдельный кабинет.
У Лейнера кабинета не оказалось. Пришлось пойти в «Малый Ярославец». В «Малом Ярославце» – о, радость – мы встретили Глазунова[308] с виолончелистом Вержбиловичем[309]. Они сидели одни за столиком в пустом ресторане и пили коньяк. Глазунов заказал яблоко. Вержбилович сказал:
– Мы блины с ним ели. Сидим – поминаем Петра Ильича Чайковского.
Он обратился ко мне:
– Помните, как мы здесь часто обедали?
И к Шаляпину:
– Жаль, не пришлось ему послушать вас. А то б он написал для вас. Вот Николай Андреевич [Римский-Корсаков] верхним чутьем взял. Учуял, что Шаляпин будет.
– Верно, – подтвердил Глазунов. – Действительно, почуял, что будет артист.
Шаляпин при встрече с большими артистами всегда менял тон. Бывал чрезвычайно любезен и ласков.
– Коньяк хорош, – сказал Глазунов. – И приятно после блинов. Советую с яблоком.
Шаляпин рассказал за ужином про трудности своей жизни и о том, что ему недостаточно платят. Глазунов и Вержбилович слушали молча и рассеянно.
Весна
Слышу, в коридоре звонок. Отворяю – Федор Иванович Шаляпин. Раздеваясь, говорит:
– Весна, оттепель!
Смотрит на меня вопросительно:
– Ты в деревню не едешь? Я свободен эту неделю. Ты там на тягу ходишь в лес. Я бы тоже хотел пойти. Я как-то не знаю, что такое тяга.
В коридоре опять звонок. Отворяю – Павел Александрович Тучков в пенсне, в котелке, лицо веселое. Раздеваясь, говорит:
– Весна. Я еду к тебе. Тянет, понимаешь ли, тянет. Понять надо, да, да…
– Куда тебя тянет? – спрашивает Федор Иванович, закуривая папиросу.
– На природу тянет. Вальдшнепы тянут, жаворонки прилетели. Вы ничего не понимаете. Я сейчас ехал на извозчике к тебе. Он меня везет по теневой стороне. Я говорю – возьми налево, где солнце. А он говорит: «Никак невозможно». – «Держи лево», – говорю ему. А он: «Чего? Мне из-за вас городовой морду побьет». Довольно всего этого. Я еду к тебе сегодня же с ночным. Там заеду к Герасиму[310] и сажусь на кряковую утку. На реке, у леса.
– Если ты едешь один, – говорю я, – то возьми паспорт. А то может нагрянуть урядник, лицо у тебя такое серьезное, подумает: что это за человек такой сердитый живет, взять его под сомнение, А ты – камергер…
– Постой, – Павел Александрович озабоченно полез в боковой карман поискал и достал паспорт.
– Ну-ка, дай, – Федор Иванович взял у него из рук паспорт. – Что же это такое? При-чи-сленный… Какая гадость. – Федор Иванович захохотал.
– Постой, дай сюда, – рассердился Павел Александрович.
Он взял паспорт у Шаляпина и мрачно спросил: «Где это?»
– Да вот тут, – показал Шаляпин. – Ну, «состоящий», «утвержденный» а то «причисленный» – ерунда. Какой-то мелкий чинуша.
– Постой, – уже совсем в сердцах сказал Тучков. – Дай чернила. – И сев за стол, вычеркнул из паспорта обидное слово.
– Причисленный – непричисленный, все это вздор, пошлости. Но весна – и я еду. Сажусь на кряковую утку там, на реке, у леса…
– Позволь, в чем дело? То есть, как же ты на утку сядешь? – спросил Шаляпин.
– Довольно шуток. Ничего не понимаешь и не поймешь. Пой себе, пой, но в охотники не лезь, и все вы ничего не понимаете. Что вам весна? Понимаете, что значит до весны дожить? Дожить до весны – счастье. А вам все равно, у вас там, – он показал на грудь, – пусто. Я еду.
– И я, Павел, еду с тобой, – сказал серьезно Шаляпин. – Но только в чем же, все-таки, дело? Что значит сесть на утку? Надо же ясно говорить.
– Все равно не поймешь, – сказал Павел Александрович. – Не охотник – и молчи.
– Постой, – вступился я. – Все очень просто. Берется утка и небольшой деревянный кружок, плоский, на палке. К кружку веревкой привязывается за лапу утка. Палку с кружком и уткой ставят на воду в реке, недалеко от берега. Утка плавает на привязи около кружка и кричит. А селезни летят на зов утки, и их с берега стреляют.
– А когда же на нее садятся? – серьезно спросил Федор Иванович.
– Довольно пошлостей, – рассердился Павел Александрович. – Вздор. Не то. Утка домашняя не годится. На нее не сядешь. Понимаешь? У ней селезень около всегда свой, а уток Герасим приготовил – ручных, диких, помесь с кряквой. Эти утки орут. Зовут селезней весной, и те летят к ним из пространства. Понимаешь? Женихи летят. А ты сидишь на берегу в кустах и стреляешь – одного, другого, десятого.
– Вот какая история… – сказал Шаляпин. – Бабы вообще бессердечны. Убивают любовника, а ей все равно. Теперь понимаю, в чем дело, и тоже еду…
* * *
На Ярославском вокзале мы все собрались. Публика поглядывала на могучую фигуру Федора Ивановича, одетого охотником, в высоких новых сапогах.
Когда сели в вагон, все были в хорошем настроении.
В весенней ночи горели звезды. К утру приехали на станцию, сели в розвальни, покатили по талой дороге, объезжая большие лужи.
В глубине весеннего неба летели журавли, и лес оглашался пением птиц. О молодость! О весна! О Россия!
Федор Иванович потерял папиросы и рассердился.
В моем доме, в лесу, у самой речки, пахло сосной. В большой комнате – мастерской – шипел самовар… Деревенские лепешки, ватрушки, пирожки… А в окна видны были горящие на солнце сосны, проталины и лужи у сарая. Куры кудахтали – весна, весна…
Герасим принес в корзине уток. Объяснял Федору Ивановичу, что утки эти не домашние, а помесь дикой с домашней. Эта орет, а на домашнюю сегодня не возьмешь…
К вечеру, на берегу разлившейся реки, в кустах, расселись охотники. А в воде, недалеко от берега, поставили кружки, у которых плавали привязанные за лапу утки и орали во все горло. Селезни дуром летели на утиный призыв. Их тут и стреляли.
На утро они были поданы к завтраку. Федор Иванович был очень доволен, хотя, к сожалению, просудился. Насморк. Вероятно потому, что оделся очень тепло в ангорские кофты.
На отдыхе
Это лето [1903 года] Шаляпин и Серов проводили со мной в деревне близ станции Итларь. Я построился в лесу, поблизости от речки Нерли. У меня был чудесный новый дом из соснового леса.
Моими друзьями были охотники-крестьяне из соседних деревень – милейшие люди. Мне казалось, что Шаляпин впервые видит крестьян – он не умел как-то с ними говорить, немножко их побаивался. А если и говорил, то всегда какую-то ерунду, которую они выслушивали с каким-то недоверием.
Он точно роль играл – человека душа нараспашку; все на кого-то жаловался, намекал на горькую участь крестьян, на их тяжелый труд, на их бедность. Часто вздыхал и подпирал щеку кулаком. Друзья мои охотники слушали про все эти тяжкие невзгоды народа, но отвечали как-то невпопад и видимо скучали[311].
Почему взял на себя Шаляпин обязанность радетеля о народе – было непонятно. Да и он сам чувствовал, что роль не удается, и часто выдумывал вещи уже совсем несуразные: про каких-то помещиков, будто бы ездивших на тройке, запряженной голыми девками, которых били кнутами, и прочее в том же роде.
– Этого у нас не бывает, – говаривал ему, усмехаясь, охотник Герасим Дементьевич.
А однажды, когда Шаляпин сказал, что народ нарочно спаивают водкой, чтобы он не сознавал своего положения, заметил:
– Федор Иванович, и ты выпить не дурак. С Никоном-то Осипычем на мельнице, накось, гуся зажарили, так полведра вы вдвоем-то кончили. Тебя на сене на телеге везли, а ты мертво спал. Кто вас неволил?…
* * *
Был полдень. Шаляпин встал и медленно одевался. Умываться ему подавал у террасы дома расторопный Василий Харитонов Белов, маляр, старший мастер декоративной мастерской. Он служил у меня с десятилетнего возраста; когда я впервые охотился в этих местах, отец его упросил меня взять его: «Дитев больно много – прямо одолели».
От меня Василий Белов ушел в солдаты. Служил где-то в Польше и опять вернулся ко мне. Человек он был серьезный и положительный. Лицо имел круглое, сплошь покрытое веснушками, глаза как оловянные пуговицы, роста небольшого, выправка – солдатская. Говорил отчетливо: «Так точно, никак нет». Федор Иванович его очень любил. Любил с ним поговорить.
Разговоры были особенные и очень потешали Шаляпина. Он говорил, что Василий замечательный человек, и хохотал от души. А Василий хмурился и говорил потом на кухне, что у Шаляпина только смехун в голове, сурьеза никакого – хи-хи да ха-ха, а жалованье получает здоровое…
Василий имел особое свойство – все путать. На этот раз, подавая умываться Шаляпину из ковша, рассказал, что студенты – народ самый что ни есть отчаянный – в Москве, на Садовой, в доме Соловейчика, где находится декоративная мастерская, женщину третьего дня зарезали, и в карете скорой медицинской помощи ее отправили в больницу. Он сам видел – до чего кричала! Вот какой народ эти студенты – хуже нет.
– Что же, – спросил Шаляпин, – красива, что ли, она была или богата?
– Чего красива! – с неудовольствием ответил Василий. – Толстая, лет под шестьдесят. Сапожникова жена. Бедные – в подвале жили.
– Ты что-то врешь, Василий, – сказал Шаляпин.
– Вот у вас с Кистинтин Ликсеичем Василий все врет. Веры нету.
– Так зачем же студентам резать какую-то толстую старую бабу, жену бедного сапожника, ты подумай?
– Так ведь студенты!… Народ такой!…
Шаляпин, умывшись, пришел в мою большую мастерскую. Там уж кипел самовар. Подали оладьи горячие, пирожки с визигой, сдобные лепешки, выборгские крендели.
Василий вошел и подал Шаляпину «Московский листок», который он привез с собой, и сказал:
– Вот, сами прочтите, а то все говорите: «Василий врет». – И ушел.
Шаляпин прочел: «Студенты Московского университета, в количестве семи человек, исключаются за невзнос платы». Далее следовало: «В Тверском участке по Садовой улице, в доме Соловейчика, мещанка Пелагея Митрохина, 62 лет, в припадке острого алкоголизма, поранила себе сапожным ножом горло и в карете скорой медицинской помощи была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание».
– Ловко Василий читает, – смеялся Шаляпин. – Замечательный человек.
* * *
Однажды они с Серовым выдумали забаву.
При входе ко мне в мастерскую был у двери вбит сбоку гвоздь. Василий всегда браво входил на зов, вешал на гвоздь картуз, вытягивался и слушал приказания.
И вот однажды Серов вынул гвоздь и вместо него написал гвоздь краской, на пустом месте, и тень от него.
– Василий! – крикнул Шаляпин.
Василий, войдя, по привычке хотел повесить картуз на гвоздь. Картуз упал. Он быстро поднял картуз и вновь его повесил. Картуз опять упал.
Шаляпин захохотал.
Василий посмотрел на Шаляпина, на гвоздь, сообразил, в чем дело, молча повернулся и ушел.
Придя на кухню, говорил, обидевшись:
– В голове у них мало. Одно вредное. С утра все хи-хи да ха-ха… А жалованье все получают во какое!
* * *
– Василий, ну-ка скажи, – помню, спросил у него в другой раз Шаляпин, – видал ты русалку водяную или лесового черта?
– Лесового, его не видал, и русалку не видал, а есть. У нас прапорщик в полку был – Усачев… Красив до чего, ловок. Ну, и за полячками бегал. Они, конечно, с ним то-се. Пошел на пруд купаться. Ну и шабаш – утопили.
– Так, может, он сам утонул?
– Ну нет. Почто ему топиться-то? Они утопили. Все говорили. А лесовиков много по ночи. Здесь место такое, что лесовые заводят. Вот Феоктист надысь рассказывал, что с ним было. Здесь вот, у кургана, ночью шел, так огонь за ним бежал. Он от него, а ему кто-то по морде как даст! Так он, сердешный, до чего бежал – задохся весь. Видит, идет пастушонок, да как его кнутовищем вытянет! А время было позднее, насилу дома-то отдышался.
– Ну и врешь, – сказал Шаляпин. – Феоктисту по морде дали в трактире на станции. Приятеля встретил, пили вместе. А как платить – Феоктист отказался: «Ты меня звал». Вот и получил.
– Ну вот, – огорчился Василий. – А мне говорит: «Это меня лесовик попотчевал ночью здесь, к Кистинтину Лисеичу шел».
И такие разговоры были у Шаляпина с Василием постоянно.
* * *
К вечеру ко мне приехали гости: гофмейстер Н.[312] и архитектор Мазырин – мой школьный товарищ, человек девического облика, по прозвищу Анчутка.
Мазырин, по моему поручению, привез мне лекарства для деревни. Между прочим, целую бутыль касторового масла.
– Это зачем же столько касторового масла? – спросил Шаляпин.
Я сказал:
– Я его люблю принимать с черным хлебом.
– Ну, это врешь. Это невозможно любить.
Я молча взял стакан, налил касторового масла, обмакнул хлеб и съел.
Шаляпин в удивлении смотрел на меня и сказал Серову:
– Антон! Ты посмотри, что Константин делает. Я же запаха слышать не могу.
– Очень вкусно, – сказал я. – У тебя просто нет силы воли преодолеть внушение.
– Это верно, – встрял в разговор Анчутка, – характера нет.
– Не угодно ли, характера нет! А ты сам попробуй…
Мазырин сказал:
– Налей мне.
Я налил в стакан. Он выпил с улыбкой и вытер губы платком.
– В чем же дело? – удивился Шаляпин. – Налей и мне.
Я налил ему полстакана. Шаляпин, закрыв глаза, выпил залпом.
– Приятное препровождение времени у вас тут, – сказал гофмейстер.
Шаляпин побледнел и бросился вон из комнаты…
– Что делается, – засмеялся Серов и вышел вслед за Шаляпиным.
Шаляпин лежал у сосны, а Василий Белов поил его водой. Отлежавшись, Шаляпин пососал лимон и обвязал голову мокрым полотенцем. Мрачнее ночи вернулся он к нам.
– Благодарю. Угостили. А вот Анчутка – ничего. Странное дело…
Он взглянул на бутыль и крикнул:
– Убери скорей, я же видеть ее не могу…
И снова опрометью кинулся вон.
Приезд Горького
Утром рано, чем свет, когда мы все спали, отворилась дверь, и в комнату вошел Горький.
В руках у него была длинная палка. Он был одет в белое непромокаемое пальто. На голове – большая серая шляпа. Черная блуза, подпоясанная простым ремнем. Большие начищенные сапоги на высоких каблуках.
– Спать изволят? – спросил Горький.
– Раздевайтесь, Алексей Максимович, – ответил я. – Сейчас я распоряжусь – чай будем пить.
Федор Иванович спал, как убитый, после всех тревог. С ним спала моя собака Феб, которая его очень любила.
Гофмейстер и Серов спали наверху в светелке.
– Здесь у вас, должно быть, грибов много, – говорил Горький за чаем. – Люблю собирать грибы. Мне Федор говорил, что вы страстный охотник. Я бы не мог убивать птиц. Люблю я певчих птиц.
– Вы кур не едите? – спросил я.
– Как сказать… Ем, конечно… Яйца люблю есть. Но курицу ведь режут… Неприятно… Я, к счастью, этого не видал и смотреть не могу.
– А телятину едите?
– Да как же, ем. Окрошку люблю. Конечно, это все несправедливо.
– Ну, а ветчину?
– Свинья все-таки животное эгоистическое. Ну конечно, тоже бы не следовало.
– Свинья по четыре раза в год плодится, – сказал Мазырин. – Если их не есть, то они так расплодятся, что сожрут всех людей.
– Да, в природе нет высшей справедливости, – сказал Горький. – Мне, в сущности, жалко птиц и коров тоже. Молоко у них отнимают, детей едят. А корова ведь сама мать. Человек – скотина порядочная. Если бы меньше было людей, было бы гораздо лучше жить.
– Не хотите ли, Алексей Максимович, поспать с дороги? – предложил я.
– Да, пожалуй, – сказал Горький. – У вас ведь сарай есть. Я бы хотел на сене поспать, давно на сене не спал.
– У меня свежее сено. Только там, в сарае, барсук ручной живет. Вы не испугаетесь? Он не кусается.
– Не кусается – это хорошо. Может быть, он только вас не кусает?
– Постойте, – я пойду его выгоню.
– Ну, пойдемте, я посмотрю, что за зверюга.
Я выгнал из сарая барсука. Он выскочил на свет, сел на травку и стал гладить себя лапками.
– Все время себя охорашивает, – сказал я, – чистый зверь.
– А морда-то у него свиная.
Барсук как-то захрюкал и опять проскочил в сарай.
Горький проводил его взглядом и сказал:
– Стоит ли ложиться?
Видно было, что он боялся барсука, и я устроил ему постель в комнате моего сына, который остался в Москве[313].
К обеду я заказал изжарить кур и гуся, уху из рыбы, пойманной нами, раков, которых любил Шаляпин, жареные грибы, пирог с капустой, слоеные пирожки, ягоды со сливками.
За едой гофмейстер рассказал о том, как ездил на открытие мощей преподобного Серафима Саровского, где был и государь, говорил, что сам видел исцеления больных: человек, который не ходил шестнадцать лет, встал и пошел.
– Исцеление! – засмеялся Горький. – Это бывает и в клиниках. Вот во время пожара параличные сразу выздоравливают и начинают ходить. Причем здесь все эти угодники?
– Вы не верите, что есть угодники? – спросил гофмейстер.
– Нет, я не верю ни в каких святых.
– А как же, – сказал гофмейстер, – Россия-то создана честными людьми веры и праведной жизни.
– Ну нет. Тунеядцы ничего не могут создать. Россия создавалась трудом народа.
– Пугачевыми, – сказал Серов.
– Ну, неизвестно, что было бы, если бы Пугачев победил.
– Вряд ли, все же, Алексей Максимович, от Пугачева можно было ожидать свободы, – сказал гофмейстер. – А сейчас вы находите – народ не свободен?








